---------------------------------------------------------------
Перевод с английского И. Гуровой
Рисунки Б.Дехтерева
издательство "ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА" МОСКВА 1966
И (Англ.) Т 67
OCR: Борис Толстиков
---------------------------------------------------------------
Наши читатели знакомы с повестью английского писателя Дзкефри Триза
"Фиалковый венец" -- о Греции V века до нашей эры, в которой рассказывается,
как афинский юноша Алексид помог разоблачить заговор против демократии и
написал комедию "Овод". "Холмы Варны" -- продолжение книги "Фиалковый
венец", действие повести развертывается спустя две тысячи лет, в эпоху
Возрождения. Юные гуманисты Алан и Анджела, ученики и помощники знаменитого
писателя Эразма Роттердамского и книгопечатника Альда Мануция, совершают
полное опасностей и приключений путешествие из Венеции на Балканы. Они
разыскивают рукопись Алексина, считавшуюся утерянной.
 -- А ну повтори! -- взревел студент из Нориджа, уже грузный, несмотря
на свою молодость.
Алан поднял глаза, и они насмешливо блеснули в желтом свете свечи. Трое
студентов грозно стояли у его стола, отрезая ему путь к отступлению. Он знал
их в лицо: хвастливые забияки из колледжа, который издавна враждовал с его
собственным. Лучше не вызывать их на ссору, если это окажется возможным.
-- А зачем мне повторять? -- спросил он невозмутимо. -- Истина
останется истиной, а ложь -- ложью, сколько их ни повторяй.
Студент из Нориджа подступил к Алану -- от выпитого вина его лицо
побагровело. Он наклонился и так ударил кулаком по столу, что оловянные
кружки подпрыгнули.
-- То, что ты сказал, -- это гнуснейшая дьявольская ересь! -- кричал
он. -- И тебя стоило бы прогнать по улицам Кембриджа бичами.
-- И вышвырнуть из университета, -- добавил щуплый юнец с вытянутой
лисьей мордочкой.
Алан рассмеялся, но, когда он заговорил, в его голосе прозвучала резкая
нота.
-- За что же, милостивые государи? За мои слова о том, что Земля не
центр Вселенной, а лишь одна из многих планет, которые обращаются вокруг
Солнца? Но ведь это уже несколько лет назад сказал Коперник.
-- А что это еще за Коперник? -- спросил третий из его врагов с такой
наглой усмешкой, что Алан невольно сжал кулаки. Но их было трое, да и
университетское начальство весьма не одобряло драки в городских харчевнях.
-- Коперник -- самый прославленный астроном Европы...
-- Самый заклятый лжец и еретик, -- перебил его толстяк. -- Ведь каждый
верный сын церкви знает, что Земля плоская, иначе мы все с нее попадали бы.
И солнце ходит вокруг Земли. А то почему бы оно вставало на востоке и
садилось на западе?
Его тупое самодовольство вывело Алана из себя: он не выносил невежества
и не умел терпеливо выслушивать глупости. Уже не думая о последствиях, он
вскочил, оттолкнув табурет.
-- Дражайшие друзья мои... -- начал он с мягкой насмешкой.
-- Мы тебе не друзья, -- прошипел обладатель лисьей физиономии.
-- Но, во всяком случае, вы уже не дети. Мы все здесь взрослые люди,
которым уже исполнилось шестнадцать, если не семнадцать лет.
-- Ну и что?
-- И мы живем в тысяча пятьсот девятом году, а не в тысяча четыреста
девятом. И, несмотря на молодость, мы уже были свидетелями тому, как многие
умные люди изменили свое представление о Вселенной. Путешествия Колумба,
Васко да Гамы и...
-- Ты что, хочешь сказать, что мы дураки? -- брызгая слюной, закричал
толстяк и схватился за шпагу. -- Ах ты... ты... святотатец, йоркширский
мужлан!
-- Мне незачем об этом говорить, -- отрезал Алан. -- Достаточно ваших
собственных слов.
В желтом свете блеснули узкие стальные лезвия. Все посетители харчевни
вскочили, а самые любопытные с опаской подошли поближе. Алан занес над
головой тяжелый табурет.
-- Вспомните, милостивые государи, что в университете запрещено
обнажать шпаги, -- процедил он сквозь зубы.
-- Трус!
-- О нет. Первому дураку из колледжа Святого Петра, который попробует
напасть на меня, я вышибу мозги этим табуретом -- если найдется, что
вышибать, в чем я, впрочем, сомневаюсь.
Едва он умолк, толстяк из Нориджа с пьяным воплем ринулся вперед. Алан
отскочил и так ударил его по руке, сжимавшей шпагу, что толстяк покатился по
камышу, устилавшему пол. К тому времени, когда он с трудом поднялся, Алан
уже успел подобрать его шпагу и встал в позицию против остальных двух, держа
табурет в левой руке, как щит.
-- Всемилостивейшие господа! -- кричал трактирщик, кидаясь между ними с
распростертыми руками.
Но кто-то из студентов колледжа Святого Петра оттолкнул его, и шпаги с
лязгом скрестились. Толстяк выхватил шпагу у своего щуплого приятеля и с
мстительным ревом подскочил к Алану.
Но нападение двух врагов не смутило молодого йоркширца. Его
зеленовато-синие глаза по-прежнему насмешливо блестели, а волосы цвета
спелой пшеницы даже не растрепались. Невысокий и худой, он казался хрупким,
но это впечатление было обманчивым. Его руки обладали крепостью стали, в чем
не замедлили убедиться его противники. Опасен ему был только студент из
Нориджа, наделенный бычьей силой. Правда, ни толстяк, ни его приятель не
владели тонкостями фехтовального искусства, как его понимал Алан, который
еще мальчишкой фехтовал с Эндрью -- старым солдатом, закаленным во многих
боях, -- но тем не менее против силача ему пришлось пустить в ход все свое
умение. Алан принимал удары его шпаги на табурет, а сам тем временем,
применив излюбленный прием старика Эндрью, вышиб шпагу у более слабого
противника. Она упала на камыш, и Алан ногой отбросил ее к стене позади
себя, отшвырнул табурет и скрестил шпаги с толстяком.
Все описанное заняло не более минуты, но у Алан не было ни малейшего
желания затягивать бой. Трактирщик уже выбежал на темную улицу, громко
призывая стражу. Если стражники явятся сюда, будет плохо, и еще хуже, если
придут не они, а университетские надзиратели со своей охраной. Алана даже
могут исключить из Кембриджа, и тогда ему придется вернуться в угрюмый серый
дом тетки, в затерянное среди северных болот поместье, где нет книг, нет
никаких источников знания, никакой пищи для ума -- где он будет похоронен
заживо.
Если бы только ему удалось обезоружить толстяка без кровопролития!..
Это было бы лучше всего.
Шпаги вновь скрестились, и лезвия со скрежетом скользнули одно по
другому. Пламя свечей плясало от ветра, поднятого мечущимися телами. "Еще
миг, -- подумал Алан, -- и он в моей власти..."
Бац! Это ему в лицо выплеснули кружку эля. На секунду ослепленный, он
услышал визгливый смешок щуплого юнца, и тут же пальцы, сжимавшие шпагу,
опоясала жгучая боль и по ним заструилась кровь.
Задыхаясь от бешенства, он вытер глаза, в которых теперь не было
улыбки. Острие его шпаги впилось в правую руку толстяка у самого плеча.
Толстяк завопил и уронил шпагу.
А потом все смешалось. В драпу ввязывались все новые люди, не разбирая,
кто прав, кто виноват, и стараясь только как можно лучше отделать
ненавистных школяров. Словно в тумане Алан увидел занесенные палки и
табуреты, опрокидывающиеся свечи, сверкающие ножи и трактирщицу с ведром,
выплескивающую помои на всю честную компанию. Кто-то крикнул, что идут
стражники. Начиналось настоящее побоище между горожанами и студентами. Алан
решил, что пора исчезнуть.
Он с трудом добрался до дверей. По-прежнему падал легкий снежок, и
холодные хлопья обожгли разгоряченное лицо юноши. В конце улицы
подпрыгивали, приближаясь, два фонаря. Позади него в дверях харчевни
раздался крик:
-- Хватайте его! Он убийца!
Конечно, он никого не убил, но все же разумнее было удалиться, не
вступая в спор. Алан отбросил чужую шпагу в сугроб и бесшумно кинулся по
улице в сторону, противоположную той, откуда приближались стражники.
Знают ли они его? Они назвали его йоркширцем. Из-за его произношения?
Или им известно, что он Алан Дрейтон, студент колледжа Святой Марии?
Что толку гадать! Лучше припуститься во весь дух. Позади раздался шум
погони. Он помчался со всех ног, петляя по узким проулкам, ныряя под черные
своды арок, припушенные мягким снежком. Нет, прямо в колледж бежать нельзя,
надо свернуть, сбить их со следа. Хорошо еще, что настоящего-то следа он не
оставляет -- снег уже был истоптан десятками ног. Да, улочки Кембриджа не
похожи на Пеннинские пустоши, где он не раз гнался за оленем, отыскав его по
темной цепочке следов, протянувшейся через незапятнанно белую снежную
пелену, покрывшую равнину.
Он остановился в тени ворот. Теперь глубокую тишину нарушал только звук
его собственного тяжелого дыхания, белыми облачками расходившегося в
морозной воздухе. Значит, ему удалось уйти от погони. Отлично. А теперь -- к
себе, в колледж Святой Марии. Что лучше: открыто постучать в ворота или
тайком пробраться по крыше? Но в этом случае привратник отметит, что он не
ночевал в колледже. Нет, надо воспользоваться воротами. Иначе он окажется
повинным в серьезном нарушении правил: студентам запрещалось оставаться в
городе после полуночи.
Алан плотнее закутался в свой черный плащ и неторопливо зашагал по
улице, словно ничто не нарушило спокойной прогулки, которая и завершилась бы
мирно, если бы ему не вздумалось выпить злополучную кружку эля в харчевне,
где уже расположились забияки из колледжа Святого Петра.
Но его продолжали преследовать неудачи. Завернув за угол, он увидел у
ворот своего колледжа толпу с фонарями и факелами. Тихонько пробираясь в
тени домов, он услышал исполненный достоинства голос декана, гремевший за
зарешеченным •оконцем:
-- Я не желаю знать, кто вы такой, любезный сэр. Я декан колледжа
Святой Марии, и эти ворота не открываются ни по требованию университетских
надзирателей, ни по требованию городской стражи. Никакого обыска в своем
колледже я не допущу. Утром я расследую вашу жалобу, и, если подтвердится,
что один из наших студентов повинен, в подобном деянии, он будет передан в
руки надлежащих властей.
Алан поспешил ретироваться. Нет, пожалуй, все-таки придется лезть по
крыше.
Когда Алан вошел в большую комнату, которую он делил с тремя
товарищами, Мэтью и Годфри уже спали, но из-под двери комнаты для занятий
пробивалась полоска света: значит, Дик опять засиделся над книгами. Алан на
цыпочках прошел через спальню и, приоткрыв вторую дверь, сунул голову в
щель.
-- Никак не можешь оторваться от греков? -- спросил он шепотом.
-- Дик поднял голову, и его худое бледное лицо осветилось улыбкой.
-- Просто нет сил закрыть книгу, -- сказал он. -- В ней все так ново,
столько замечательных мыслей и идей, которые мне даже не снились...
-- Не так уж они новы. Им же больше двух тысяч лет. -- С этими словами
Алан пересек комнату и уселся на край стола.
-- Но для нас они новые. Ведь прошло лишь несколько десятилетий с тех
пор, как они стали нам доступны. -- В глазах Дика вспыхнул восторг. --
Насколько же они опередили нас! Какие сокровища знаний -- наука, а не
бабушкины сказки! Нет, Алан, греки -- это целый мир, который нам еще
предстоит исследовать. Это... это Америка духа!
-- Знаю. Я чувствую то же самое. Но, -- тут Алан грустно улыбнулся, --
мне, пожалуй, уже не придется исследовать этот мир.
-- Почему? Алан, что случилось? У тебя вся рука в крови!
-- Небольшой спор с коллегами-учеными. -- Его голос снова стал
насмешливым. -- Тупые ослы назвали меня лжецом, еретиком и еще кое-чем в том
же роде.
-- А что ты им сказал?
-- Только повторил слова великого поляка Коперника. Сказал о том, что
прекрасно знали греки Аристарх Самосский, например, и Гераклид Понтийский
[1] за много веков до того, как был заложен первый камень этого
высокоученого университета.
[1] Аристарх Самосский (ок. 320-250 гг. до н. э.) -- древнегреческий
философ. Наблюдая за движением планет, он пришел к выводу, что Земля
вращается вокруг Солнца.Однако его теория не получила распространения.
Гераклид Понтийский (IV век до н. э.) -- древнегреческий философ. Он
утверждал, что Земля вращается вокруг своей оси.
Дик встревожился.
-- Ты дрался с кем-нибудь?
-- Немножко. Они пустили в ход подлую штуку, и мне пришлось отделать
одного из них сильнее, чем я собирался.
-- Это скверно, Алан.
-- Знаю. -- Алан соскочил со стола и продолжал быстро: -- В лучшем
случае меня выгонят из Кембриджа. А если рана тяжелее, чем я думал, одному
богу известно, что со мной будет. Поэтому лучше мне уйти самому, прежде чем
меня принудят.
-- Ты вернешься домой? Алан горько усмехнулся:
-- А есть ли у меня дом? Дейлгарт, эта холодная темница в далекой
глуши? Тетка мне не обрадуется. Старик Эндрью умер, и у меня там нет больше
друзей.
-- Но как же так? А друзья твоего отца? Ведь Дрейтоны -- такой древний
род!
-- Который в войне Алой и Белой розы оказался на стороне побежденного
[2]. У нас не осталось друзей с тех пор, как мои дядья лишились головы, а
мой отец -- земель за то, что на Босуортском поле они сражались за Ричарда.
Нет! -- Он принялся расхаживать по каморке. -- Люди не забывают того... о
чем следовало бы забыть. Хотя со смерти моего отца прошло десять лет, а я --
последний в роде Дрейтонов, Генрих Тюдор по-прежнему не жалует нас. Если
дело дойдет до суда, это может сослужить мне плохую службу.
[2] Династическая война (1455--1485), которая велась в Англии
Ланкастерами, в чьем гербе была алая роза, и Йорками, имевшими в гербе белую
розу. Она завершилась победой Ланкастеров, и на престол Англии взошел Генрих
VII Тюдор, разбивший в битве при Босуорте короля Ричарда III из дома Йорков.
-- Так куда же ты пойдешь?
-- Не знаю, Дик. Во всяком случае, ясно одно: до зари мне надо убраться
из колледжа, да и из Кембриджа тоже. Если бы я мог попросить у кого-нибудь
совета!
-- Алан! -- Дик взволнованно вскочил с табурета. -- Ведь в Кембридже
есть человек, который способен тебе помочь -- даже помочь уехать из страны,
если понадобится.
-- Кто же?
-- Эразм!
-- Пожалуй... Но не могу же я идти к Эразму ночью!
-- Почему же? Он всегда работает чуть ли не до рассвета. А ты один из
самых любимых его учеников, один из горстки верных греков, как он нас
называет. -- Дик настойчиво потянул Алана за рукав. -- Иди к нему, не теряя
времени! Он самый прославленный человек в Европе, у него повсюду есть
друзья. Кое в чем он даже могущественнее королей.
-- Хорошо. -- Алан направился к двери в спальню. -- Я захвачу свои
пожитки, ведь я вряд ли еще вернусь сюда. Утром передай Мэтью и Годфри мой
прощальный привет.
-- Счастливого пути! -- Дик печально пожал ему руку. -- И что бы ни
случилось, где бы ты ни оказался, не забывай греческого.
-- Будь спокоен. -- Алан негромко засмеялся, стараясь скрыть
собственную грусть.
Пять минут спустя темная фигура бесшумно прокралась по заснеженной
крыше и спрыгнула в переулок Святой Марии,
-- А ну повтори! -- взревел студент из Нориджа, уже грузный, несмотря
на свою молодость.
Алан поднял глаза, и они насмешливо блеснули в желтом свете свечи. Трое
студентов грозно стояли у его стола, отрезая ему путь к отступлению. Он знал
их в лицо: хвастливые забияки из колледжа, который издавна враждовал с его
собственным. Лучше не вызывать их на ссору, если это окажется возможным.
-- А зачем мне повторять? -- спросил он невозмутимо. -- Истина
останется истиной, а ложь -- ложью, сколько их ни повторяй.
Студент из Нориджа подступил к Алану -- от выпитого вина его лицо
побагровело. Он наклонился и так ударил кулаком по столу, что оловянные
кружки подпрыгнули.
-- То, что ты сказал, -- это гнуснейшая дьявольская ересь! -- кричал
он. -- И тебя стоило бы прогнать по улицам Кембриджа бичами.
-- И вышвырнуть из университета, -- добавил щуплый юнец с вытянутой
лисьей мордочкой.
Алан рассмеялся, но, когда он заговорил, в его голосе прозвучала резкая
нота.
-- За что же, милостивые государи? За мои слова о том, что Земля не
центр Вселенной, а лишь одна из многих планет, которые обращаются вокруг
Солнца? Но ведь это уже несколько лет назад сказал Коперник.
-- А что это еще за Коперник? -- спросил третий из его врагов с такой
наглой усмешкой, что Алан невольно сжал кулаки. Но их было трое, да и
университетское начальство весьма не одобряло драки в городских харчевнях.
-- Коперник -- самый прославленный астроном Европы...
-- Самый заклятый лжец и еретик, -- перебил его толстяк. -- Ведь каждый
верный сын церкви знает, что Земля плоская, иначе мы все с нее попадали бы.
И солнце ходит вокруг Земли. А то почему бы оно вставало на востоке и
садилось на западе?
Его тупое самодовольство вывело Алана из себя: он не выносил невежества
и не умел терпеливо выслушивать глупости. Уже не думая о последствиях, он
вскочил, оттолкнув табурет.
-- Дражайшие друзья мои... -- начал он с мягкой насмешкой.
-- Мы тебе не друзья, -- прошипел обладатель лисьей физиономии.
-- Но, во всяком случае, вы уже не дети. Мы все здесь взрослые люди,
которым уже исполнилось шестнадцать, если не семнадцать лет.
-- Ну и что?
-- И мы живем в тысяча пятьсот девятом году, а не в тысяча четыреста
девятом. И, несмотря на молодость, мы уже были свидетелями тому, как многие
умные люди изменили свое представление о Вселенной. Путешествия Колумба,
Васко да Гамы и...
-- Ты что, хочешь сказать, что мы дураки? -- брызгая слюной, закричал
толстяк и схватился за шпагу. -- Ах ты... ты... святотатец, йоркширский
мужлан!
-- Мне незачем об этом говорить, -- отрезал Алан. -- Достаточно ваших
собственных слов.
В желтом свете блеснули узкие стальные лезвия. Все посетители харчевни
вскочили, а самые любопытные с опаской подошли поближе. Алан занес над
головой тяжелый табурет.
-- Вспомните, милостивые государи, что в университете запрещено
обнажать шпаги, -- процедил он сквозь зубы.
-- Трус!
-- О нет. Первому дураку из колледжа Святого Петра, который попробует
напасть на меня, я вышибу мозги этим табуретом -- если найдется, что
вышибать, в чем я, впрочем, сомневаюсь.
Едва он умолк, толстяк из Нориджа с пьяным воплем ринулся вперед. Алан
отскочил и так ударил его по руке, сжимавшей шпагу, что толстяк покатился по
камышу, устилавшему пол. К тому времени, когда он с трудом поднялся, Алан
уже успел подобрать его шпагу и встал в позицию против остальных двух, держа
табурет в левой руке, как щит.
-- Всемилостивейшие господа! -- кричал трактирщик, кидаясь между ними с
распростертыми руками.
Но кто-то из студентов колледжа Святого Петра оттолкнул его, и шпаги с
лязгом скрестились. Толстяк выхватил шпагу у своего щуплого приятеля и с
мстительным ревом подскочил к Алану.
Но нападение двух врагов не смутило молодого йоркширца. Его
зеленовато-синие глаза по-прежнему насмешливо блестели, а волосы цвета
спелой пшеницы даже не растрепались. Невысокий и худой, он казался хрупким,
но это впечатление было обманчивым. Его руки обладали крепостью стали, в чем
не замедлили убедиться его противники. Опасен ему был только студент из
Нориджа, наделенный бычьей силой. Правда, ни толстяк, ни его приятель не
владели тонкостями фехтовального искусства, как его понимал Алан, который
еще мальчишкой фехтовал с Эндрью -- старым солдатом, закаленным во многих
боях, -- но тем не менее против силача ему пришлось пустить в ход все свое
умение. Алан принимал удары его шпаги на табурет, а сам тем временем,
применив излюбленный прием старика Эндрью, вышиб шпагу у более слабого
противника. Она упала на камыш, и Алан ногой отбросил ее к стене позади
себя, отшвырнул табурет и скрестил шпаги с толстяком.
Все описанное заняло не более минуты, но у Алан не было ни малейшего
желания затягивать бой. Трактирщик уже выбежал на темную улицу, громко
призывая стражу. Если стражники явятся сюда, будет плохо, и еще хуже, если
придут не они, а университетские надзиратели со своей охраной. Алана даже
могут исключить из Кембриджа, и тогда ему придется вернуться в угрюмый серый
дом тетки, в затерянное среди северных болот поместье, где нет книг, нет
никаких источников знания, никакой пищи для ума -- где он будет похоронен
заживо.
Если бы только ему удалось обезоружить толстяка без кровопролития!..
Это было бы лучше всего.
Шпаги вновь скрестились, и лезвия со скрежетом скользнули одно по
другому. Пламя свечей плясало от ветра, поднятого мечущимися телами. "Еще
миг, -- подумал Алан, -- и он в моей власти..."
Бац! Это ему в лицо выплеснули кружку эля. На секунду ослепленный, он
услышал визгливый смешок щуплого юнца, и тут же пальцы, сжимавшие шпагу,
опоясала жгучая боль и по ним заструилась кровь.
Задыхаясь от бешенства, он вытер глаза, в которых теперь не было
улыбки. Острие его шпаги впилось в правую руку толстяка у самого плеча.
Толстяк завопил и уронил шпагу.
А потом все смешалось. В драпу ввязывались все новые люди, не разбирая,
кто прав, кто виноват, и стараясь только как можно лучше отделать
ненавистных школяров. Словно в тумане Алан увидел занесенные палки и
табуреты, опрокидывающиеся свечи, сверкающие ножи и трактирщицу с ведром,
выплескивающую помои на всю честную компанию. Кто-то крикнул, что идут
стражники. Начиналось настоящее побоище между горожанами и студентами. Алан
решил, что пора исчезнуть.
Он с трудом добрался до дверей. По-прежнему падал легкий снежок, и
холодные хлопья обожгли разгоряченное лицо юноши. В конце улицы
подпрыгивали, приближаясь, два фонаря. Позади него в дверях харчевни
раздался крик:
-- Хватайте его! Он убийца!
Конечно, он никого не убил, но все же разумнее было удалиться, не
вступая в спор. Алан отбросил чужую шпагу в сугроб и бесшумно кинулся по
улице в сторону, противоположную той, откуда приближались стражники.
Знают ли они его? Они назвали его йоркширцем. Из-за его произношения?
Или им известно, что он Алан Дрейтон, студент колледжа Святой Марии?
Что толку гадать! Лучше припуститься во весь дух. Позади раздался шум
погони. Он помчался со всех ног, петляя по узким проулкам, ныряя под черные
своды арок, припушенные мягким снежком. Нет, прямо в колледж бежать нельзя,
надо свернуть, сбить их со следа. Хорошо еще, что настоящего-то следа он не
оставляет -- снег уже был истоптан десятками ног. Да, улочки Кембриджа не
похожи на Пеннинские пустоши, где он не раз гнался за оленем, отыскав его по
темной цепочке следов, протянувшейся через незапятнанно белую снежную
пелену, покрывшую равнину.
Он остановился в тени ворот. Теперь глубокую тишину нарушал только звук
его собственного тяжелого дыхания, белыми облачками расходившегося в
морозной воздухе. Значит, ему удалось уйти от погони. Отлично. А теперь -- к
себе, в колледж Святой Марии. Что лучше: открыто постучать в ворота или
тайком пробраться по крыше? Но в этом случае привратник отметит, что он не
ночевал в колледже. Нет, надо воспользоваться воротами. Иначе он окажется
повинным в серьезном нарушении правил: студентам запрещалось оставаться в
городе после полуночи.
Алан плотнее закутался в свой черный плащ и неторопливо зашагал по
улице, словно ничто не нарушило спокойной прогулки, которая и завершилась бы
мирно, если бы ему не вздумалось выпить злополучную кружку эля в харчевне,
где уже расположились забияки из колледжа Святого Петра.
Но его продолжали преследовать неудачи. Завернув за угол, он увидел у
ворот своего колледжа толпу с фонарями и факелами. Тихонько пробираясь в
тени домов, он услышал исполненный достоинства голос декана, гремевший за
зарешеченным •оконцем:
-- Я не желаю знать, кто вы такой, любезный сэр. Я декан колледжа
Святой Марии, и эти ворота не открываются ни по требованию университетских
надзирателей, ни по требованию городской стражи. Никакого обыска в своем
колледже я не допущу. Утром я расследую вашу жалобу, и, если подтвердится,
что один из наших студентов повинен, в подобном деянии, он будет передан в
руки надлежащих властей.
Алан поспешил ретироваться. Нет, пожалуй, все-таки придется лезть по
крыше.
Когда Алан вошел в большую комнату, которую он делил с тремя
товарищами, Мэтью и Годфри уже спали, но из-под двери комнаты для занятий
пробивалась полоска света: значит, Дик опять засиделся над книгами. Алан на
цыпочках прошел через спальню и, приоткрыв вторую дверь, сунул голову в
щель.
-- Никак не можешь оторваться от греков? -- спросил он шепотом.
-- Дик поднял голову, и его худое бледное лицо осветилось улыбкой.
-- Просто нет сил закрыть книгу, -- сказал он. -- В ней все так ново,
столько замечательных мыслей и идей, которые мне даже не снились...
-- Не так уж они новы. Им же больше двух тысяч лет. -- С этими словами
Алан пересек комнату и уселся на край стола.
-- Но для нас они новые. Ведь прошло лишь несколько десятилетий с тех
пор, как они стали нам доступны. -- В глазах Дика вспыхнул восторг. --
Насколько же они опередили нас! Какие сокровища знаний -- наука, а не
бабушкины сказки! Нет, Алан, греки -- это целый мир, который нам еще
предстоит исследовать. Это... это Америка духа!
-- Знаю. Я чувствую то же самое. Но, -- тут Алан грустно улыбнулся, --
мне, пожалуй, уже не придется исследовать этот мир.
-- Почему? Алан, что случилось? У тебя вся рука в крови!
-- Небольшой спор с коллегами-учеными. -- Его голос снова стал
насмешливым. -- Тупые ослы назвали меня лжецом, еретиком и еще кое-чем в том
же роде.
-- А что ты им сказал?
-- Только повторил слова великого поляка Коперника. Сказал о том, что
прекрасно знали греки Аристарх Самосский, например, и Гераклид Понтийский
[1] за много веков до того, как был заложен первый камень этого
высокоученого университета.
[1] Аристарх Самосский (ок. 320-250 гг. до н. э.) -- древнегреческий
философ. Наблюдая за движением планет, он пришел к выводу, что Земля
вращается вокруг Солнца.Однако его теория не получила распространения.
Гераклид Понтийский (IV век до н. э.) -- древнегреческий философ. Он
утверждал, что Земля вращается вокруг своей оси.
Дик встревожился.
-- Ты дрался с кем-нибудь?
-- Немножко. Они пустили в ход подлую штуку, и мне пришлось отделать
одного из них сильнее, чем я собирался.
-- Это скверно, Алан.
-- Знаю. -- Алан соскочил со стола и продолжал быстро: -- В лучшем
случае меня выгонят из Кембриджа. А если рана тяжелее, чем я думал, одному
богу известно, что со мной будет. Поэтому лучше мне уйти самому, прежде чем
меня принудят.
-- Ты вернешься домой? Алан горько усмехнулся:
-- А есть ли у меня дом? Дейлгарт, эта холодная темница в далекой
глуши? Тетка мне не обрадуется. Старик Эндрью умер, и у меня там нет больше
друзей.
-- Но как же так? А друзья твоего отца? Ведь Дрейтоны -- такой древний
род!
-- Который в войне Алой и Белой розы оказался на стороне побежденного
[2]. У нас не осталось друзей с тех пор, как мои дядья лишились головы, а
мой отец -- земель за то, что на Босуортском поле они сражались за Ричарда.
Нет! -- Он принялся расхаживать по каморке. -- Люди не забывают того... о
чем следовало бы забыть. Хотя со смерти моего отца прошло десять лет, а я --
последний в роде Дрейтонов, Генрих Тюдор по-прежнему не жалует нас. Если
дело дойдет до суда, это может сослужить мне плохую службу.
[2] Династическая война (1455--1485), которая велась в Англии
Ланкастерами, в чьем гербе была алая роза, и Йорками, имевшими в гербе белую
розу. Она завершилась победой Ланкастеров, и на престол Англии взошел Генрих
VII Тюдор, разбивший в битве при Босуорте короля Ричарда III из дома Йорков.
-- Так куда же ты пойдешь?
-- Не знаю, Дик. Во всяком случае, ясно одно: до зари мне надо убраться
из колледжа, да и из Кембриджа тоже. Если бы я мог попросить у кого-нибудь
совета!
-- Алан! -- Дик взволнованно вскочил с табурета. -- Ведь в Кембридже
есть человек, который способен тебе помочь -- даже помочь уехать из страны,
если понадобится.
-- Кто же?
-- Эразм!
-- Пожалуй... Но не могу же я идти к Эразму ночью!
-- Почему же? Он всегда работает чуть ли не до рассвета. А ты один из
самых любимых его учеников, один из горстки верных греков, как он нас
называет. -- Дик настойчиво потянул Алана за рукав. -- Иди к нему, не теряя
времени! Он самый прославленный человек в Европе, у него повсюду есть
друзья. Кое в чем он даже могущественнее королей.
-- Хорошо. -- Алан направился к двери в спальню. -- Я захвачу свои
пожитки, ведь я вряд ли еще вернусь сюда. Утром передай Мэтью и Годфри мой
прощальный привет.
-- Счастливого пути! -- Дик печально пожал ему руку. -- И что бы ни
случилось, где бы ты ни оказался, не забывай греческого.
-- Будь спокоен. -- Алан негромко засмеялся, стараясь скрыть
собственную грусть.
Пять минут спустя темная фигура бесшумно прокралась по заснеженной
крыше и спрыгнула в переулок Святой Марии,
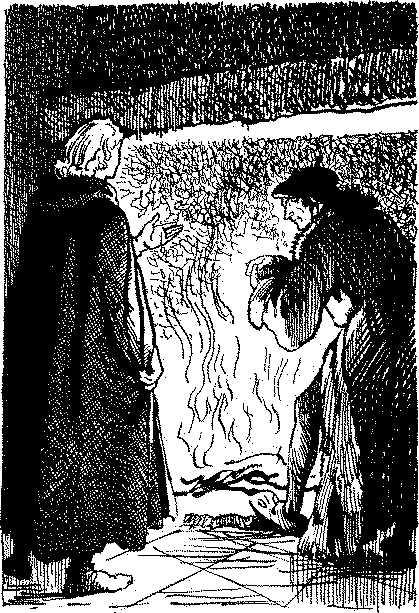
Глава вторая. УДИВИТЕЛЬНОЕ СОКРОВИЩЕ
-- Боюсь, любезный Дрейтон, ты не создан для ученых занятий.
Плотнее закутавшись в черную, подбитую мехом мантию, маленький
голландец протянул руки к пылающему камину. Как и подобало ученому мужу, он
говорил по-латыни, и Алан обиженно ответил на том же языке:
-- Но разве не следует защищать истину, высокочтимый Эразм?
-- Конечно, следует, юноша, но не мечом, а пером. И не хмуря гневно
брови, а с улыбкой. Рази их глупость смехом! Ты читал мою последнюю книгу?
-- "Похвалу глупости"? Кто же в Европе не читал ее, учитель?
-- Мне надо было показать, как церковь под видом истины часто насаждает
ложь и суеверия. Как она внушает, будто изображения святых способны творить
чудеса, будто человек может обрести рай, каждый день усердно бормоча
молитвы, будто грязное тело свидетельствует о святости духа... Но осмелился
ли я прямо изобличить эти нелепости? Если бы я выступил против них открыто,
меня, как сегодня тебя, сочли бы язычником и еретиком. Нет, мне пришлось
искать обходный путь. Жгучая сатира, легкая насмешка, ирония. Я шутил, и
люди смеялись со мной, тем самым уже наполовину соглашаясь, что я прав.
-- Да, конечно. Но ведь ты -- прославленный Эразм Роттердамский, и тебе
дано совершать подобное. Любую написанную тобой книгу прочтут во всех
уголках Европы. -- Алан замялся и, крутя в руках шапку, уставился на свои
башмаки: налипший на них снег, растопленный жаром камина, растекался темными
лужицами. Как объяснить этому знаменитому ученому, что простому смертному не
так-то просто следовать его совету и что спор в кембриджской харчевне, где
лучшим доводом служит удачный удар шпаги, совсем не похож на споры, которые
ведутся в тихих стенах университета с помощью писем и памфлетов?
-- Насилием ничего решить нельзя, -- продолжал голландец. -- Одна война
порождает другую. Я могу понять и извинить диких зверей, которые
набрасываются друг на друга, ибо они поступают так по неведению. Но неужели
надо убеждать людей, что...
-- Прости, учитель, что я перебиваю тебя, но сделанного не вернешь. Я
ранил его, защищаясь, -- это правда, но его друзья поклянутся, что ссору
затеял я. Мне надо покинуть Кембридж, и благоразумнее всего было бы на
некоторое время уехать из Англии.
-- Мне будет жаль расстаться с тобой, -- улыбнулся Эразм. -- Слишком
мало тут истинных ценителей греческого языка. На нас даже косятся, считая
наши занятия глупой, а то в вредной затеей. Но я уже сказал, что, по-моему,
ты не создан для мирных занятий наукой. В тебе таится неразумное влечение
испытывать силу силой -- ты, вероятно, предпочтешь назвать это любовью к
приключениям.
-- Каюсь, ты прав, -- в свою очередь, улыбнулся Алан. -- Я происхожу из
воинственного рода. Мои родители умерли, когда я был еще мал, и я рос без
всякого присмотра, а север -- суровый край. Нет, я люблю греческий язык, и
меня влечет мудрость, ключом к которой он служит, но я не могу посвятить
книгам всю мою жизнь. Мне нужно и что-то другое.
-- Быть может, тебе следовало бы отправиться с испанцами или
португальцами завоевывать Новый Свет.
Алан расхохотался:
-- Нет, учитель. Мне только один раз довелось плыть на корабле, и всего
только из Гулля в Лондон, но у меня начинается приступ морской болезни при
одном лишь воспоминании об этом путешествии. Моряком мне не быть.
-- Гм... -- Эразм задумался и, нагнувшись к камину, принялся растирать
посиневшие пальцы; он даже распахнул мантию и подставил животворному теплу
свои тощие ноги. -- Итак, у тебя нет ни денег, ни друзей. Тебе приходится
самому заботиться о себе. И тебе надо уехать из Англии.
-- Да, учитель.
-- Я могу, конечно, снабдить тебя письмами, которые откроют тебе двери
других университетов. Парижского, например, или Падуанского. Но ведь, чтобы
не умереть с голоду, тебе придется просить милостыню или работать. К тому же
я остаюсь при прежнем мнении: несмотря на весь твой острый ум, господь не
предназначил тебе быть ученым.
-- Так что же ты мне посоветуешь?
Голландец долго молчал. Алан ждал, с трудом сдерживая нетерпение. Ночь
была на исходе. Пока он беседовал с Эразмом, незаметно приблизился рассвет,
неся с собой опасность. Он уже видел, как его ведут к декану колледжа, как
передают в руки университетских властей...
-- Пожалуй, -- негромко сказал Эразм, -- я могу тебе кое-что
предложить. Но если ты согласишься, я не знаю, куда это тебя приведет.
Несомненно, в дальние страны. Вероятно, на край гибели. И возможно -- в
могилу.
-- Но что же ты предлагаешь, учитель?
Эразм выпрямился и нащупал на поясе связку ключей.
-- Если ты не согласишься, ты обещаешь хранить тайну?
-- Конечно!
Эразм подошел к дубовому сундуку, в котором держал свои бумаги и
наиболее ценные книги.
-- Разумеется, ты знаешь, что нам известна лишь малая часть того, что
написали греки и римляне. Если бы древние владели нашим недавним
изобретением -- книгопечатанием, светильники их знания горели бы повсюду!
Но, увы, до нас дошли лишь отдельные списки, которые ценятся на вес золота.
-- Я знаю, учитель. Я хорошо помню, какое было волнение в прошлом году,
когда в монастыре Корвио нашли первые шесть глав "Анналов" Тацита[1]. Их
потом послали в Рим Джованни Медичи.
[1] Тацит Публий Корнелий (ок. 55-120 гг.) -- древнеримский историк.
Его "Анналы", посвященные истории Рима при первых императорах, дошли до нас
не полностью.
Голландец кивнул.
-- Такие случаи утешают нас и подают надежду, что не все великие книги
безвозвратно погибли для мира. Быть может, некоторые из них уцелели и где-то
пылятся сейчас в безвестности и небрежении. Как знать, не удастся ли нам
отыскать еще, например, какие-нибудь творения Софокла -- ведь до нас дошло
только семь его трагедий, а он написал их больше ста.
-- Какая это, наверное, высокая радость, -- задумчиво произнес Алан, --
найти бессмертное произведение и вернуть его миру!
Эразм испытующе посмотрел на него, вертя в руке ключ.
-- Хотелось бы тебе испытать ее?
-- Больше всего на свете!
-- В таком случае, ты можешь попробовать.
Он отпер сундук и, порывшись в бумагах, достал письмо.
-- Слушай внимательно, -- сказал он, подходя к свече. -- Это пишет мне
из Антверпена мой близкий друг. "Тебя может заинтересовать рассказ, который
я услышал от одного старика паломника, недавно вернувшегося из Иерусалима.
По его словам, года два назад по пути туда он провел несколько дней в
уединенном монастыре. Где именно находится этот монастырь, он толком
объяснить не мог, но перед тем он переплыл Адриатическое море, и отсюда я
заключаю, что это где-то в Далмации или за ней. Однажды он забрел в
монастырскую библиотеку, которая, по его словам, больше походит на
захламленный чулан, что, впрочем, не редкость для восточных монастырей, где
монахи особенно ленивы и невежественны. Но там он увидел несколько греческих
книг и запомнил название одной -- "Овод", комедия Алексида..."
-- А кто такой Алексид? -- взволнованно перебил Алан.
-- Мы о нем почти ничего не знаем. Он писал комедии почти в одно время
с Аристофаном, но от них до нас дошли только две-три строчки.
-- И целая комедия лежит в этом монастыре? Какое замечательное
открытие! Но почему же этот паломник...
-- Не торопись! -- Эразм поднял руку, умеряя его нетерпение. -- Наш
паломник не был ученым, не представлял себе ценности рукописи и думал только
о цели своего путешествия.
-- Так почему же за ней не отправился кто-нибудь другой?
-- О ее существовании известно только старику паломнику, моему
антверпенскому другу и нам с тобой. А сами монахи либо не знают, что
хранится в их заброшенной библиотеке, либо не имеют представления о том,
какое это сокровище. Комедия Алексида! Князья не жалели бы тысяч дукатов,
стараясь перехватить ее друг у друга. Папа пожелал бы приобрести ее для
Ватиканского хранилища.
-- И только мы знаем, что она там. Если, конечно, она еще там... --
Алан говорил медленно, но мысли вихрем мчались в его голове.
Эразм улыбнулся:
-- Она пролежала там много сотен лет, так что ей вряд ли суждено было
исчезнуть за последние два года.
-- Но как найти монастырь, если старик сам не знает, где он находится?
Монастырь где-то по ту сторону Адриатического моря! Легче отыскать иголку в
стоге сена.
-- Он указал несколько примет. Монастырь стоит на крутом утесе, а в
долине за ним лежит небольшое озеро, которое называется Варна. -- Эразм
запер письмо в сундук и вновь сел у камина. -- Ну, что скажешь, любезный
Дрейтон?
-- Надо отыскать монастырь и вернуть эту книгу миру!
-- Да, ты прав. Значит, кто-то должен отправиться к озеру Варна. И
человек этот должен владеть греческим языком, чтобы узнать то, ради чего он
будет искать монастырь. А кроме того, он должен быть молод, силен и не
страшиться никаких опасностей.
Алан молча кивнул.
-- Путь будет долгим. А озеро, где бы оно ни находилось, расположено в
глухих краях -- возможно, там, где теперь бесчинствуют турки. Если он
добудет рукопись, ему еще нужно будет благополучно вернуться с сокровищем,
из-за которого многие люди, не задумываясь, перережут ему глотку, словно
из-за золота или драгоценных камней.
-- И все-таки, высокочтимый Эразм, я хотел бы попробовать.
Эразм снова улыбнулся.
-- С тех пор как я получил это письмо, я все время высматривал
подходящего человека. Быть может, сегодня в харчевню тебя привела рука
провидения. -- Шаркая туфлями, он подошел к столу и взял бумагу и перо. --
Ты ведь торопишься уехать?
-- Рассвет не должен застать меня в Кембридже.
-- В этом предприятии тебе нужна будет помощь. Я дам тебе письмо к
моему другу Альду в Венеции.
-- Альду Мануцию? Знаменитому книгопечатнику?
-- Да. Я гостил у него в прошлом году. Это прекраснейший человек. Он
напечатал мою книгу "Adagia"[2] . Отправляйся к нему и можешь быть с ним
совершенно откровенным. На него можно положиться. -- Эразм говорил, а его
перо, не переставая, деловито скрипело по бумаге. -- Тебе будут нужны
деньги. Я дам тебе кое-какую сумму, а Альд добавит столько, сколько
понадобится. Но тебе может не хватить на дорогу, поэтому я напишу еще
доктору Мезюрье в Парижский университет и метру Гизо в Гренобль. Только
помни: никому ни слова о нашей тайне, кроме Альда!
[2] "Книга пословиц" (лат.).
-- Я не забуду.
Эразм посыпал письма песком и встал.
-- Собственно говоря, мне все равно, кто найдет рукопись, лишь бы она
стала достоянием всего мира. Но ведь есть такие любители, которые, попади
она в их руки, скроют ее ото всех в своем хранилище. Вот этого случиться не
должно!
Алан положил письма и серебряные монеты в дорожную сумку.
-- Рукопись я должен привезти тебе?
-- Нет, отдай ее Альду. Он будет знать, что с ней делать. Меня заботит
не старый пергамент, а живое слово, которое должно быть размножено на
печатных станках. А теперь, милый юноша, поторопись, и да хранит тебя бог.
Дрожа от холода, он проводил своего ночного гостя по темной лестнице и
отодвинул засовы. Еще раз вполголоса поблагодарив его, Алан вышел на
безмолвную улицу.
Когда занялся серый, унылый рассвет, по замерзшим равнинам Кембриджшира
размеренным шагом шел одинокий путник, направляясь на юг. А
Глава третья. ДОМ В ВЕНЕЦИИ
Ла-Манш обошелся с Аланом милостиво. Юноша благополучно добрался до
Кале, не встретив никаких препятствий ни со стороны морской стихии, ни
(поскольку Кале все еще владели англичане) со стороны королевских чиновников
на обоих берегах пролива. Сойдя с корабля, он вскоре уже очутился на
французской земле и зашагал по грязным дорогам Пикардии по направлению к
столице.
Париж встретил его первыми признаками пробуждения весны: на голых
ветках набухали серо-зеленые почки. Продолжая свой путь на юг через
Бургундию, Алан уже не мучился страхами и сомнениями. Солнце все сильнее
припекало его плечи под ветхим плащом, вливая бодрость в его душу. Еще
несколько дней, и каждое утро слева, на востоке, его уже приветствовали
Альпы, словно плывшие в лазури небес над бело-розовой пеной распускающихся
яблоневых садов.
Стараясь сберечь каждый грош, он ночевал на самых убогих постоялых
дворах. Но одинокий студент не привлекал ничьего внимания: сотни школяров
бродили в те дни по дорогам Европы, перебираясь из Рима во Флоренцию, из
Цюриха в Саламанку, из Оксфорда в Тулузу. Его познаний во французском языке
кое-как хватало для того, чтобы объясниться с хозяином постоялого двора,
зато он мог свободно беседовать по-латыни с любым деревенским священником
или образованным попутчиком.
Обогнув подножие Савойских Альп, на которых все еще белели пятна снега,
он добрался до Гренобля, где имя Эразма распахнуло перед ним все двери. Мэтр
Гизо принял его по-королевски, одолжил ему мула и попросил знакомых купцов,
направлявшихся в Милан, взять его с собой. И вот перед Аланом открылась
широкая равнина Северной Италии, где уже пылали все яркие краски южной
весны. В Милане он попрощался с купцами, поручил их заботам своего мула и
отправился дальше, снова пешком и один, через Верону и Падую в Венецию.
И наконец, когда апрель был уже на исходе, Алан, расспросив дорогу к
церкви Святого Августина, увидел над спокойным каналом дом Альда.
Дверь была украшена длинной латинской надписью, по правде сказать, не
слишком гостеприимной: "Кто бы ты ни был, если ты желаешь поговорить с
Альдом, будь краток; а затем дай ему вернуться к его трудам -- если только
не хочешь одолжить ему свое плечо, как некогда Геркулес утомленному Атласу.
Знай, что всякому, вступившему в этот дом, найдется дело".
Алан нащупал в сумке письмо Эразма и, собравшись с духом, открыл дверь.
Он вошел и растерянно остановился, пока его глаза после яркого солнца
привыкали к полумраку прихожей. Этот дом напоминал прохладный улей -- он
кишел людьми, и каждый прилежно трудился. Откуда-то доносился глухой стук
печатных станков. Кто-то звучным голосом диктовал греческие стихи. Две
девушки, золотисто-рыжие, как того требовала венецианская мода, пробежали
мимо него вверх по лестнице, смеясь и роняя апельсины из полной корзинки.
Оранжевые плоды, подскакивая, катились по белому мрамору ступенек. Через
вестибюль прошел невысокий толстяк -- он, пошатываясь, нес на голове большую
кипу бумаги. Весь дом, радуя душу любителя наук, благоухал типографской
краской.
-- Ты кого-нибудь ищешь? -- раздался за его спиной ласковый голос,
негромкий и музыкальный.
Повернувшись, он встретил дружеский взгляд пожилого человека в черном,
бритого, длинноносого, улыбающегося, с длинными волосами, аккуратно
ниспадающими на воротник.
-- Прошу прощения, синьор, я хотел бы видеть мессера Альда Мануция.
Тот улыбнулся:
-- Ты его видишь.
-- Ax!.. -- Алан поспешно поклонился. -- У меня к тебе письмо от
достопочтенного Эразма. -- При этом имени лицо итальянца озарилось радостью.
-- И... и нельзя ли нам поговорить наедине?
-- Конечно, мой юный друг. Прошу сюда!
Вслед за ним Алан поднялся по лестнице в комнату, уставленную книгами.
Он сразу узнал небольшие аккуратные томики, которыми славилось заведение
Альда, -- насколько удобнее были они, чем тяжелые дорогие фолианты других
книгопечатников! Комнату украшали мраморный бюст Вергилия и изящная
статуэтка какой-то греческой нимфы. На подоконнике стояла ваза с
пронизанными солнцем синими гиацинтами. Стол был завален письмами,
рукописями, гранками и всякими деловыми бумагами.
Альд прочел письмо, а потом вопросительно посмотрел на юношу. Алан
рассказал ему все, что знал.
-- Алексид! -- Лицо итальянца вновь озарилось радостью, спокойные глаза
заблестели. -- Найти комедию Алексида -- да, это было бы действительно
чудом. -- Он виновато усмехнулся. -- Тебе, наверное, странно, юноша, что
простое упоминание о какой-то книге так меня взволновало? Не знаю, поверишь
ли ты, но я готов проливать настоящие слезы при мысли о всех тех греческих
книгах, которые утрачены для современного человека.
-- Я понимаю, синьор, -- ведь в мире так мало книг.
-- Вот-вот. -- Альд жестом остановил его. -- Подумай, мой юный друг,
сосчитай; забудь на минуту про творения греков и римлян, забудь про обширные
труды отцов церкви -- это, конечно, весьма святые книги, но, увы, невероятно
скучные! Что еще мы создали? Что еще можно читать? Прекрасные стихи наших
Данте и Петрарки, остроумные новеллы Боккаччо, хроники Фруассара, стихи и
проза ваших англичан -- Чосера и Мелори, несколько старинных французских
героических поэм... Что еще мог бы ты назвать?
-- Ничего, синьор. Для того чтобы пересчитать великие книги, которые
создала Европа после заката Греции и Рима, хватит и десяти пальцев.
-- И вот теперь, после того как греческая литература пребывала в
забвении более тысячи лет, мы вдруг открыли сокровище под самым нашим носом:
поэзия, трагедии, комедии, исторические, философские, научные сочинения...
Сокровища, сказал я? Да-да, но сокровища, погребенные в старых подвалах и
склепах, служащие пищей для плесени и мышей! Страшно подумать, как
обращаются с книгами в некоторых монастырях -- монахи даже режут пергамент
на мелкие кусочки, чтобы писать на них молитвы, а потом продавать эти
амулеты паломникам за несколько медных монет. При одной мысли об этом я
прихожу в бешенство!
-- Не понимаю... -- Алан запнулся. -- Когда я начал учиться в
Кембридже, и познакомился с Эразмом, и узнал то новое, что принесли нам
последние годы... у меня в мозгу словно вспыхнул яркий свет, я словно
проснулся после долгого сна. И теперь я не понимаю, как могут люди, к тому
же образованные люди, оставаться равнодушными ко всему этому.
-- Равнодушными? -- повторил Альд. -- Да многие из них боятся этого
нового знания.
-- Боятся?
-- Разве ты забыл слова нашего друга Эразма? -- И итальянец негромко, с
чувством произнес: -- "Мир наконец-то начал обретать рассудок, словно
пробуждаясь после долгого сна. И все же находятся люди, которые упрямо
противятся этому, руками и ногами цепляясь за свое древнее невежество".
-- Но почему?
-- Он и это объяснил, -- усмехнулся итальянец. -- "Они страшатся
возрождения хороших книг, ибо, если мир станет мудрее, им уже не удастся
скрыть, что они ничего не знают".
-- Таких людей мне доводилось встречать в Кембридже. -- И,
рассмеявшись, Алан рассказал Альду о своем последнем вечере в университете.
-- Превосходно! -- одобрительно воскликнул Альд. -- Истинный рыцарь
знания и человек действия, ты больше всякого другого подходишь для подобного
предприятия. Ну, а теперь поговорим о деле. Ты сказал, что это место
называется Варна?
-- Так, во всяком случае, называется озеро. Ты слышал о нем?
-- Нет. Но я наведу справки. На это потребуется время, однако в Венеции
можно узнать все, что угодно, -- нужно лишь терпение. Город полон купцов и
путешественников, побывавших во всех уголках земли. Предоставь это мне, а
сам погости у нас, отдохни после дороги и наберись сил для дальнего пути.
Он открыл дверь, кликнул служанку и сам проводил Алана в небольшую
комнату на втором этаже. Переступив порог, Алан в изумлении остановился.
Такая роскошь и комфорт были еще неизвестны в Англии -- ковер на полу,
мягкая удобная кровать, которую служанка уже застилала белоснежными
хрустящими простынями, гобелены на стенах, изображающие сцены из странствий
Одиссея, туалетный столик и еще много всякой мебели. Однако позже ему
пришлось убедиться, что дом Альда по сравнению с жилищами итальянских
богачей был обставлен скромно и просто.
-- У меня на родине нет ничего подобного! -- сказал он с восхищением.
Альд пожал плечами.
-- Но ведь Англию не назовешь цивилизованной страной. Хотя, конечно,
придет и ее время, -- добавил он любезно.
Умывшись и приведя в порядок костюм, Алан спустился вслед за своим
хозяином в столовую. Украшенный изящными греческими вазами большой зал с
длинным столом посередине и массивным буфетом у стены был полон народа.
Почти все присутствующие были молоды и все без исключения веселы. С Аланом
любезно поздоровались жена Альда, его сыновья Мануцио и Антонио, его зятья и
компаньоны Азолани и их многочисленные жены, сыновья и дочери, а также
помощник Альда, красивый критянин Марк Мусур, Серафин, корректор, и (как
ему, во всяком случае, показалось) еще добрый десяток каких-то людей.
"Мне ни за что не запомнить сразу все эти имена и лица, -- в отчаянии
подумал он, -- а тем более -- кто кем кому приходится. Нужно будет
разбираться постепенно".
-- Ты говоришь по-гречески? -- вежливо осведомился Антонио. --
Прекрасно. Мы обычно говорим между собой по-гречески, ведь многие из наших
друзей родом с Кипра.
Алана усадили на почетное место рядом с хозяйкой.
-- Вы... вы слишком добры ко мне, -- смущенно пробормотал он. --
Безвестный чужестранец...
-- Чужестранец? -- откликнулся Альд с другого конца стола. -- А что бы
сказал на это Эразм? "Почему до сих пор сохраняются такие глупые слова, как
"англичанин" и "француз", разделяющие нас?"
-- А в другом месте, -- раздался звонкий голос откуда-то с середины
стола, -- он говорит: "Весь мир -- это одно общее отечество".
Эти слова были встречены гулом одобрения. Алан от удивления вытаращил
глаза. Голос принадлежал девушке, и девушка эта была моложе его. Что же это
за страна, где девушки бегло говорят по-гречески и цитируют по-латыни ученые
трактаты?
Следующие несколько дней, пока Альд осторожно наводил справки о Варне,
Алан отдыхал и с интересом осматривал Венецию.
Едва увидев первые города Северной Италии, он с удивлением обнаружил,
что они были куда более благоустроенны, чем даже французская и английская
столицы: не только княжеские дворцы, но и дома простых купцов поражали
великолепием. Люди на улицах, если, конечно, не считать нищих, были нарядно
одеты, и он не уставал дивиться их чистоплотности и изяществу манер. В
других странах по городским улицам можно было проехать только верхом, а тут
по отличным мостовым катили удобные кареты. ^
В Венецию же он просто влюбился: ее бесчисленные каналы, гондолы, лес
корабельных мачт, вздымающийся рядом с башнями и сверкающими куполами,
приводили его в восторг.
Ему нравилась широкая площадь перед церковью Сан-Джакометто на Риальто,
где степенные купцы торговали товарами со всех концов света. Ему нравились
разбегавшиеся от нее во все стороны узкие торговые улочки. И ему нравилось
кормить голубей на площади Святого Марка.
Но иногда он предпочитал никуда не ходить и помогал читать гранки или
отвечать на бесчисленные письма, которые каждый день получал Альд. Дом
служил одновременно и жилищем и книгопечатней. Краска изготовлялась там же.
Но белую плотную бумагу привозили с фабрик Фабриано. Несколько комнат
занимала переплетная мастерская. Шрифт отливали по образцам, написанным
критянином Мусуром, у которого был изумительный почерк. Мусур отличался
глубокой ученостью, и когда много лет спустя папа Лев Х возвел его в сан
епископа, Алан, узнав об этом, нисколько не удивился.
-- Отец основал свою книгопечатню почти двадцать лет назад, -- как-то
рассказал ему Антонио. -- В те дни греческие книги почти не печатались --
только Гомер, Эзоп, Феокрит и Исократ. Он мечтает до своей смерти напечатать
всех писателей древности и успел уже сделать очень многое.
-- Мне нравятся ваши книги! -- горячо воскликнул Алан. -- Они самые
дешевые и удобные из всех, какие мне только приходилось видеть. А ведь они
так прекрасно напечатаны и переплетены!
-- Отец говорит, что он на всю жизнь запомнил, какое отвращение внушали
ему в школе безобразные фолианты, и он не хочет, чтобы дети и впредь
страдали так же, как некогда он.
Тут к ним подошел Альд, который уже некоторое время прислушивался к их
разговору, и, бережно открыв новый томик Плутарха, показал на титульной
странице знак своей книгопечатни с девизом: "Festina lente" ("Спеши
медленно").
-- Это мой герб, -- засмеялся он, -- и я горжусь им не меньше любого
рыцаря. Дельфин означает скорость, а якорь -- терпеливое упорство. Я льщу
себя надеждой, что теперь этот знак известен в Европе повсюду, где только
люди ценят книги.
-- И пусть скоро настанет день, когда мы увидим его еще под одним
заголовком! -- воскликнул Алан. -- "Овод", комедия Алексида.
-- Тс-с... -- сказал Альд. -- Будь осторожен даже в этом доме.
... Им по-прежнему ничего не удавалось узнать про Варну, и Алан начинал
уже тревожиться. В Венеции ему жилось прекрасно, но тем не менее он жаждал
как можно скорее снова пуститься в путь. Альд говорил об Алексиде так,
словно он не умер две тысячи лет назад, словно в монастырской тюрьме томился
и ждал спасения живой поэт. Комедия и ее автор были для него неразделимы, и
молодой англичанин заразился его энтузиазмом.
-- Терпение, -- говорил итальянец, ласково кладя руку на плечо юноши.
-- Терпение и упорство. Сейчас время якоря, а потом настанет час дельфина.
Как только мы получим необходимые сведения, обещаю, что снаряжу тебя в
дорогу немедленно.
-- Мне иногда кажется, что никакой Варны вообще не существует, --
печально вздохнул Алан,
-- Мы скоро все узнаем. Через три дня начнется карнавал. Из Феррары
приедет один мой старый друг. Он изъездил Восточную Европу вдоль и поперек и
уж наверное сумеет нам помочь.
-- Ах, если бы!
-- Он будет ужинать у нас в первый вечер карнавала. А до тех пор --
терпение.
Карнавал начался, и Алан решил, что никогда в жизни не видел ничего
подобного. А ведь ему случалось видеть турниры, пышные празднества,
торжественные процессии, моралите[1], которые разыгрывались на площадях под
открытым небом. Но ничто не могло сравниться cо зрелищем великого
итальянского города, предавшегося безудержному веселью. Надев маску и плащ,
как и все остальные, Алан отправился с Антонио посмотреть карнавал.
[1] Нравоучительные, часто аллегорические пьесы, пользовавшиеся большим
успехом в Европе в XV веке.
На огромной площади Святого Марка колыхалась густая толпа. Шли
музыканты в сопровождении позолоченных крылатых мальчиков, изображавших
купидонов; на высоких колесницах вперемежку проезжали библейские патриархи и
герои античных легенд: за Ноем следовал Нептун, за Авраамом -- Ахилл.
Впервые в жизни Алан увидел верблюда. Покрытый богатой попоной, он надменно
шагал по усыпанной розами площади. Друзья с трудом протолкались к
набережной, чтобы посмотреть лодочные гонки.
-- Вот такого в Англии никогда не увидишь! -- воскликнул Алан.
-- Почему? Разве у вас не бывает водных праздников и процессий?
-- Да нет, бывают, хотя я их не видел... Но я говорю о другом, Антонио.
-- И он указал на несколько лодок, выстраивающихся к следующим гонкам. Их
команды состояли только из девушек.
-- О, наши девушки пользуются почти такой же свободой, как и наши
юноши! -- рассмеялся Антонио. -- Видишь ли, они получают такое же
образование и умеют поставить на своем.
-- Не знаю, что бы на это сказали у нас, -- нахмурившись, заметил Алан.
-- Вряд ли найдется англичанин, который захочет взять в жены дюжего гребца.
-- Ну, посмотрим, такие ли уж они дюжие гребцы. Гонки начались. Отсюда
нам будет хорошо видно, кто победит.
Легкие лодки уже неслись по спокойной воде, нефритово-зеленой в лучах
догорающей зари. Золотисто-рыжие головы наклонялись в такт, а унизанные
браслетами белоснежные руки гнали лодку вперед со скоростью, какой могли бы
позавидовать гребцы-мужчины. Когда первая лодка пронеслась мимо меты, далеко
обогнав ближайшую соперницу, толпа на набережной разразилась смехом и
приветственными криками.
-- Да ведь я знаю одну из этих девушек! -- воскликнул Алан. -- Вон, на
третьей скамье в победившей лодке.
-- Ну конечно -- это же моя двоюродная сестра Анджела д'Азола. Или ты
забыл, как она цитировала Эразма за обедом в день твоего приезда? Давай
протолкаемся к пристани и поздравим ее. Она ни за что не узнает тебя в этой
маске.
Антонио начал энергично прокладывать себе путь через толпу, но Алан
замешкался и отстал от своего друга. Он попробовал догнать его, но
безуспешно. Начинало темнеть, повсюду уже пылали факелы и свечи, и Алан
понял, что вряд ли сумеет отыскать Антонио в этом волнующемся людском море.
Он решил, что погуляет еще часок, полюбуется праздником, а потом отправится
домой ужинать.
Однако ему недолго было суждено оставаться в одиночестве. Не успел он
пройти и несколько шагов, как кто-то дернул его за плащ. Он обернулся и
увидел перед собой две маски.
-- Ну, Алан, и заставил же ты нас побегать! -- весело сказал один из
незнакомцев по-итальянски. (Алан уже немножко научился понимать этот язык.)
-- Мы собираемся немного прокатиться и посмотреть иллюминацию, --
перебил второй. -- Я тебя сразу узнал, и мы погнались за тобой, чтобы
спросить, не хочешь ли ты присоединиться к нам.
-- Вы очень любезны... -- Алан умолк, несколько смущенный. -- Простите,
но я не узнал вас под этими масками...
-- Ну что ж, поломай-ка голову, пока не настанет время их снимать, --
засмеялся первый. -- Идем же, вон наша лодка. Алан все еще медлил в
нерешительности.
-- Но я боюсь опоздать к ужину...
-- Ты и не опоздаешь. Мы ведь тоже не хотим опаздывать к тому же самому
ужину.
-- Мне очень неприятно, -- сказал Алан, когда они повернулись и все
вместе пошли к гондоле, -- но в доме мессера Мануция живет так много
народу... а ведь сейчас к тому же я мог бы узнать вас только по голосу.
-- Пустяки, -- успокоили они его. -- Что же это был бы за карнавал,
если бы все друг друга узнавали?
Гондола покачивалась на волнах у зеленых от водорослей ступеней. Даже
оба гребца по случаю карнавала были в масках. Алан сел на скамью, и они
поплыли.
Уже совсем стемнело, но почти все окна города были озарены золотистым
светом. Факелы, отражаясь в колышущейся воде, казалось, рассыпали нити
рубиновых ожерелий. Музыка лилась из домов, музыка доносилась с улиц и
площадей, музыка гремела на барках. Со всех сторон раздавались пение,
веселые крики, хохот, кокетливый смех девушек. Алан повернулся к своим
спутникам.
-- Я вам очень благодарен. По-моему, красивее этого я ничего в жизни не
видел.
-- Будем надеяться, что ты не пожалеешь об этой поездке, -- любезно
ответил один из них.
-- Но... они же свернули в Большой канал!
Гондола действительно повернула и теперь быстро удалялась от
иллюминированных зданий.
-- Куда мы едем? -- с тревогой спросил Алан.
-- Скоро увидишь, -- ответил тот, который сидел напротив. В его голосе
прозвучала нота, не понравившаяся Алану.
-- Я не верю, что вы из дома мессера Мануция! -- гневно крикнул он. --
Дайте-ка посмотреть на ваши лица!
И он решительно протянул руку, чтобы сорвать маску со своего соседа. Но
незнакомец увернулся, а его товарищ обхватил Алана за пояс. Несколько секунд
гондола раскачивалась, грозя перевернуться.
-- Сиди смирно, и с тобой не случится ничего дурного!
Алан почувствовал, что к его боку прижалось нечто твердое, сильно
смахивавшее на острие кинжала.
Он решил, что благоразумнее будет пока сидеть смирно.
Глава четвертая. ТЕНЬ ЯСТРЕБА
Вскоре гондола свернула в узкий боковой канал. Прямо из чуть
колышущейся воды, словно крутые утесы, поднимались высокие дома с
освещенными квадратами окон на верхних этажах. Мрак, царивший внизу, кое-где
разрывали багровые факелы, озарявшие крутые ступени. Лодка причалила к одной
из таких лестниц. Человек с кинжалом сказал:
-- Если пойдешь с нами по-хорошему, можешь ничего не опасаться.
-- Куда вы меня привезли?
-- К тому, кто послал за тобой;
-- Послал за мной?
-- Да, -- рассмеялся неизвестный. -- Но ты ведь мог не принять
приглашения или вмешался бы мессер Мануций, вот нам и пришлось прибегнуть к
такому способу.
-- Что это за шутки? -- спросил Алан, упрямо не двигаясь с места.
-- Шутки тут ни при чем. Если ты будешь разумен, то сможешь неплохо
заработать. Ну, а теперь пошли. И не пробуй бежать от нас по этой лестнице,
она ведет не на улицу, а в тот самый дворец, куда мы идем.
Алану оставалось только подчиниться. Он вылез из лодки и стал
подниматься по лестнице в сопровождении своих похитителей. Они вошли в
дверь, которую охранял вооруженный привратник в пышной ливрее. Затем по
внутренней мраморной лестнице с бронзовыми перилами они поднялись на второй
этаж и прошли несколько галерей, увешанных великолепными гобеленами и
украшенных статуями. Алан успел заметить, что фрески на потолке изображают
сцены из "Илиады".
В конце последней галереи они остановились перед высокими резными
дверями. Человек с кинжалом почтительно постучал, и изнутри еле слышно
донесся ответ. Он распахнул правую створку двери и с поклоном пропустил
Алана вперед.
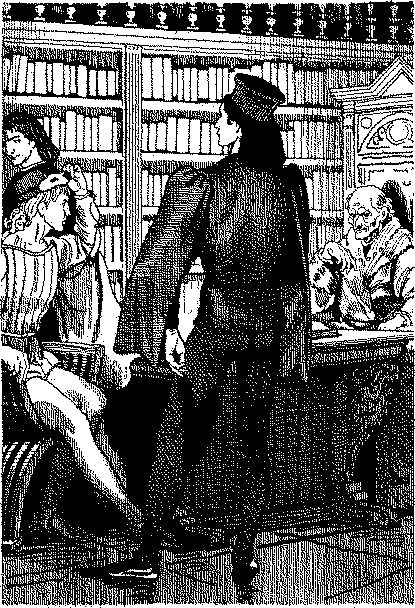 Они очутились в огромной библиотеке, где полки уходили под самый
потолок и к верхним можно было добраться только по узкой галерейке,
опоясывавшей комнату на половине ее высоты. Однако сейчас эта галерея была
погружена в полумрак. В комнате были зажжены только две массивные серебряные
лампы, стоявшие на столе в дальнем ее конце. Там сидел невысокий щуплый
человек, который в этом огромном зале казался еще более щуплым и маленьким.
Алана подвели почти к самому столу, заваленному старыми пергаментами.
-- Не снять ли нам маски? -- изысканно вежливым тоном спросил человек
за столом. -- Ведь по сравнению со мной ты находишься в более выгодном
положении, мессер Дрейтон.
Провожатые Алана сняли маски, и он последовал их примеру. Человек за
столом устремил на его лицо пытливый взгляд. Алан, в свою очередь,
внимательно его рассматривал. Перед ним сидел сгорбленный старик с
прекрасным лбом мыслителя, почти лысый, если не считать серебристого пушка
над ушами. В холодных беспощадных глазах чувствовалась та же твердая
решимость, что и в квадратной нижней челюсти, очертаний которой не смягчил
даже клинышек бороды. На нем был строгий, но очень дорогой костюм из
коричневого бархата, а на груди, на золотой цепи, висел усеянный
драгоценными камнями медальон. Он то и дело касался его длинными белыми
пальцами, которые на фоне темного бархата казались холодными серебристыми
рыбками. Они были унизаны перстнями -- на некоторых сверкало даже по три
драгоценных камня.
Первым прервал молчание Алан.
-- Это ты находишься в более выгодном положении по сравнению со мной,
синьор, -- сказал он резко. -- Ведь тебе известно мое имя, а мне твое --
нет. И я не знаю, почему меня насильно привели сюда, хотя тебе, вероятно,
известно и это.
-- О да... Чезаре, предложи нашему юному гостю стул. Бернардо, ты нам
пока не нужен.
-- Как угодно его светлости. -- И, поклонившись, тот, кого назвали
Бернардо, ушел.
Алан повернулся, чтобы взять стул у второго своего похитителя, и тут
впервые увидел его лицо. Оно показалось ему страшным, хотя Чезаре был молод
и очень красив нежной, почти девичьей красотой. Но в нем не чувствовалось
девичьей кротости, а глаза его были жестокими, как глаза кошки.
-- Что касается моего имени, -- сказал человек за столом все тем же
вкрадчивым тоном, -- то мы пока не будем его называть, но я могу тебя
заверить, что это славное имя. Кроме того, я очень богат. Конечно,
упоминание об этом скорее пристало бы простолюдину, но оно оправдывается
обстоятельствами. Я хотел бы предложить тебе выгодную сделку, и лучше, чтобы
ты с самого начала знал, что я могу и готов щедро заплатить тебе.
Алан слегка поклонился.
-- Я не сомневаюсь, что вижу перед собой знатного вельможу, хотя мне и
не дозволено узнать твое имя.
Он уже догадался, что его собеседник был герцогом -- об этом
свидетельствовали и золоченый герб на спинке кресла, и то, что слуга назвал
его "светлостью". Но раз он скрыл свое имя, Алан не собирался оказывать ему
почтение, на которое давал право этот титул.
-- Однако, -- продолжал он, -- я всего лишь бедный английский студент,
и у меня нет ничего ценного.
-- Ты ошибаешься, юноша. У тебя есть рукопись греческого комедиографа
Алексида.
Алан в непритворном изумлении широко раскрыл глаза.
-- Ах, если бы это было так! -- сказал он совершенно искренне.
-- Во всяком случае, ты знаешь, где она находится.
-- Ах, если бы это было так! -- повторил Алан, который начал о многом
догадываться. -- Это шутка, синьор? Такая библиотека свидетельствует о твоей
большой учености, и ты лучше меня должен знать, что до наших дней не
сохранилось ни одной комедии Алексида. Почему ты вообразил, что я могу
хранить подобное сокровище? Да ведь если бы такая рукопись существовала, она
стоила бы...
-- Она существует, -- перебил его герцог, -- и стоит... почти любую
цену, которую ты назначишь.
-- Если это не шутка, синьор, то твои люди просто ошиблись и привели к
тебе не того человека. Я только что приехал из Англии, меня зовут...
-- Мне все это известно. -- Герцог взмахнул белой рукой и наклонился
вперед. Над его лысой головой на высокой спинке кресла распростерлись резные
крылья золоченого ястреба. Алан вспомнил, что этот же герб он видел на
ливрее привратника. -- Тебя зовут Алан Дрейтон, и ты живешь у Мануция. Ты
собираешься достать для него рукопись Алексида. Может быть, мы кончим играть
в прятки, мой милый?
Алан поперхнулся.
-- Хорошо, предположим, это правда. Так что же тебе нужно?
-- Рукопись. Ты привезешь ее мне, а не Мануцию. -- Перехватив взгляд
Алана, он тонко улыбнулся. -- Если тебе нужны деньги, то здравый смысл
подскажет тебе, что я могу заплатить куда больше, чем этот книгопечатник. Но
если, как мне кажется, ты действуешь из более достойных побуждений и ценишь
сокровища знания, то погляди на эту библиотеку. Согласись, что это -- более
достойное хранилище для Алексида, чем дом Мануция.
-- Да, это прекрасный зал, -- осторожно ответил Алан, оглядываясь по
сторонам.
-- Позволь, я покажу тебе мою библиотеку. -- Герцог с неожиданной
легкостью поднялся на ноги, зажег две свечи от лампы на столе и, высоко
подняв подсвечник, повел Алана за собой.
-- Здесь хранятся две тысячи книг, но среди них не найдется ни одной
печатной страницы. Я не могу слышать о печатном станке! Мерзкое новомодное
изобретение, имеющее только одну цель -- метать бисер учености перед свиным
стадом простолюдинов.
Алан с трудом сдержал свое возмущение. Библиотека, безусловно, была
великолепна, и этот ночной осмотр невольно увлек его, хотя он ни на минуту
не забывал об опасном положении, в которое попал, и о зловещем Чезаре,
неслышно следовавшем за ними по пятам.
-- Я собирал книги всю свою жизнь, -- продолжал герцог, -- и потратил
на них более двадцати тысяч дукатов. Так что суди сам, какую цену я готов
заплатить.
Алан поднял свечу повыше, и она озарила редкую рукопись сочинений
Платона, которую герцог тут же с гордостью протянул ему.
-- Эта библиотека -- подлинная сокровищница, -- сказал юноша искренне.
-- Каким образом тебе удалось найти все это?
Герцог самодовольно улыбнулся.
-- Видишь ли, есть люди, которые сделали это своим ремеслом. Богатые
купцы, особенно флорентийские, которые рассылают своих приказчиков по всей
Европе и даже в Малую Азию, всегда поручают им высматривать интересные
рукописи. Беда в том, что они, естественно, продают свои находки тому, кто
предложит больше. А с владетельным князем или его святейшеством папой даже я
не всегда могу соперничать. Поэтому я предпочитаю пользоваться услугами моих
собственных доверенных лиц -- во главе их стоит Чезаре, с которым ты уже
знаком. Я сообщаю Чезаре, что именно мне нужно, и он никогда не обманывает
моих ожиданий.
Тут герцог усмехнулся, и от этой усмешки Алан похолодел. Чезаре,
услышав, что его хвалят, подошел поближе, но его красивое лицо по-прежнему
оставалось хмурым и настороженным.
-- Погляди-ка на этого Гомера, -- продолжал герцог, протягивая Алану
другую книгу в прекрасном переплете из позолоченной кожи. -- Это, пожалуй,
самая большая драгоценность в моем собрании. А, Чезаре?
-- Она обошлась в две человеческие жизни, -- ответил молодой человек.
-- Ну и что?
-- Действительно, ну и что? -- повторил его господин. -- То, что нам
нужно, мы берем. Это наш девиз. Не так ли, Чезаре?
-- И очень хороший девиз. Мессеру Дрейтону будет полезно его запомнить.
Перелистывая страницы Гомера, Алан лихорадочно обдумывал положение. С
Альдом его связывает дружба, но не деловые обязательства. Если он согласится
служить герцогу, его поступок могут назвать не слишком красивым, но отнюдь
не бесчестным. Ведь в конце-то концов это ему предстоит совершить опасное
путешествие в Варну. А герцог заплатит щедро, и он будет обеспечен на всю
жизнь...
Но и рассуждая так, Алан отлично понимал, что никогда не предаст Альда,
не обманет доверия Эразма, открывшего ему свою тайну. К тому же им рукопись
была нужна для того, чтобы напечатать ее и подарить комедию Алексида всему
миру, герцог же собирался, как скупец, скрыть ее ото всех в своей
библиотеке, чтобы потом хвастать, что ни у кого больше нет второго такого
сокровища.
Какой же смысл спасать Алексида из его темницы в Варне только для того,
чтобы вновь заключить его в венецианскую тюрьму, пусть и более роскошную?
Ну, а пока что делать? Герцог, несмотря на всю свою любовь к книгам, не
производил впечатления человека чести. Алан решил, что он дорожит своими
рукописями не потому, что они хранят сокровища знаний, а просто как
собранием редкостей. Ну, а красивый, как Аполлон, Чезаре, его доверенный,
был, судя по всему, опасен, как ядовитая змея.
-- Час уже поздний, синьор, -- сказал он наконец, -- и поскольку ты
убедился, что я не могу быть тебе полезен, надеюсь, мне разрешено будет
удалиться?
Герцог резко повернулся к нему.
-- Продолжаем играть в прятки? -- спросил он невозмутимо. -- Разве я не
сумел убедить тебя, что ты не прогадаешь, если согласишься выполнить мое
поручение?
-- Это прекрасная библиотека, но... я уже связан словом с другими.
-- Быть может, я выразил свою мысль недостаточно ясно. -- Герцог
говорил размеренно и зловеще. -- Хотя ты и отрицаешь это, я знаю, что тебе
известно, где находится рукопись Алексида. Она будет принадлежать мне. Мне
-- и никому другому! Я не уступлю ее даже Джованни Медичи! Ты продашь мне
свои сведения прежде, чем покинешь этот дом. А то, что нам не продают, мы
берем.
-- Но каким образом вы можете "взять" сведения? -- Почему-то, попадая в
опасное положение, Алан всегда начинал говорить насмешливо.
-- Это уж дело Чезаре. Не правда ли, Чезаре?
Молодой человек оскалил зубы.
-- Твоя светлость может на меня положиться. Мы с Бернардо сумеем
развязать ему язык. Завтра утром тебе будет известно все, что он знает.
Алан переводил взгляд с одного на другого, оценивая положение. У него
не было оружия, не было ничего, кроме книги и подсвечника. Руки его заняты,
и ему не удастся выхватить кинжал у кого-нибудь из них. Да и поможет ли это?
Предположим, он даже сумеет справиться с ними обоими. Они, несомненно,
успеют поднять тревогу, и из дворца ему все равно не выбраться.
Может быть, попробовать что-нибудь другое? Как-нибудь осторожно, не
вызывая подозрений, избавиться от книги и подсвечника, освободить обе руки,
а потом внезапно броситься на герцога, выхватить из драгоценных ножен на его
поясе кинжал и прижать острие к груди старика прежде, чем Чезаре успеет
вмешаться? Быть может, такой заложник обеспечит ему свободный выход? И, ведя
герцога под руку, прижимая кинжал к его боку, он покинет дворец и окажется
на свободе?
Но это слишком рискованно. Да и герцог, вероятно, носит под бархатом
кольчугу. А что делать тогда?
"Какой же я дурак!" -- внезапно подумал Алан. Он вдруг сообразил, что
именно те предметы, от которых он так хотел избавиться, и могут открыть ему
путь к свободе.
-- Назад, Чезаре! -- сказал он. -- Или твой господин никогда тебе не
простит!
От неожиданности молодой итальянец попятился, но тут же выхватил кинжал
из ножен. Бледные руки герцога тревожно взметнулись:
-- Моя рукопись!.,
-- Вот именно. -- Алан поднял свечу, так что язычок пламени почти
лизнул рукописные страницы Гомера. -- Одно движение -- и эта книга вспыхнет!
Герцог испустил вздох, похожий на стон.
-- Не вздумай ослушаться его, Чезаре! -- пробормотал он хриплым
голосом, в котором не осталось и следа прежней вкрадчивой любезности. -- Ты
ведь знаешь, сколько стоит мой Гомер.
-- На что надеется этот молокосос? -- презрительно спросил Чезаре. --
Дворец полон наших людей, мне стоит только кликнуть, и...
-- Вы можете изрубить меня на куски, -- весело перебил его Алан, -- но
книгу это не спасет. Если не ошибаюсь, твой господин сказал, что это --
жемчужина его собрания, и он вряд ли будет тебе благодарен за подобную
услугу.
-- Да-да, -- поспешно вмешался герцог, -- ни в коем случае не торопись,
Чезаре, и не наделай глупостей. Нам следует обсудить все это спокойно.
-- Обсуждать будет легче, если ты прикажешь Чезаре бросить кинжал на
пол, вон туда, и если сам снизойдешь последовать его примеру.
-- Я никому не позволю обезоружить меня! -- вспыхнул Чезаре.
-- Не спорь, -- с беспокойством сказал герцог, и их кинжалы упали рядом
на ковер.
Алан перешел к столу и поставил на него подсвечник, чтобы дать
отдохнуть затекшей руке.
-- А теперь слушайте, -- заговорил он как мог тверже и увереннее, -- и
я скажу вам, что мы сделаем.
-- Скажешь нам? -- Герцог поднял брови. -- Ты добился некоторого
преимущества, юноша, но оно только уравняло нас. Ты, конечно, можешь сжечь
моего Гомера, но зато я могу сжечь тебя самого... Иди выбрать для тебя еще
какую-нибудь смерть.
-- Но при этом ты лишишься своего Гомера, а моя смерть не подарит тебе
Алексида.
Герцог кивнул.
-- Верно, -- пробормотал он, словно говоря сам с собой.
-- Таким образом, все преимущества на моей стороне. -- Алан спокойно
глядел на герцога, но сердце его бешено колотилось. Он отчаянно старался
ничем не выдать своего страха и неуверенности. Эти двое были словно львы
перед укротителем. Стоит им догадаться, что он боится их, и они бросятся на
него. -- Ты, синьор, понимаешь это, но твой наемник как будто еще не понял.
-- Я с большим удовольствием перережу тебе горло, петушок, -- ласково
сказал Чезаре, -- и этого дня недолго ждать.
-- Вот видишь, -- заметил Алан, -- тебе следует позаботиться, синьор,
чтобы он не наделал глупостей.
-- Да-да, -- пробормотал герцог, -- помолчи, Чезаре. Разве ты не
понимаешь, что с ним погибнет и тайна? Надо найти другой способ...
-- Теперь я пойду домой. Пусть Чезаре проводит меня до дверей и
последит, чтобы меня пропустили свободно. Книгу и свечу я возьму с собой...
для безопасности.
Герцог задумался.
-- Ну что же, -- сказал он, -- у меня нет выбора. Чезаре, ты проводишь
нашего юного друга из дворца и присмотришь, чтобы никто не коснулся его и
пальцем. -- Он повернулся к Алану. -- А ты дашь мне слово, что на улице
вернешь Чезаре книгу в обмен на свободу.
-- Конечно, нет, -- рассмеялся Алан. -- Я молод, но не настолько глуп.
Я вряд ли благополучно доберусь до дому, если верну тебе этого заложника на
пороге дворца. Нет, твой Гомер останется у меня, пока я не окажусь перед
дверями мессера Мануция.
-- Ни за что! -- Взгляд герцога стал ледяным. -- Эта книга не покинет
пределов дворца.
-- Она вернется в него в целости и сохранности, -- пообещал Алан. --
Пусть Чезаре пойдет со мной, и я даю тебе слово, что отдам ему Гомера на
пороге дома мессера Мануция. Но только прикажи ему вести себя благоразумно
-- объясни ему, что, если книга погибнет, ты, как его господин, накажешь
его.
-- Я не дурак, -- огрызнулся Чезаре.
-- Придется подчиниться, -- устало сказал герцог. Алан с трудом скрыл
свою радость.
-- Отлично. Что поделаешь, один из нас должен положиться на обещание
другого. Ну, а после событий этого вечера я предпочту, чтобы тебе пришлось
довериться моему слову, а не наоборот. Ты готов, Чезаре? Нет, оставь свой
кинжал здесь, он тебе не понадобится. Доброй ночи, синьор.
Вслед за хмурым молодым итальянцем Алан вышел из библиотеки. Чезаре
провел его назад по длинным галереям, вниз по широкой лестнице в квадратный
зал, выходивший на улицу. При их появлении несколько вооруженных людей,
сидевших там, вскочили на ноги и почтительно поклонились. Чезаре молча
прошел мимо, и Алан, внимательно вглядывавшийся в их лица, решил, что он не
подал им никакого незаметного знака. Если их и удивило, что гость идет по
ярко освещенным апартаментам с зажженной свечой в руке, они ничем не выдали
своего изумления. На всякий случай Алан отстал от Чезаре еще шага на два.
На крыльце он на секунду остановился и, бросив свечу, быстро выдернул
из кольца пылающий факел. Чезаре оглянулся, чтобы выяснить, почему он
задержался.
-- Может подняться ветер, -- любезно объяснил Алан. -- Если бы он задул
мою свечу... мне было бы труднее добраться до дому. Возможно, ты тоже об
этом подумал...
Чезаре еще больше нахмурился, но ничего не ответил и пошел вперед. Алан
не имел ни малейшего представления, где именно они находятся, однако он
решил, что итальянец ведет его правильно -- ведь Чезаре не имело никакого
смысла обманывать его до тех пор, пока у него в руках оставались книга и
факел.
И все же Алану было не по себе, пока они шли по узким улочкам и
набережным, по длинным мостам и коротким узеньким мостикам. Наконец они
пересекли широкую площадь и пошли под колоннадой, погруженной в угрожающий
полумрак. Город еще веселился, но улицы уже опустели -- люди расходились по
домам, чтобы продолжить празднество в дружеском кругу. Порой навстречу этой
странной паре попадались кучки громко распевающих гуляк, но чаще вокруг
никого не было видно.
Не было видно... Но Алана не оставляло странное ощущение, что позади
них, прячась в тень, крадутся какие-то люди, что из-за углов впереди на них
устремлены настороженные взгляды. Он шел, словно одинокий путник по зимнему
лесу, где за каждым деревом ему чудятся волки.
И, не выдержав, он крикнул шедшему впереди Чезаре:
-- Я не слеп! Если твой герцог задумал предательство, он не захватит
меня врасплох! -- И он многозначительно взмахнул факелом.
-- Не беспокойся, -- бросил через плечо Чезаре. -- Неужели ты думал,
что он не примет мер предосторожности? Они тут, чтобы охранять его Гомера, а
не нападать на тебя.
Тем не менее Алан от души обрадовался, когда увидел темную громаду
церкви Святого Августина, а мгновение спустя -- и звеневший музыкой и смехом
дом Альда с гостеприимно распахнутыми дверями. И тут он с удивлением
сообразил, что все это опасное приключение заняло меньше двух часов. Он
думал, что его хватились, что Антонио с друзьями в тревоге бросился на
розыски, а на самом деле он только чуть-чуть опоздал к ужину.
-- Ну-ка, остановись, -- сказал он Чезаре и, пройдя мимо него к дверям,
осторожно положил Гомера на каменную ступеньку и, вставив факел в пустое
кольцо на стене, добавил самым любезным тоном: -- Я думаю, факел пригодится
тебе для обратной дороги. Спокойной ночи!
-- На этом наше знакомство еще не кончилось, -- заметил Чезаре.
-- Боюсь, ты сочтешь меня грубым, если я скажу, что от души хочу, чтобы
мы больше не встречались, однако это так.
Алан быстро взбежал по ступенькам. На углу к этому времени скопилось
много черных теней, а он вдруг вспомнил, что итальянцы умеют метко бросать
ножи.
Когда ужин кончился, Алан шепнул Альду, что им нужно поговорить
наедине. В своей комнате книгопечатник с тревогой выслушал рассказ юноши.
-- Ты говоришь, что на гербе был изображен золоченый ястреб или сокол?
Да, это, несомненно, был герцог Молфетта. Он живет в Венеции как изгнанник,
потому что его бывшие подданные предпочли учредить республику. Его прозвали
Ястребом, и у него на службе состоит гнусный негодяй, по имени Чезаре
Морелли.
-- Не могу его понять, -- заметил Алан. -- Какое противоречие! Он так
любит книги... И все же готов похищать, убивать!
-- К сожалению, в Италии такие люди не редкость, -- со вздохом ответил
Альд. -- Они страстно влюблены в красоту, и особенно в красоту античного
искусства и литературы. Они любят ее так же искренне, как ты или я. Но,
кроме того, они -- люди нашего века, а в Италии это век предательств и
заговоров, отравлений и убийств из-за угла. Они упиваются высокой и ясной
философией Платона... а потом идут и убивают не моргнув глазом. Даже
созерцая какой-нибудь шедевр Праксителя, они обдумывают очередную резню.
-- Но как он узнал про Алексида?
-- У таких людей есть шпионы.
-- Но как же так? В этом доме?
-- Даже в этом доме, -- с грустью сказал Альд, -- возможно, есть
недостойные люди, обманывающие мое доверие. И прежде случалось многое... --
Он улыбнулся. -- Как видишь, и у безобидного книгопечатника есть свои
тревоги, Алан. Мне пришлось пережить немало невзгод. Мои подмастерья
устраивали против меня заговоры, соперники-книгопечатники заключали союз,
чтобы разорить меня, бесчестные книготорговцы ставили мою марку на скверно
отпечатанных книгах. Таких мошенников прозвали пиратами, и вполне
заслуженно. -- Он пожал плечами. -- И все-таки я многого добился с помощью
терпения и упорства, и дальше буду трудиться все так же без отдыха.
-- Наверное, они долго выслеживали меня, -- задумчиво проговорил Алан.
-- Ведь они заговорили со мной как хорошие знакомые, и я решил, что это
кто-то из моих новых друзей...
-- И они по-прежнему будут за тобой следить. Теперь нам придется
удвоить осторожность. Не то Молфетта опять тебя схватит.
-- Разве в Венеции нет закона? -- возмущенно спросил Алан.
-- Есть-то есть, но наши правители благоволят к герцогу, иначе ему не
разрешили бы поселиться здесь. Однако и он может позволить себе далеко не
все. Например, он не посмеет напасть на мой дом. Но если бы мы принесли
жалобу на него за то, что случилось сегодня, толку не было бы никакого.
Сбиры отлично знают, чем занимается Чезаре Морелли и его люди, но они не
вмешиваются.
-- Понимаю.
-- Ты сегодня отличился. Правда, тебе повезло, но ты выказал и немалое
мужество. Ответь-ка мне на один вопрос. -- И Альд, наклонив голову, с
лукавой улыбкой взглянул на Алана. -- Если бы они на тебя напали, ты и
вправду поднес бы факел к Гомеру?
Алан посмотрел ему прямо в глаза и рассмеялся:
-- Мне кажется, ты уже успел узнать меня. Конечно, нет! Ведь я все-таки
ученик Эразма. У меня не поднялась бы рука, чтобы подпалить даже уголок
страницы. Это было бы равносильно убийству!
Альд одобрительно кивнул.
-- Я так и думал... Странно, что герцог не догадался об этом. Ну,
Морелли, конечно, тебя не мог понять.
-- Ты прав. У герцога, пожалуй, не было другого выхода, но я еще тогда
подумал, что он отпускает меня как-то подозрительно легко.
-- Неужели ты и сейчас не понял, Алан, почему он так поступил?
-- Нет. А почему?
-- Мертвый ты был ему не нужен. Да и как пленник тоже -- а вдруг пытки
Чезаре не заставили бы тебя говорить? Но живой, на свободе ты можешь
послужить ему гончей и привести его свору к рукописи, если удастся
установить за тобой тайную слежку. А в последнюю минуту он надеется
выхватить Алексида из твоих рук, словно охотник, который отгоняет гончих от
затравленного оленя.
-- Весьма остроумно задумано, -- угрюмо буркнул Алан, -- но мы еще
посмотрим, что из этого выйдет.
Альд встал.
-- Уже поздно, мой друг. Тебе надо отдохнуть после этого неприятного
приключения, а меня ждут внизу друзья. Приходи ко мне завтра утром. Нар надо
обсудить дальнейшие планы.
-- Дальнейшие планы чего, синьор?
-- Твоей... или чьей-нибудь еще поездки в Варну.
-- Чьей-нибудь еще? -- повторил Алан, думая, что ослышался.
-- Но ведь, Алан, теперь, когда герцогу все известно, лучше будет,
чтобы ты остался здесь в безопасности, а я постараюсь подыскать надежного...
-- Нет! -- Измученный волнением и усталостью Алан почти кричал. -- Я
начал это дело, и я доведу его до конца! Я не боюсь ни Молфетты, ни Морелли.
В Варну поеду я, и никто другой!
-- Тш-ш-ш... Не кричи об этом на весь дом.
-- Прости, синьор.
-- Я понимаю твои чувства. Ты поедешь, и очень скоро, как только мы
закончим необходимые приготовления. Мой феррарский друг сообщил мне все
нужные сведения. Дорога в Варну открыта перед тобой, дружок!
Они очутились в огромной библиотеке, где полки уходили под самый
потолок и к верхним можно было добраться только по узкой галерейке,
опоясывавшей комнату на половине ее высоты. Однако сейчас эта галерея была
погружена в полумрак. В комнате были зажжены только две массивные серебряные
лампы, стоявшие на столе в дальнем ее конце. Там сидел невысокий щуплый
человек, который в этом огромном зале казался еще более щуплым и маленьким.
Алана подвели почти к самому столу, заваленному старыми пергаментами.
-- Не снять ли нам маски? -- изысканно вежливым тоном спросил человек
за столом. -- Ведь по сравнению со мной ты находишься в более выгодном
положении, мессер Дрейтон.
Провожатые Алана сняли маски, и он последовал их примеру. Человек за
столом устремил на его лицо пытливый взгляд. Алан, в свою очередь,
внимательно его рассматривал. Перед ним сидел сгорбленный старик с
прекрасным лбом мыслителя, почти лысый, если не считать серебристого пушка
над ушами. В холодных беспощадных глазах чувствовалась та же твердая
решимость, что и в квадратной нижней челюсти, очертаний которой не смягчил
даже клинышек бороды. На нем был строгий, но очень дорогой костюм из
коричневого бархата, а на груди, на золотой цепи, висел усеянный
драгоценными камнями медальон. Он то и дело касался его длинными белыми
пальцами, которые на фоне темного бархата казались холодными серебристыми
рыбками. Они были унизаны перстнями -- на некоторых сверкало даже по три
драгоценных камня.
Первым прервал молчание Алан.
-- Это ты находишься в более выгодном положении по сравнению со мной,
синьор, -- сказал он резко. -- Ведь тебе известно мое имя, а мне твое --
нет. И я не знаю, почему меня насильно привели сюда, хотя тебе, вероятно,
известно и это.
-- О да... Чезаре, предложи нашему юному гостю стул. Бернардо, ты нам
пока не нужен.
-- Как угодно его светлости. -- И, поклонившись, тот, кого назвали
Бернардо, ушел.
Алан повернулся, чтобы взять стул у второго своего похитителя, и тут
впервые увидел его лицо. Оно показалось ему страшным, хотя Чезаре был молод
и очень красив нежной, почти девичьей красотой. Но в нем не чувствовалось
девичьей кротости, а глаза его были жестокими, как глаза кошки.
-- Что касается моего имени, -- сказал человек за столом все тем же
вкрадчивым тоном, -- то мы пока не будем его называть, но я могу тебя
заверить, что это славное имя. Кроме того, я очень богат. Конечно,
упоминание об этом скорее пристало бы простолюдину, но оно оправдывается
обстоятельствами. Я хотел бы предложить тебе выгодную сделку, и лучше, чтобы
ты с самого начала знал, что я могу и готов щедро заплатить тебе.
Алан слегка поклонился.
-- Я не сомневаюсь, что вижу перед собой знатного вельможу, хотя мне и
не дозволено узнать твое имя.
Он уже догадался, что его собеседник был герцогом -- об этом
свидетельствовали и золоченый герб на спинке кресла, и то, что слуга назвал
его "светлостью". Но раз он скрыл свое имя, Алан не собирался оказывать ему
почтение, на которое давал право этот титул.
-- Однако, -- продолжал он, -- я всего лишь бедный английский студент,
и у меня нет ничего ценного.
-- Ты ошибаешься, юноша. У тебя есть рукопись греческого комедиографа
Алексида.
Алан в непритворном изумлении широко раскрыл глаза.
-- Ах, если бы это было так! -- сказал он совершенно искренне.
-- Во всяком случае, ты знаешь, где она находится.
-- Ах, если бы это было так! -- повторил Алан, который начал о многом
догадываться. -- Это шутка, синьор? Такая библиотека свидетельствует о твоей
большой учености, и ты лучше меня должен знать, что до наших дней не
сохранилось ни одной комедии Алексида. Почему ты вообразил, что я могу
хранить подобное сокровище? Да ведь если бы такая рукопись существовала, она
стоила бы...
-- Она существует, -- перебил его герцог, -- и стоит... почти любую
цену, которую ты назначишь.
-- Если это не шутка, синьор, то твои люди просто ошиблись и привели к
тебе не того человека. Я только что приехал из Англии, меня зовут...
-- Мне все это известно. -- Герцог взмахнул белой рукой и наклонился
вперед. Над его лысой головой на высокой спинке кресла распростерлись резные
крылья золоченого ястреба. Алан вспомнил, что этот же герб он видел на
ливрее привратника. -- Тебя зовут Алан Дрейтон, и ты живешь у Мануция. Ты
собираешься достать для него рукопись Алексида. Может быть, мы кончим играть
в прятки, мой милый?
Алан поперхнулся.
-- Хорошо, предположим, это правда. Так что же тебе нужно?
-- Рукопись. Ты привезешь ее мне, а не Мануцию. -- Перехватив взгляд
Алана, он тонко улыбнулся. -- Если тебе нужны деньги, то здравый смысл
подскажет тебе, что я могу заплатить куда больше, чем этот книгопечатник. Но
если, как мне кажется, ты действуешь из более достойных побуждений и ценишь
сокровища знания, то погляди на эту библиотеку. Согласись, что это -- более
достойное хранилище для Алексида, чем дом Мануция.
-- Да, это прекрасный зал, -- осторожно ответил Алан, оглядываясь по
сторонам.
-- Позволь, я покажу тебе мою библиотеку. -- Герцог с неожиданной
легкостью поднялся на ноги, зажег две свечи от лампы на столе и, высоко
подняв подсвечник, повел Алана за собой.
-- Здесь хранятся две тысячи книг, но среди них не найдется ни одной
печатной страницы. Я не могу слышать о печатном станке! Мерзкое новомодное
изобретение, имеющее только одну цель -- метать бисер учености перед свиным
стадом простолюдинов.
Алан с трудом сдержал свое возмущение. Библиотека, безусловно, была
великолепна, и этот ночной осмотр невольно увлек его, хотя он ни на минуту
не забывал об опасном положении, в которое попал, и о зловещем Чезаре,
неслышно следовавшем за ними по пятам.
-- Я собирал книги всю свою жизнь, -- продолжал герцог, -- и потратил
на них более двадцати тысяч дукатов. Так что суди сам, какую цену я готов
заплатить.
Алан поднял свечу повыше, и она озарила редкую рукопись сочинений
Платона, которую герцог тут же с гордостью протянул ему.
-- Эта библиотека -- подлинная сокровищница, -- сказал юноша искренне.
-- Каким образом тебе удалось найти все это?
Герцог самодовольно улыбнулся.
-- Видишь ли, есть люди, которые сделали это своим ремеслом. Богатые
купцы, особенно флорентийские, которые рассылают своих приказчиков по всей
Европе и даже в Малую Азию, всегда поручают им высматривать интересные
рукописи. Беда в том, что они, естественно, продают свои находки тому, кто
предложит больше. А с владетельным князем или его святейшеством папой даже я
не всегда могу соперничать. Поэтому я предпочитаю пользоваться услугами моих
собственных доверенных лиц -- во главе их стоит Чезаре, с которым ты уже
знаком. Я сообщаю Чезаре, что именно мне нужно, и он никогда не обманывает
моих ожиданий.
Тут герцог усмехнулся, и от этой усмешки Алан похолодел. Чезаре,
услышав, что его хвалят, подошел поближе, но его красивое лицо по-прежнему
оставалось хмурым и настороженным.
-- Погляди-ка на этого Гомера, -- продолжал герцог, протягивая Алану
другую книгу в прекрасном переплете из позолоченной кожи. -- Это, пожалуй,
самая большая драгоценность в моем собрании. А, Чезаре?
-- Она обошлась в две человеческие жизни, -- ответил молодой человек.
-- Ну и что?
-- Действительно, ну и что? -- повторил его господин. -- То, что нам
нужно, мы берем. Это наш девиз. Не так ли, Чезаре?
-- И очень хороший девиз. Мессеру Дрейтону будет полезно его запомнить.
Перелистывая страницы Гомера, Алан лихорадочно обдумывал положение. С
Альдом его связывает дружба, но не деловые обязательства. Если он согласится
служить герцогу, его поступок могут назвать не слишком красивым, но отнюдь
не бесчестным. Ведь в конце-то концов это ему предстоит совершить опасное
путешествие в Варну. А герцог заплатит щедро, и он будет обеспечен на всю
жизнь...
Но и рассуждая так, Алан отлично понимал, что никогда не предаст Альда,
не обманет доверия Эразма, открывшего ему свою тайну. К тому же им рукопись
была нужна для того, чтобы напечатать ее и подарить комедию Алексида всему
миру, герцог же собирался, как скупец, скрыть ее ото всех в своей
библиотеке, чтобы потом хвастать, что ни у кого больше нет второго такого
сокровища.
Какой же смысл спасать Алексида из его темницы в Варне только для того,
чтобы вновь заключить его в венецианскую тюрьму, пусть и более роскошную?
Ну, а пока что делать? Герцог, несмотря на всю свою любовь к книгам, не
производил впечатления человека чести. Алан решил, что он дорожит своими
рукописями не потому, что они хранят сокровища знаний, а просто как
собранием редкостей. Ну, а красивый, как Аполлон, Чезаре, его доверенный,
был, судя по всему, опасен, как ядовитая змея.
-- Час уже поздний, синьор, -- сказал он наконец, -- и поскольку ты
убедился, что я не могу быть тебе полезен, надеюсь, мне разрешено будет
удалиться?
Герцог резко повернулся к нему.
-- Продолжаем играть в прятки? -- спросил он невозмутимо. -- Разве я не
сумел убедить тебя, что ты не прогадаешь, если согласишься выполнить мое
поручение?
-- Это прекрасная библиотека, но... я уже связан словом с другими.
-- Быть может, я выразил свою мысль недостаточно ясно. -- Герцог
говорил размеренно и зловеще. -- Хотя ты и отрицаешь это, я знаю, что тебе
известно, где находится рукопись Алексида. Она будет принадлежать мне. Мне
-- и никому другому! Я не уступлю ее даже Джованни Медичи! Ты продашь мне
свои сведения прежде, чем покинешь этот дом. А то, что нам не продают, мы
берем.
-- Но каким образом вы можете "взять" сведения? -- Почему-то, попадая в
опасное положение, Алан всегда начинал говорить насмешливо.
-- Это уж дело Чезаре. Не правда ли, Чезаре?
Молодой человек оскалил зубы.
-- Твоя светлость может на меня положиться. Мы с Бернардо сумеем
развязать ему язык. Завтра утром тебе будет известно все, что он знает.
Алан переводил взгляд с одного на другого, оценивая положение. У него
не было оружия, не было ничего, кроме книги и подсвечника. Руки его заняты,
и ему не удастся выхватить кинжал у кого-нибудь из них. Да и поможет ли это?
Предположим, он даже сумеет справиться с ними обоими. Они, несомненно,
успеют поднять тревогу, и из дворца ему все равно не выбраться.
Может быть, попробовать что-нибудь другое? Как-нибудь осторожно, не
вызывая подозрений, избавиться от книги и подсвечника, освободить обе руки,
а потом внезапно броситься на герцога, выхватить из драгоценных ножен на его
поясе кинжал и прижать острие к груди старика прежде, чем Чезаре успеет
вмешаться? Быть может, такой заложник обеспечит ему свободный выход? И, ведя
герцога под руку, прижимая кинжал к его боку, он покинет дворец и окажется
на свободе?
Но это слишком рискованно. Да и герцог, вероятно, носит под бархатом
кольчугу. А что делать тогда?
"Какой же я дурак!" -- внезапно подумал Алан. Он вдруг сообразил, что
именно те предметы, от которых он так хотел избавиться, и могут открыть ему
путь к свободе.
-- Назад, Чезаре! -- сказал он. -- Или твой господин никогда тебе не
простит!
От неожиданности молодой итальянец попятился, но тут же выхватил кинжал
из ножен. Бледные руки герцога тревожно взметнулись:
-- Моя рукопись!.,
-- Вот именно. -- Алан поднял свечу, так что язычок пламени почти
лизнул рукописные страницы Гомера. -- Одно движение -- и эта книга вспыхнет!
Герцог испустил вздох, похожий на стон.
-- Не вздумай ослушаться его, Чезаре! -- пробормотал он хриплым
голосом, в котором не осталось и следа прежней вкрадчивой любезности. -- Ты
ведь знаешь, сколько стоит мой Гомер.
-- На что надеется этот молокосос? -- презрительно спросил Чезаре. --
Дворец полон наших людей, мне стоит только кликнуть, и...
-- Вы можете изрубить меня на куски, -- весело перебил его Алан, -- но
книгу это не спасет. Если не ошибаюсь, твой господин сказал, что это --
жемчужина его собрания, и он вряд ли будет тебе благодарен за подобную
услугу.
-- Да-да, -- поспешно вмешался герцог, -- ни в коем случае не торопись,
Чезаре, и не наделай глупостей. Нам следует обсудить все это спокойно.
-- Обсуждать будет легче, если ты прикажешь Чезаре бросить кинжал на
пол, вон туда, и если сам снизойдешь последовать его примеру.
-- Я никому не позволю обезоружить меня! -- вспыхнул Чезаре.
-- Не спорь, -- с беспокойством сказал герцог, и их кинжалы упали рядом
на ковер.
Алан перешел к столу и поставил на него подсвечник, чтобы дать
отдохнуть затекшей руке.
-- А теперь слушайте, -- заговорил он как мог тверже и увереннее, -- и
я скажу вам, что мы сделаем.
-- Скажешь нам? -- Герцог поднял брови. -- Ты добился некоторого
преимущества, юноша, но оно только уравняло нас. Ты, конечно, можешь сжечь
моего Гомера, но зато я могу сжечь тебя самого... Иди выбрать для тебя еще
какую-нибудь смерть.
-- Но при этом ты лишишься своего Гомера, а моя смерть не подарит тебе
Алексида.
Герцог кивнул.
-- Верно, -- пробормотал он, словно говоря сам с собой.
-- Таким образом, все преимущества на моей стороне. -- Алан спокойно
глядел на герцога, но сердце его бешено колотилось. Он отчаянно старался
ничем не выдать своего страха и неуверенности. Эти двое были словно львы
перед укротителем. Стоит им догадаться, что он боится их, и они бросятся на
него. -- Ты, синьор, понимаешь это, но твой наемник как будто еще не понял.
-- Я с большим удовольствием перережу тебе горло, петушок, -- ласково
сказал Чезаре, -- и этого дня недолго ждать.
-- Вот видишь, -- заметил Алан, -- тебе следует позаботиться, синьор,
чтобы он не наделал глупостей.
-- Да-да, -- пробормотал герцог, -- помолчи, Чезаре. Разве ты не
понимаешь, что с ним погибнет и тайна? Надо найти другой способ...
-- Теперь я пойду домой. Пусть Чезаре проводит меня до дверей и
последит, чтобы меня пропустили свободно. Книгу и свечу я возьму с собой...
для безопасности.
Герцог задумался.
-- Ну что же, -- сказал он, -- у меня нет выбора. Чезаре, ты проводишь
нашего юного друга из дворца и присмотришь, чтобы никто не коснулся его и
пальцем. -- Он повернулся к Алану. -- А ты дашь мне слово, что на улице
вернешь Чезаре книгу в обмен на свободу.
-- Конечно, нет, -- рассмеялся Алан. -- Я молод, но не настолько глуп.
Я вряд ли благополучно доберусь до дому, если верну тебе этого заложника на
пороге дворца. Нет, твой Гомер останется у меня, пока я не окажусь перед
дверями мессера Мануция.
-- Ни за что! -- Взгляд герцога стал ледяным. -- Эта книга не покинет
пределов дворца.
-- Она вернется в него в целости и сохранности, -- пообещал Алан. --
Пусть Чезаре пойдет со мной, и я даю тебе слово, что отдам ему Гомера на
пороге дома мессера Мануция. Но только прикажи ему вести себя благоразумно
-- объясни ему, что, если книга погибнет, ты, как его господин, накажешь
его.
-- Я не дурак, -- огрызнулся Чезаре.
-- Придется подчиниться, -- устало сказал герцог. Алан с трудом скрыл
свою радость.
-- Отлично. Что поделаешь, один из нас должен положиться на обещание
другого. Ну, а после событий этого вечера я предпочту, чтобы тебе пришлось
довериться моему слову, а не наоборот. Ты готов, Чезаре? Нет, оставь свой
кинжал здесь, он тебе не понадобится. Доброй ночи, синьор.
Вслед за хмурым молодым итальянцем Алан вышел из библиотеки. Чезаре
провел его назад по длинным галереям, вниз по широкой лестнице в квадратный
зал, выходивший на улицу. При их появлении несколько вооруженных людей,
сидевших там, вскочили на ноги и почтительно поклонились. Чезаре молча
прошел мимо, и Алан, внимательно вглядывавшийся в их лица, решил, что он не
подал им никакого незаметного знака. Если их и удивило, что гость идет по
ярко освещенным апартаментам с зажженной свечой в руке, они ничем не выдали
своего изумления. На всякий случай Алан отстал от Чезаре еще шага на два.
На крыльце он на секунду остановился и, бросив свечу, быстро выдернул
из кольца пылающий факел. Чезаре оглянулся, чтобы выяснить, почему он
задержался.
-- Может подняться ветер, -- любезно объяснил Алан. -- Если бы он задул
мою свечу... мне было бы труднее добраться до дому. Возможно, ты тоже об
этом подумал...
Чезаре еще больше нахмурился, но ничего не ответил и пошел вперед. Алан
не имел ни малейшего представления, где именно они находятся, однако он
решил, что итальянец ведет его правильно -- ведь Чезаре не имело никакого
смысла обманывать его до тех пор, пока у него в руках оставались книга и
факел.
И все же Алану было не по себе, пока они шли по узким улочкам и
набережным, по длинным мостам и коротким узеньким мостикам. Наконец они
пересекли широкую площадь и пошли под колоннадой, погруженной в угрожающий
полумрак. Город еще веселился, но улицы уже опустели -- люди расходились по
домам, чтобы продолжить празднество в дружеском кругу. Порой навстречу этой
странной паре попадались кучки громко распевающих гуляк, но чаще вокруг
никого не было видно.
Не было видно... Но Алана не оставляло странное ощущение, что позади
них, прячась в тень, крадутся какие-то люди, что из-за углов впереди на них
устремлены настороженные взгляды. Он шел, словно одинокий путник по зимнему
лесу, где за каждым деревом ему чудятся волки.
И, не выдержав, он крикнул шедшему впереди Чезаре:
-- Я не слеп! Если твой герцог задумал предательство, он не захватит
меня врасплох! -- И он многозначительно взмахнул факелом.
-- Не беспокойся, -- бросил через плечо Чезаре. -- Неужели ты думал,
что он не примет мер предосторожности? Они тут, чтобы охранять его Гомера, а
не нападать на тебя.
Тем не менее Алан от души обрадовался, когда увидел темную громаду
церкви Святого Августина, а мгновение спустя -- и звеневший музыкой и смехом
дом Альда с гостеприимно распахнутыми дверями. И тут он с удивлением
сообразил, что все это опасное приключение заняло меньше двух часов. Он
думал, что его хватились, что Антонио с друзьями в тревоге бросился на
розыски, а на самом деле он только чуть-чуть опоздал к ужину.
-- Ну-ка, остановись, -- сказал он Чезаре и, пройдя мимо него к дверям,
осторожно положил Гомера на каменную ступеньку и, вставив факел в пустое
кольцо на стене, добавил самым любезным тоном: -- Я думаю, факел пригодится
тебе для обратной дороги. Спокойной ночи!
-- На этом наше знакомство еще не кончилось, -- заметил Чезаре.
-- Боюсь, ты сочтешь меня грубым, если я скажу, что от души хочу, чтобы
мы больше не встречались, однако это так.
Алан быстро взбежал по ступенькам. На углу к этому времени скопилось
много черных теней, а он вдруг вспомнил, что итальянцы умеют метко бросать
ножи.
Когда ужин кончился, Алан шепнул Альду, что им нужно поговорить
наедине. В своей комнате книгопечатник с тревогой выслушал рассказ юноши.
-- Ты говоришь, что на гербе был изображен золоченый ястреб или сокол?
Да, это, несомненно, был герцог Молфетта. Он живет в Венеции как изгнанник,
потому что его бывшие подданные предпочли учредить республику. Его прозвали
Ястребом, и у него на службе состоит гнусный негодяй, по имени Чезаре
Морелли.
-- Не могу его понять, -- заметил Алан. -- Какое противоречие! Он так
любит книги... И все же готов похищать, убивать!
-- К сожалению, в Италии такие люди не редкость, -- со вздохом ответил
Альд. -- Они страстно влюблены в красоту, и особенно в красоту античного
искусства и литературы. Они любят ее так же искренне, как ты или я. Но,
кроме того, они -- люди нашего века, а в Италии это век предательств и
заговоров, отравлений и убийств из-за угла. Они упиваются высокой и ясной
философией Платона... а потом идут и убивают не моргнув глазом. Даже
созерцая какой-нибудь шедевр Праксителя, они обдумывают очередную резню.
-- Но как он узнал про Алексида?
-- У таких людей есть шпионы.
-- Но как же так? В этом доме?
-- Даже в этом доме, -- с грустью сказал Альд, -- возможно, есть
недостойные люди, обманывающие мое доверие. И прежде случалось многое... --
Он улыбнулся. -- Как видишь, и у безобидного книгопечатника есть свои
тревоги, Алан. Мне пришлось пережить немало невзгод. Мои подмастерья
устраивали против меня заговоры, соперники-книгопечатники заключали союз,
чтобы разорить меня, бесчестные книготорговцы ставили мою марку на скверно
отпечатанных книгах. Таких мошенников прозвали пиратами, и вполне
заслуженно. -- Он пожал плечами. -- И все-таки я многого добился с помощью
терпения и упорства, и дальше буду трудиться все так же без отдыха.
-- Наверное, они долго выслеживали меня, -- задумчиво проговорил Алан.
-- Ведь они заговорили со мной как хорошие знакомые, и я решил, что это
кто-то из моих новых друзей...
-- И они по-прежнему будут за тобой следить. Теперь нам придется
удвоить осторожность. Не то Молфетта опять тебя схватит.
-- Разве в Венеции нет закона? -- возмущенно спросил Алан.
-- Есть-то есть, но наши правители благоволят к герцогу, иначе ему не
разрешили бы поселиться здесь. Однако и он может позволить себе далеко не
все. Например, он не посмеет напасть на мой дом. Но если бы мы принесли
жалобу на него за то, что случилось сегодня, толку не было бы никакого.
Сбиры отлично знают, чем занимается Чезаре Морелли и его люди, но они не
вмешиваются.
-- Понимаю.
-- Ты сегодня отличился. Правда, тебе повезло, но ты выказал и немалое
мужество. Ответь-ка мне на один вопрос. -- И Альд, наклонив голову, с
лукавой улыбкой взглянул на Алана. -- Если бы они на тебя напали, ты и
вправду поднес бы факел к Гомеру?
Алан посмотрел ему прямо в глаза и рассмеялся:
-- Мне кажется, ты уже успел узнать меня. Конечно, нет! Ведь я все-таки
ученик Эразма. У меня не поднялась бы рука, чтобы подпалить даже уголок
страницы. Это было бы равносильно убийству!
Альд одобрительно кивнул.
-- Я так и думал... Странно, что герцог не догадался об этом. Ну,
Морелли, конечно, тебя не мог понять.
-- Ты прав. У герцога, пожалуй, не было другого выхода, но я еще тогда
подумал, что он отпускает меня как-то подозрительно легко.
-- Неужели ты и сейчас не понял, Алан, почему он так поступил?
-- Нет. А почему?
-- Мертвый ты был ему не нужен. Да и как пленник тоже -- а вдруг пытки
Чезаре не заставили бы тебя говорить? Но живой, на свободе ты можешь
послужить ему гончей и привести его свору к рукописи, если удастся
установить за тобой тайную слежку. А в последнюю минуту он надеется
выхватить Алексида из твоих рук, словно охотник, который отгоняет гончих от
затравленного оленя.
-- Весьма остроумно задумано, -- угрюмо буркнул Алан, -- но мы еще
посмотрим, что из этого выйдет.
Альд встал.
-- Уже поздно, мой друг. Тебе надо отдохнуть после этого неприятного
приключения, а меня ждут внизу друзья. Приходи ко мне завтра утром. Нар надо
обсудить дальнейшие планы.
-- Дальнейшие планы чего, синьор?
-- Твоей... или чьей-нибудь еще поездки в Варну.
-- Чьей-нибудь еще? -- повторил Алан, думая, что ослышался.
-- Но ведь, Алан, теперь, когда герцогу все известно, лучше будет,
чтобы ты остался здесь в безопасности, а я постараюсь подыскать надежного...
-- Нет! -- Измученный волнением и усталостью Алан почти кричал. -- Я
начал это дело, и я доведу его до конца! Я не боюсь ни Молфетты, ни Морелли.
В Варну поеду я, и никто другой!
-- Тш-ш-ш... Не кричи об этом на весь дом.
-- Прости, синьор.
-- Я понимаю твои чувства. Ты поедешь, и очень скоро, как только мы
закончим необходимые приготовления. Мой феррарский друг сообщил мне все
нужные сведения. Дорога в Варну открыта перед тобой, дружок!
Глава шестая. ТАЙНЫЙ ОТЪЕЗД
Когда Алан на следующий день торопливо шел по коридору к кабинету
Альда, его остановила Анджела д'Азола. Можно было подумать, что она
подстерегала его, прячась за занавеской. Протянув белую руку, она преградила
ему дорогу.
-- Алан! -- У нее был удивительно низкий для ее возраста голос --
звучное контральто. -- Скажи мне одну вещь...
-- Какую?
-- Что именно хранится в Варне?
Алан похолодел и тревожно оглянулся. К счастью, в коридоре никого не
было видно.
-- Варна? -- ответил он спокойно. -- В первый раз слышу это название.
-- Мне ты мог бы не лгать! -- гневно воскликнула она.
-- Прости, но...
-- Я знаю, у вас с дядей Альдом есть какая-то тайна.
-- В таком случае, пусть она и остается тайной, -- невозмутимо ответил
Алан и, не удержавшись, добавил: -- В Англии девушки не суют нос в важные
дела. Всем известно, что они не умеют хранить секреты.
Бац! Анджела дала ему оглушительную пощечину. У Алана зазвенело в ушах,
и он от души пожалел, что Анджела в свое время вздумала заняться греблей.
-- Английский варвар! -- бросила она презрительно.
-- Это правда. -- Он насмешливо поклонился, -- Но мне казалось, будто
ты разделяешь мнение Эразма, что "весь мир -- это одно общее отечество".
Удар попал в цель. По ее глазам он догадался, что на этот раз она
покраснела не от гнева, а от стыда.
-- Мне не следовало этого говорить... Я... я прошу прощения, --
пробормотала она и, совсем смутившись, убежала.
Алан с улыбкой посмотрел ей вслед, а потом подошел к двери кабинета и
постучал.
Феррарский друг Альда даже нарисовал ему карту. Она отнюдь не походила
на изукрашенные творения искусных картографов: на ней в пустых пространствах
моря не резвились сказочные чудовища, по ее углам не надували щеки херувимы,
изображающие ветра, города и страны не обозначались пестрыми гербовыми
щитами. Это был простой набросок, деловитый и удобный, несмотря на то что
штрихи, обозначавшие горы, не слишком ясно показывали их высоту и
расположение.
Наклонившись над столом, Алан внимательно следил за указательным
пальцем Альда, скользившим по пергаменту. К его величайшему огорчению,
палец, опустившись на Венецию, решительным движением пересек Адриатическое
море.
-- Ты поедешь на корабле, -- сказал книгопечатник.
-- А... э... не лучше ли будет поехать кружным путем по суше? -- Алан
указал на дугу, изображавшую северное побережье;
-- На это потребуется гораздо больше времени, да этот путь и гораздо
более опасен во всех отношениях. На корабле тебе легче будет покинуть
Венецию так, чтобы Морелли об этом не проведал.
-- Пожалуй, -- уныло согласился Алан, чувствуя, что у него уже
начинается приступ морской болезни.
-- Пусть тебя это особенно не пугает. Адриатическое море нешироко и со
всех сторон окружено сушей. К тому же в это время года оно обычно бывает
тихим.
-- Ну, так куда же я поеду?
Палец печатника скользнул на юго-восток.
-- Ты поплывешь вдоль берегов Далмации... Видишь, весь этот кусок
принадлежит Венеции. Но ты высадишься в Рагузе, на которую ее власть не
распространяется.
-- .А дальше?
-- Отправишься внутрь страны. Сперва по дороге, ведущей в
Константинополь. Затем вот в этом месте, которое Бенедикт пометил крестиком,
ты свернешь направо. Вон там находится озеро Варна, из которого вытекает
река Ольтул. Бенедикт сказал, что тебе надо только добраться до Ольтула, а
потом идти вверх по течению, и ты выйдешь к самому монастырю.
-- Понимаю.
Альд свернул карту.
-- Спрячь ее получше.
-- Нет, синьор, запри ее в твоем сундуке или просто сожги. Я все
запомнил.
-- И уверен, что не забудешь? Очень хорошо. Конечно, будет безопаснее,
если ты сумеешь обойтись без нее.
Затем они стали обсуждать все подробности предстоящего путешествия.
Было решено, что Алан отправится один и из Рагузы пойдет пешком -- так же,
как он добирался из Англии в Венецию. Конечно, это займет больше времени, но
зато он будет привлекать к себе меньше внимания. К тому же этот способ был
самым дешевым. А это имело большое значение, потому что Альд был небогат, и
хотя ради рукописи Алексида он с радостью пожертвовал бы значительной частью
своего состояния, сумма все равно была бы невелика.
Вопрос о том, как добыть рукопись, если ему все же удастся найти Варну,
они уже не раз обсуждали раньше. Разрешат ли монахи сделать с нее список?
Согласятся ли они ее продать? В этом случае Альд обратился бы к своим ученым
друзьям в основанной им академии, и они, несомненно, помогли бы ему собрать
необходимые деньги. Альд должен был дать Алану подписанный им вексель, в
котором юноша затем проставит сумму, назначенную монахами. Было бы, конечно,
лучше, если бы вексель подписал какой-нибудь известный банкир, но в таком
случае его пришлось бы посвятить в тайну.
Ну, а вдруг монахи Варны не захотят продать, подарить или хотя бы дать
списать рукопись?
Альд, человек щепетильно честный, отказался даже обсуждать другие
возможности получить рукопись. Однако Алан заметил, что в душе итальянца
происходила нелегкая борьба. Он и сам уже не раз задумывался над этой
проблемой. Быть может, такое воровство на самом деле не будет воровством?
Разве кто-нибудь -- монах или герцог -- имеет право лишать мир драгоценной
книги?
Но пока над этим не стоило ломать голову. Он решит, когда настанет
время. И какое бы решение он тогда ни принял, он примет его по собственному
разумению и на собственную ответственность.
А пока надо было заняться более неотложными делами...
-- Я смогу помочь тебе добраться до Рагузы, -- сказал книгопечатник. --
Туда часто отправляются торговые суда. Один из капитанов -- мой хороший
знакомый. Если не ошибаюсь, сейчас он в Венеции. Ты можешь поехать с ним,
ничего не опасаясь, -- Пьетро умеет держать язык за зубами.
-- Но Морелли наверняка установил слежку за твоим домом, так что я не
могу просто взять дорожную сумку и отправиться на корабль.
-- Ты прав. -- Альд задумчиво погладил бритый подбородок. -- Нам надо
как-то сбить их со следа.
Алан сосредоточенно нахмурился.
-- Нашел! Мою сумку можно отправить на корабль с носильщиком -- ведь
весь день напролет в дом приносят и из него выносят всякие ящики и свертки.
А я пойду погулять с Антонио, как мы ходим каждый день.
-- Ну, а потом?
-- Такие корабли обычно отплывают на рассвете?
-- Да, кажется.
Алан на минуту задумался, а потом сказал:
-- Я знаю, что делать, синьор. Если ты договоришься с капитаном и
сообщишь мне день отплытия, я, пожалуй, сумею сбить Морелли со следа.
Оказалось, что капитан Пьетро Монтано намеревается отплыть из Венеции
утром во вторник (его корабль носил название "Дельфин", и Алан счел это
добрым предзнаменованием). И вот вечером в понедельник, попрощавшись только
с Альдом и его женой, Алан вышел из дома, словно собираясь погулять. С ним
пошел Антонио, посвященный в тайну. Они пригласили на прогулку Анджелу и ее
сестру, ни о чем их, однако, не предупредив. Юноши не сомневались, что
общество девушек рассеет всякие подозрения соглядатаев Морелли.
Алан, впрочем, решил действовать наверняка и придумал план, как
избавиться от возможной слежки. Когда они вышли на набережную, он высмотрел
пристань, около которой стояла только одна гондола, и начал действовать.
-- Пойдем, -- сказал он быстро, беря Анджелу за локоть.
-- Но...
-- Мы немножко прокатимся, -- вмешался Антонио, и растерявшиеся девушки
не успели оглянуться, как уже сидели в лодке. Антонио отдал распоряжение
гребцам, и гондола вскоре свернула в боковой канал.
Алан то и дело оглядывался и через несколько минут убедился, что за
ними никто не следует. Он отдал новое приказание, и гондола повернула,
подняв легкую рябь. Они скользнули под мостом и очутились в другом канале.
-- Но все-таки куда мы едем? -- спросила Беатриса д`Азола.
-- Погоди и сама увидишь, -- бесцеремонно посоветовал Антонио своей
двоюродной сестре.
Анджела же все это время хранила молчание, что было совсем на нее не
похоже.
Они расплатились с гребцами и вышли на берег.
-- Мы только посетим мастерскую мессера Ринальдо, -- сказал Антонио. --
Вы же знаете, что он недавно звал Алана прийти посмотреть его картины.
-- Солнце вот-вот зайдет, -- язвительно заметила Анджела. -- Самое
подходящее время любоваться картинами! Впрочем, картины эти писал Ринальдо,
так что, пожалуй, чем темнее, тем лучше.
Ответить на это было нечего.
Ринальдо, толстый чернобородый художник, пытался во всем подражать
своему другу Тициану -- большая ошибка с его стороны, потому что таланта
Тициана у него не было. Подобно Тициану, он писал фрески, портреты, сцены из
античных легенд, но что-то в них было не так. Как и Тициан, он отказался
служить прихотям одного богатого мецената и завел собственную мастерскую,
где писал картины для всех, кто выражал желание их купить. К несчастью,
таких желающих находилось немного.
Тем не менее Ринальдо неизменно пребывал в превосходном расположении
духа -- возможно, потому, что то и дело пропускал стаканчик-другой дешевого
местного вина, которое он очень любил. Своих молодых гостей он встретил с
распростертыми объятиями. В мастерской было уже почти темно. К стенам были
прислонены недописанные холсты, на полу валялись этюды и наброски. Острый
запах лука, которым Ринальдо заедал хлеб с сыром, совсем заглушил запах
красок.
-- Добро пожаловать, добро пожаловать! -- загремел он. -- Это большая
честь для меня. Нет-нет, не садитесь на эту скамью, синьорины, я клал на нее
свою кисть, и можно прилипнуть. Выпейте винца! Скушайте луковичку! Ну, не
угодно -- как угодно.
Прошло несколько минут, прежде чем Алану и Антонио удалось отвести его
в сторону и шепотом объяснить, о какой услуге они его просят. Художник
пришел в восторг:
-- Можно ли Алану переночевать здесь? Поспать до рассвета? Ну конечно.
Мы отыщем ему удобный уголок...
-- Говори, пожалуйста, потише, -- умоляюще шепнул Алан. -- Девушки об
этом ничего не знают.
-- Ты так думаешь? -- Запрокинув черную курчавую голову, Ринальдо
разразился веселым хохотом, больше всего напоминавшим рев рассерженного
быка. -- Уж поверь мне, от женщин ничего не укроется.
Он не сомневался, что тайный отъезд Алана из Венеции связан с какой-то
неблаговидной проделкой, и ничто не могло его переубедить. Сам по уши в
долгах, он был уверен, что молодой англичанин задумал удрать от своих
кредиторов. Басисто похохатывая, он то и дело тыкал Алана указательным
пальцем в бок, что юноше очень не нравилось.
На улице уже совсем стемнело, и остальным пора было возвращаться домой.
Когда они встали, собираясь уходить, Беатриса вопросительно поглядела на
Алана.
-- Так, значит, ты не возвращаешься с нами? Нам, вероятно, следовало бы
проститься?
Алан смутился и почувствовал себя неотесанным мужланом. Его утешила
только мысль, что, когда он благополучно покинет Венецию, Антонио объяснит
им, в чем дело.
-- Да, -- пробормотал он, -- всего хорошего.
Он повернулся к Анджеле, но она уже сбежала по лестнице, не простившись
с ним.
-- Пора вставать, мой юный шалопай!
Ночь была такой тихой, что даже Ринальдо приглушил свой громовой голос.
Алан заворочался на лавке, мигая от желтого света воскового огарка.
-- Который час? -- спросил он зевнув.
-- Уже скоро рассветет. За тобой, как ты и говорил, пришел корабельный
юнга.
-- А ты уверен, что это не самозванец? -- Алан спустил ноги с лавки,
нащупывая башмаки.
-- Он передал мне для тебя вот это. -- И Ринальдо протянул Алану его
собственный перстень с фамильным гербом, который он накануне передал Альду,
чтобы узнать вестника с "Дельфина".
Надев кольцо на палец, юноша встал.
-- Не выпьешь ли винца? -- с надеждой предложил художник. -- Ну что ж,
не угодно -- как угодно!
Выйдя на улицу, Алан вздрогнул от холода. С Альп дул пронизывающий
северо-западный ветер. Юнга плотно закутался в плащ и натянул свой шерстяной
колпак на самые уши. Они почти не разговаривали, потому что Алан еще
недостаточно хорошо выучил итальянский язык, чтобы понимать деревенский
диалект немногословного юнги, совсем не похожий на речь венецианцев.
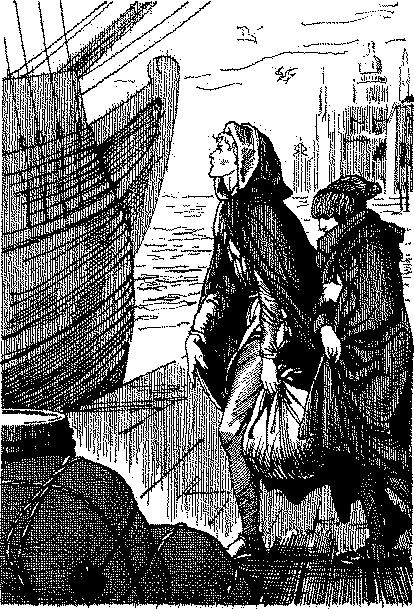 Заря еще не занялась, а факелов у них не было, но юнга тем не менее
уверенно шел по темным улицам, громко стуча по мостовой тяжелыми деревянными
башмаками. Вскоре они уже оказались на пристани, возле которой стоял
"Дельфин". На корабле, готовясь к отплытию, суетились матросы. У сходен
стоял какой-то тощий человек и тревожно постукивал пальцем по украшенному
резьбой борту.
Алан ни за что не догадался бы, что перед ним капитан корабля, если бы
юнга, прежде чем удалиться на корму, не ткнул в ту сторону пальцем.
-- Капитан Монтано? -- вполголоса спросил Алан.
Тот оглядел его в неверном свете фонаря.
-- От мессера Мануция? -- спросил он унылым голосом. -- Ладно. Я тебя и
жду. Твои вещи уже здесь. Завтракать будем, когда отплывем. Я спущусь к
тебе, как только мы выйдем из гавани,
Алан считал, что оставаться на палубе до отплытия опасно, и поспешил
спуститься в каюту. "Дельфин" показался ему старой лоханью (днем это
впечатление вполне подтвердилось), и он мысленно поздравил себя с тем, что
плыть им предстоит по тихому Адриатическому морю, а не по бурным водам
Ла-Манша.
В каюте было душно, стоял тяжелый запах, и Алан с большой радостью
услышал шум на палубе: значит, они отчалили и теперь медленно выходят на
веслах в открытое море. Надвинув шляпу на глаза, чтобы остаться неузнанным в
случае, если на берегу вдруг окажется соглядатай, он поднялся на палубу.
Он на всю жизнь запомнил этот час перед завтраком, когда небо на
востоке над морем побледнело, а потом стало золотым, и из отступающего
сумрака стали постепенно возникать купола и башни Венеции. Опершись о борт,
Алан смотрел на великолепный город, теснившийся среди лагун на сотнях
островов, и следил, как первые лучи солнца, словно стрелы, падали на крыши
самых высоких зданий. Богатейший порт мира, думал он, не имеющий соперников;
Алан и не подозревал, что расцвет Венеции уже позади, что он сам еще доживет
до того дня, когда ее затмят западные города, стоящие на новых океанских
путях в Америку и Индию.
Капитан Монтано уныло следил, как его матросы подымают латинский
парус[1]. По-прежнему прямо им в корму дул северозападный ветер, самый
попутный из всех возможных. Но даже и это как будто не радовало хмурого
моряка.
[1]Треугольные паруса особого типа, появившиеся в средние века на
судах, плававших по Средиземному морю между "латинскими странами" (Италия,
Франция и другие).
Они уже вышли в море, и город, расположенный на низких островах,
скрылся из виду.
-- Пожалуй, пойдем позавтракаем, -- сказал капитан мрачно. -- Хоть мне
от еды никакой радости нет.
-- Ну так я могу съесть твою долю, -- раздался веселый голос, и вслед
за ними по трапу скользнул темно-рыжий юнга.
Но Алан, вздрогнув, понял, что перед ним не юноша. Несмотря на сапоги и
панталоны, он узнал Анджелу д'Азола.
Заря еще не занялась, а факелов у них не было, но юнга тем не менее
уверенно шел по темным улицам, громко стуча по мостовой тяжелыми деревянными
башмаками. Вскоре они уже оказались на пристани, возле которой стоял
"Дельфин". На корабле, готовясь к отплытию, суетились матросы. У сходен
стоял какой-то тощий человек и тревожно постукивал пальцем по украшенному
резьбой борту.
Алан ни за что не догадался бы, что перед ним капитан корабля, если бы
юнга, прежде чем удалиться на корму, не ткнул в ту сторону пальцем.
-- Капитан Монтано? -- вполголоса спросил Алан.
Тот оглядел его в неверном свете фонаря.
-- От мессера Мануция? -- спросил он унылым голосом. -- Ладно. Я тебя и
жду. Твои вещи уже здесь. Завтракать будем, когда отплывем. Я спущусь к
тебе, как только мы выйдем из гавани,
Алан считал, что оставаться на палубе до отплытия опасно, и поспешил
спуститься в каюту. "Дельфин" показался ему старой лоханью (днем это
впечатление вполне подтвердилось), и он мысленно поздравил себя с тем, что
плыть им предстоит по тихому Адриатическому морю, а не по бурным водам
Ла-Манша.
В каюте было душно, стоял тяжелый запах, и Алан с большой радостью
услышал шум на палубе: значит, они отчалили и теперь медленно выходят на
веслах в открытое море. Надвинув шляпу на глаза, чтобы остаться неузнанным в
случае, если на берегу вдруг окажется соглядатай, он поднялся на палубу.
Он на всю жизнь запомнил этот час перед завтраком, когда небо на
востоке над морем побледнело, а потом стало золотым, и из отступающего
сумрака стали постепенно возникать купола и башни Венеции. Опершись о борт,
Алан смотрел на великолепный город, теснившийся среди лагун на сотнях
островов, и следил, как первые лучи солнца, словно стрелы, падали на крыши
самых высоких зданий. Богатейший порт мира, думал он, не имеющий соперников;
Алан и не подозревал, что расцвет Венеции уже позади, что он сам еще доживет
до того дня, когда ее затмят западные города, стоящие на новых океанских
путях в Америку и Индию.
Капитан Монтано уныло следил, как его матросы подымают латинский
парус[1]. По-прежнему прямо им в корму дул северозападный ветер, самый
попутный из всех возможных. Но даже и это как будто не радовало хмурого
моряка.
[1]Треугольные паруса особого типа, появившиеся в средние века на
судах, плававших по Средиземному морю между "латинскими странами" (Италия,
Франция и другие).
Они уже вышли в море, и город, расположенный на низких островах,
скрылся из виду.
-- Пожалуй, пойдем позавтракаем, -- сказал капитан мрачно. -- Хоть мне
от еды никакой радости нет.
-- Ну так я могу съесть твою долю, -- раздался веселый голос, и вслед
за ними по трапу скользнул темно-рыжий юнга.
Но Алан, вздрогнув, понял, что перед ним не юноша. Несмотря на сапоги и
панталоны, он узнал Анджелу д'Азола.
Глава седьмая. ЧЕРНАЯ ГАЛЕРА
Монтано, вероятно, догадался об истине одновременно с ним; во всяком
случае, он, не проявив особого удивления, сказал коротко:
-- Идем в мою каюту, пока никто из моих бродяг тебя не разглядел. А там
обсудим все дело.
-- Обсуждать тут нечего, -- небрежно сообщила ему Анджела, когда они
сели за скромный завтрак, состоявший из хлеба и фруктов. -- Я сполна заплачу
тебе за проезд. Эту одежду я надела, потому что так удобнее. Тяготы пути я
готова переносить наравне с мужчинами, а если бы я явилась сюда в женском
платье, это могло бы вызвать всякие затруднения.
-- Да, конечно, -- угрюмо согласился Алан.
Она бросила на него предостерегающий взгляд.
-- О нашем деле мы поговорим потом, -- заметила она многозначительно,
-- а капитану Монтано докучать им незачем.
Алану вовсе не хотелось говорить про Варну в присутствии посторонних,
поэтому он смирился и промолчал. Капитан, хотя он, несомненно, не знал, что
подумать, не стал, однако, возражать против присутствия Анджелы, которая
поспешила вытащить кошелек и тут же вручила ему плату за проезд.
-- Если это бегство влюбленных, -- проговорил он, обращаясь скорее к
низкому потолку, чем к ним, -- то о таком мне даже слышать не приходилось.
Дама платит за себя, а кавалер как будто даже и не предполагал, что она
явится на корабль. Ну-ну...
-- По-моему, он вообразил, будто я убежала с тобой из родительского
дома, -- засмеялась Анджела, когда они вышли из душной каюты и устроились в
укромном уголке на корме.
-- Ну, а могу ли я спросить, что ты здесь делаешь?
-- Еду с тобой в Варну, -- невозмутимо ответила она.
Алан вздрогнул и уставился на Анджелу, которая, съежившись, сидела
рядом с ним; ее рыжие волосы были аккуратно убраны под шерстяной колпак.
-- А что ты знаешь про Варну? -- спросил он шепотом.
-- Примерно столько же, сколько и ты. У меня хороший слух.
-- Но тебе нельзя ехать со мной! Это опасно. Чтобы такая молодая
девушка... нет, это безумие!
-- Вот что! -- Голос Анджелы стал еще более низким, как бывало всегда,
когда она на чем-нибудь решительно настаивала. -- Я, конечно, не знаю, как
ведут себя девушки в Англии, но ты иногда говоришь такие вещи, что я начинаю
думать, уж не держите ли вы их под замком, как турки.
-- Не говори глупостей!
-- Ну, во всяком случае, у нас в Италии другие обычаи. Девочки учатся
тому же, что и мальчики, и, став взрослыми, бывают способны подвизаться на
любом поприще, открытом для мужчин. И дело не только в том, что мы не хуже
вас знаем греческий или латынь... Кстати, ты когда-нибудь слышал про Олимпию
Морато, которая шестнадцати лет от роду читала в Ферраре лекции по
философии?
-- Ну, с помощью одной философии ты до Варны не доберешься, -- возразил
Алан.
-- Как я хотела сказать, когда ты меня перебил, итальянские женщины
способны и на многое другое. Они водили армии, они управляли целыми
провинциями, они...
-- И ничего в этом нет хорошего, -- упрямо стоял на своем Алан. -- Бог
сотворил женщин совсем для другого: их дело -- присматривать за домом. А так
они совсем превратятся в мужчин -- еще немного, и вы начнете щеголять
бородами!
-- Свинья! Невежда! Эти же самые женщины выращивали целую кучу детей и
любили все то, что любят обычные женщины: танцевать, петь, шить себе
наряды...
-- Да, конечно, они несравненны, -- насмешливо согласился он. -- Вы все
тут до того изумительны, что только диву даешься, как это итальянские
мужчины еще ухитряются найти себе какое-нибудь занятие! Ну, да дело не в
этом. Со мной ты все равно не поедешь.
-- А я говорю -- поеду!
-- А я говорю -- нет!
-- А почему нет?
Алану уже надоела эта перепалка. Он далеко уступал Анджеле в
красноречии, да к тому же "Дельфин" стал тяжело раскачиваться на серых,
зловещего вида волнах, и ему было не до разговоров.
-- Ты мне будешь только мешать, -- огрызнулся он. -- Устанешь, или
голова у тебя разболится, или еще что-нибудь придумаешь. Ты недостаточно
сильна для такой поездки.
Он почувствовал, что его собственная голова словно налилась свинцом, и
испугался, что не сумеет продержаться до тех пор, пока эта отвратительная
девчонка не уйдет куда-нибудь с кормы.
-- "Недостаточно сильна"! -- вспылила Анджела. -- Ведь ты же, по-моему,
видел, как я гребла на лодочных гонках!
-- Прошу прощения, -- буркнул Алан и, плотно сжав губы, поспешил к
противоположному борту.
В этот день они больше не спорили. Алан почти все время лежал пластом
на палубе, от души желая, чтобы "Дельфин" нырнул, наконец, в волны, раз и
навсегда прекратив его мучения. Время от времени Анджела подходила к нему и,
опустившись на колени, давала ему напиться или пососать апельсин. А потом
опять принималась расхаживать по палубе в своем мужском наряде и тихонько
напевать с беззаботностью, которая доводила Алана до исступления.
На следующее утро волнение улеглось. Море вокруг расстилалось блестящим
синим шелком. Слева были видны голубовато-серые горы Далмации и бесчисленные
прибрежные островки.
-- Ну, как ты сегодня -- достаточно силен? -- лукаво осведомилась
Анджела за завтраком. -- Надеюсь, я тебе вчера не очень мешала?
Алану оставалось только промолчать.
Позже, когда они вышли на палубу, Алан наконец сдался и они заключили
мир. Другого выхода у него все равно не было. Капитан Монтано собирался из
Рагузы плыть дальше, и Алан знал, что не сможет заставить Анджелу не плавать
на "Дельфине", пока корабль не вернется в Венецию, или отправиться из Рагузы
домой с каким-нибудь другим надежным капитаном. Кроме того, он отлично
понимал, что раз Анджела умудрилась разведать тайну его путешествия, а затем
с помощью сложной цепи подкупов и интриг (каких именно, она отказалась ему
сообщить) сумела поменяться местами с корабельным юнгой, ее обратно не
отошлешь. Значит, она едет с ним, и приходится с этим примириться. А к тому
же ей известна почти вся его тайна, и, пожалуй, будет лучше, если она
останется под его надзором, а не отправится странствовать в одиночестве,
храня в своей памяти столь опасные сведения.
-- Называй меня теперь Анджело, -- сказала она так невозмутимо, словно
вопрос о ее имени был единственным затруднением.
Во всяком случае, им повезло, что на корабле не было других пассажиров,
и они ни с кем не разговаривали, кроме Монтано, в каюте которого обедали и
ужинали. Если матросы и подозревали, что Анджела -- девушка, они этого никак
не показывали в ее присутствии, хотя у себя в кубрике, возможно, и строили
всяческие догадки.
Пьетро Монтано оказался куда более интересным человеком, чем позволял
надеяться его унылый вид. Собственно говоря, у него в жизни было только две
беды: скверное пищеварение и романтическая любовь к приключениям, которую не
могли удовлетворить однообразные плавания по узкому Адриатическому морю.
Услышав как-то, что его молодые пассажиры рассуждают о книгах, он гордо
заявил:
-- У меня тоже есть книга.
И когда они кончили обедать, он достал единственный том, из которого
состояла вся его библиотека, -- "Путешествия" Америго Веспуччи, который
несколько лет назад продвинулся на юго-запад от земель, найденных Колумбом,
и открыл новый тропический материк, названный в его честь.
-- Вот что следовало бы делать и мне, -- заявил Монтано, на минуту
оживляясь. -- Плавать по океанам, находить новые материки, давать им
названия. -- Он величественно взмахнул рукой. -- Именем бога и Венецианской
республики я вступаю во владение всеми этими странами и областями с их
золотом и серебром, с их богатствами, и на поверхности земли, и в ее недрах!
И я объявляю, что город, который я основываю здесь, будет именоваться
Сан-Пьетро в честь моего святого, а вся страна будет зваться Монтаной!
Алан взглянул на Анджелу и тотчас отвел глаза: оба они с трудом
удержались от смеха.
-- А вместо этого, -- добавил Монтано, впадая в обычное уныние, -- я
продолжаю командовать этой дырявой лоханкой, из года в год перевозя из
одного паршивого порта в другой хлеб и вино, изюм и лук.
-- Но что тебя здесь держит? -- спросила Анджела.
-- Венеция не снаряжает экспедиций в далекие страны. И остальные
итальянские города тоже. Их это не интересует -- они не видят, где лежит
будущее, и без спора уступают его испанцам и португальцам. Ведь и Америго
Веспуччи, и Христофор Колумб -- оба они были родом из Италии, а должны были
пойти на службу к чужеземцам. А вот на это я никогда не соглашусь! -- Он с
комичной решимостью задрал подбородок. -- Я согласен плавать только под
венецианским флагом! И все же это тягостный жребий для человека, который
томится по приключениям, -- добавил он с тоской.
Приключения... Открытия...
Алан и Анджела говорили о них под мягкое хлопанье паруса, когда
выходили подышать прохладой звездного вечера.
Старики без конца ворчат, что нынешний мир совсем помешался на
приключениях и открытиях. То ли дело пятьдесят лет назад, когда все было
таким привычным и установленным раз навсегда! Все верили в одно и то же:
Земля стояла неподвижно, а небесные светила услужливо ходили вокруг нее,
чтобы разгонять мрак ночью и днем; это был плоский мир, аккуратненько
окруженный океаном, и любая страна была известна всем хотя бы по названию.
Человек старался жить благочестиво и после смерти отправлялся в рай или в ад
в зависимости от того, насколько это ему удавалось. Столетия текли
однообразно, не принося почти никаких перемен ни к лучшему, ни к худшему.
Стремление к знанию почиталось греховным, а уж наука и вовсе была
дьявольским соблазном.
И вот теперь все это полетело вверх тормашками.
Мореплаватели доказали, что Земля вовсе не плоская, что она несравненно
больше, чем думали прежде, и что в мире не счесть неведомых стран. Астрономы
выступили с пугающими теориями, неопровержимо доказывая, что Земля вовсе не
стоит неподвижно, а мчится в пространстве с ужасающей скоростью. А ученые,
именовавшие себя гуманистами, уже создавали новый образ Человека -- не
греховной невежественной твари, робко ползающей между небесами и землей, но
живого воплощения разума, способного к бесконечному развитию, к бесконечному
накоплению знаний и мощи.
-- Сколько нам известно такого, о чем наши прадеды и помыслить не
могли! -- с торжеством воскликнула Анджела.
-- А сколько нам еще неизвестно? -- напомнил он ей.
-- Мы узнаем и это. А не мы, так кто-нибудь другой. Подумай, Алан,
какое чудо: нас так много, и каждый трудится на свой лад -- тот занимается
математикой, тот ведет корабли...
-- А тот режет трупы, чтобы посмотреть, как мы устроены внутри.
-- Фу, не говори гадостей! А впрочем, ты прав: даже и это сделать
необходимо.
-- А причисляешь ли ты к нам Ринальдо, который смешивает свои краски в
поисках новых оттенков?
-- Конечно! Мы все в этом участвуем. И дядя Альд, который воскрешает в
своих печатных книгах мудрость прошлого и делает ее доступной всем... И мы с
тобой, потому что едем в Варну, чтобы спасти Алексида и вернуть его людям.
-- А жаль, что Пьетро не знает о цели нашего путешествия, -- задумчиво
сказал Алан. -- Быть может, его немного утешила бы мысль, что и его лоханка
играет в этом немалую роль.
-- Он бы не понял. Для него это не приключение. Его влекут поиски новых
земель. А наши поиски вряд ли покажутся ему важными.
Несколько секунд они молчали, а потом Алан сказал:
-- Мы живем в хорошее время, правда? Полное волнений и новизны, когда
каждый день приносит что-то интересное.
-- Да, я рада, что не родилась раньше. Ну конечно, о том, что будет
после, я судить не могу.
Следующее утро принесло с собой волнения, которые, пожалуй, могли бы
удовлетворить даже Монтано с его весьма прямолинейным представлением о
приключениях.
Из-за обрывистых утесов, скрывавших узкий залив, выскользнуло длинное
темное судно. Это была трехмачтовая боевая галера с грозным тараном на
остром носу. Алан насчитал на фоне ее черного корпуса двадцать два длинных
белых весла.
-- Быстроходный корабль, -- заметил Алан, оборачиваясь к Анджеле.
-- Если он не свернет, то мили через две мы встретимся.
-- Капитан отдал какую-то команду... Смотри, мы поворачиваем вправо.
-- А жаль, -- сказала Анджела. -- Мне хотелось рассмотреть эту галеру
поближе.
-- Ты еще сможешь налюбоваться ею досыта, -- заверил ее проходивший
мимо Монтако. Тон его был даже мрачнее обычного, и Алан заметил в его глазах
тревогу.
-- Что ты имеешь в виду? -- спросил он.
-- Пираты! -- коротко бросил Монтано и прошел на нос, отдавая спешные
распоряжения матросам.
Глава восьмая. "ДЕЛЬФИН" В БЕДЕ
Анджела и Алан испуганно посмотрели друг на друга. Алан даже удивился,
заметив, что лицо девушки побелело, настолько это не вязалось с ее обычной
дерзкой смелостью.
-- Они нас догонят, -- сказала она.
Это было более чем вероятно. "Дельфин" уже повернул и, ловя попутный
ветер, торопился уйти в открытое море. Но черная галера, узкая,
быстроходная, увлекаемая не ветром, а прикованными к веслам рабами, летела
по волнам, как гончая за добычей.
-- Пираты Адриатики -- не люди, -- продолжала Анджела, вздрогнув, --
это хищные звери.
-- Бояться нечего, -- утешил ее Алан, надеясь, что его собственное лицо
не выдает страха, который он испытывает. -- Мы заставим их погоняться за
нами, а тем временем подойдет какой-нибудь другой корабль, и они поспешат
удрать.
Но в глубине души он вовсе не был в этом уверен. Любой купеческий
корабль при виде пиратов, вероятно, сам поспешит удрать, предоставив
"Дельфина" его судьбе. Спасти их могло только появление военной галеры --
венецианской или какой-нибудь еще.
Монтано вернулся на корму и с тревогой посмотрел на преследователей.
Пиратское судно, не успев отрезать им отступление, гналось за ними. До него
было не больше двух миль.
Алан дернул капитана за рукав.
-- Какое у нас есть оружие? -- спросил он.
Монтано только пожал плечами.
-- Да никакого, кроме вон той маленькой кулеврины на корме. А это не
пушка, а хлопушка.
-- А для рукопашной?
-- Несколько пик и сабель, парочка аркебузов, еще что-то... Я раздам их
своим людям. Но если пираты нас нагонят, такое оружие нам не поможет.
-- А твои матросы будут драться?
-- Если только им не взбредет в голову добираться до берега вплавь.
Любой человек будет драться, защищая свою жизнь.
Алан посмотрел в сторону берега. Он был уже так далеко, что и самый
умелый пловец вряд ли смог бы до него добраться даже в такую тихую погоду.
Монтано словно прочитал его мысли.
-- Если они нас нагонят и пойдут на абордаж, то вам с ней лучше всего
будет прыгнуть в воду.
-- Она не доплывет. Я и сам-то вряд ли доплыву. А она только-только
умеет держаться на воде.
-- И все-таки пусть лучше попробует. Попасть в плен к этим молодцам --
удовольствие маленькое. Мы с тобой станем гребцами на галере, а ее продадут
в рабство туркам. Есть вещи и похуже смерти. Чтобы умереть, нужна одна
минута, а жизнь в рабстве может длиться очень долго.
Они говорили вполголоса, но Анджела расслышала их слова. Теперь она
подошла к ним, белая как полотно, даже губы ее побелели.
-- Я не стану прыгать в море и не заколюсь, -- твердо сказала она. -- И
то и другое было бы самоубийством. А церковь запрещает нам налагать на себя
руки. Мы должны встретить то, что нас ждет. А пока полезнее будет не
болтать, а заняться оружием.
Монтано кивнул, и они последовали за ним в трюм,
Как он и сказал, арсенал "Дельфина" представлял собой весьма пеструю
коллекцию допотопного оружия, которое к тому же давно уже не пускалось в ход
и даже не чистилось. Алан подобрал себе железную каску и кожаный панцирь,
сильно заплесневевший и в нескольких местах порвавшийся, так что из дырок
торчало тряпье, которым он был подбит. Однако и такой панцирь был лучше, чем
ничего, и мог смягчить силу вражеского удара. Алан уже выбрал себе саблю и
вдруг радостно вскрикнул: в углу лежал лук и колчан с десятком стрел.
Правда, этот лук не шел ни в какое сравнение со знаменитыми английскими
длинными луками, однако, натянув тетиву, Алан убедился, что стрелять из него
можно. Если пираты настигнут "Дельфин", им придется познакомиться с
искусством английского лучника -- весьма возможно, впервые в жизни.
К тому времени, когда оружие было роздано и они вернулись на корму,
галера приблизилась к "Дельфину" на расстояние в полмили.
Монтано сам стал к рулю. Блестящий панцирь и высокая каска придавали
ему весьма воинственный вид, но он, очевидно, надеялся не столько на силу
оружия, сколько на свое умение управлять кораблем. Он, несомненно, был
превосходным моряком и так искусно вел "Дельфина", что ни один порыв ветра
не пропадал зря.
И все же черная галера, сверкая веслами, неуклонно приближалась.
Команда "Дельфина" столпилась на высоком юте, растерянно осматривая
свое оружие и нервно облизывая губы. Два-три арбалетчика, заложив стрелу,
усердно натягивали тетиву, а те, кто получил аркебузы, готовили порох, трут
и огниво. Анджела в шлеме и стальной кольчуге заряжала арбалет так умело,
словно ей не раз приходилось это делать. Алан оглядел этот маленький отряд и
решил, что у них нет никакой надежды отбиться от воинственной орды,
толпившейся на палубе галеры. Теперь уже было ясно, что пиратское судно
несравненно быстроходнее злосчастного "Дельфина" и при желании могло бы
описывать вокруг него круги. А на горизонте по-прежнему не было видно ни
единого паруса.
Монтано передал руль своему помощнику, а сам нагнулся над кулевриной.
Она оглушительно хлопнула, но их преследователь остался невредимым.
-- Но такой грохот, глядишь, и ободрит наших молодцов, -- с грустной
улыбкой шепнул он Алану.
На первый взгляд могло показаться, что выстрел, во всяком случае,
напугал пиратов, потому что галера неожиданно изменила курс и, повернув
направо, начала отставать. Однако вскоре стало ясно, что пираты вовсе не
пытаются уйти от огня кулеврины, а просто заходят сбоку, намереваясь
протаранить борт "Дельфина". Быстроходная галера могла осуществить этот
маневр, не опасаясь упустить добычу.
Положение становилось критическим. Галера вновь начала приближаться к
ним, и ее острый нос был нацелен на то место, где через минуту должен был
оказаться борт "Дельфина". Она уверенно настигала свою жертву, и на
"Дельфине" были уже хорошо слышны не только яростные крики пиратов, но и
щелканье бичей, опускавшихся на спины гребцов.
Однако пираты не знали, с каким искусным моряком они имеют дело.
Монтано, разок выстрелив из пушки для поддержания своего достоинства, вновь
с облегчением вернулся к оружию, которым владел лучше всего, -- к рулю
своего корабля. Внезапно "Дельфин" угрожающе накренился и повернул так
круто, что стоявшие на палубе еле удержались на ногах. Парус захлопал,
словно крылья тысячи рассерженных чаек, снасти и мачты заскрипели,
застонали, возмущенно протестуя... А с настигшей их галеры донесся громкий
треск ломающихся весел и вопли раненых.
Алан вцепился в борт, стараясь не потерять равновесия, и посмотрел
вниз. Галера снова отстала, беспомощно покачиваясь на волнах. Он понял, что
произошло. Выждав до самой последней секунды, Монтано .резко положил руль
вправо, чуть не перевернув "Дельфина". Галера, разогнавшаяся, чтобы таранить
свою жертву, промахнулась и только слегка задела борт "Дельфина", не
причинив вреда старому кораблю, но зато первые шесть весел ее левого борта
сломались, словно сухие прутики.
Тем временем "Дельфин" продолжал как ни в чем не бывало нестись по
волнам, а галера застыла на месте, пока надсмотрщики пересаживали гребцов
так, чтобы на обоих бортах оказалось равное число весел.
-- Боюсь, такой штуки дважды не повторить, -- сказал Монтано, но по его
губам скользнула радостная улыбка, а команда "Дельфина" немного ободрилась.
Они успели уйти от галеры примерно на полмили, прежде чем она вновь
возобновила погоню. Но ей ничего не стоило вновь приблизиться к тихоходному
"Дельфину". И вот во второй раз пираты начали заходить сбоку...
-- Держитесь крепче! -- сказала Анджела, стараясь говорить весело. --
Капитан Монтано, того и гляди, перевернет нас вверх дном.
Но теперь, приближаясь, пираты дали залп из арбалетов и аркебузов. К
счастью, галера была настолько ниже "Дельфина", что тем, кто находился на
его юте, достаточно было только пригнуться. Один Монтано стоял выпрямившись.
Его руки ни на секунду не оставляли руля, а печальные карие глаза напряженно
смотрели на врага в ожидании подходящей минуты.
И, против всяких ожиданий, ему удалось повторить свой маневр, хотя
пираты были уже начеку и сумели сохранить весла в целости. Галера не
получила, никаких повреждений и почти немедленно возобновила преследование.
Монтано слегка усмехнулся, что было для него редкостью.
-- Если они и в третий раз попробуют зайти сбоку, -- пробормотал он, --
то я, пожалуй, поверну руль в другую сторону и сам протараню их.
-- Так за чем же дело стало? -- спросил Алан. -- Быть может, тебе
удастся переломить галеру пополам.
-- Нашим-то тупым носом! "Дельфин" -- это не корабль, а бочка. Тут
нужен острый клюв, как у них. Да и скорости не хватит. Мы только стукнем их
и не успеем отойти, а они тут же возьмут нас на абордаж и посыплются на
"Дельфин", как обезьяны.
Но как бы то ни было, пираты, по-видимому, не были склонны повторять
уже дважды сорвавшийся маневр. Галера заняла свою прежнюю позицию прямо за
кормой "Дельфина", очевидно собираясь пройти параллельно его левому борту. У
ее правого борта уже толпились смуглые люди с абордажными крючьями, а их
товарищи, забравшись на ванты, готовились прыгать на "Дельфин" сверху.
Монтано еще раз выстрелил из кулеврины, но, несмотря на оглушительный грохот
и густой клуб дыма, пользы этот выстрел не принес никакой.
-- Так их не остановишь, -- заметил Алан. Он выбрал стрелу, натянул
тетиву на английский манер -- так, что оперение коснулось уха, и выстрелил.
На корме галеры раздался громкий вопль, и вражеское судно вдруг дрогнуло и
повернуло в сторону.
-- Да в кого ты попал? -- воскликнула Анджела.
-- В рулевого.
-- На таком расстоянии?
-- Для варвара-англичанина такое расстояние -- пустяк. Куда труднее
было высмотреть его в этой толпе.
-- Прекрасный выстрел, -- одобрительно заметил Монтано. -- А ну-ка
попробуй еще разок!
-- Хорошо. -- И Алан, натянув лук, прицелился. У руля галеры встал
другой пират, и она вновь приближалась к ним с левого борта. Вторая стрела
просвистела в воздухе, и Алан увидел, что опять не промахнулся. Вновь галера
вильнула в сторону, но тут же легла на прежний курс. Однако нового рулевого
совсем не прельщала роль мишени -- во всяком случае, его товарищи натянули
перед ним кусок парусины, заслоняя его от "Дельфина".
Алану оставалось только стрелять в них, и ему удалось ранить двоих или
троих. Но едва лишь парусина провисала, как другой пират сменял упавшего и
вновь ее натягивал.
Галера неуклонно приближалась. Стрелы арбалетов стучали по юту
"Дельфина", и один из стоявших там матросов был убит. Изредка грохотал
аркебуз, поднималось облачко дыма, и в воздухе свистела пуля.
-- Попала, -- гордо сказала Анджела.
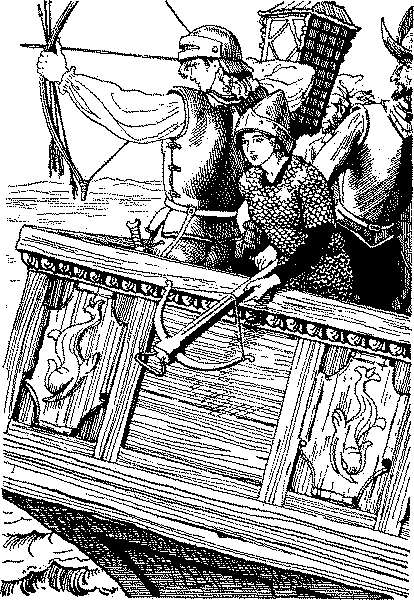 Алан оглянулся. Она старательно натягивала тетиву арбалета, готовясь к
новому выстрелу. Но будет ли для него время? Галера почти поравнялась с
ними, и ни мореходное искусство, ни меткая стрельба уже не могли отогнать
ее. Вот острый таран прошел сбоку под высоким ютом "Дельфина". На вантах,
готовясь к прыжку, висели загорелые бородачи. Алан натянул лук и высматривал
вожака, горько жалея, что рядом не лежит полный колчан и он не может
воспользоваться уроками старого Эндрью и выпускать стрелу за стрелой без
остановки. У него оставалась одна-единственная стрела. Он выбрал мишень и
спустил тетиву. Пират упал с мачты, словно спелая слива, и с громким
всплеском исчез под водой в узком промежутке между кораблями. Алан бросил
лук и схватил саблю.
Гребцы на галере убрали весла. В воздухе, словно змеи, замелькали
веревки с крючьями. Длинные багры жадно царапали борт "Дельфина", стараясь
вцепиться в него. Вот корабли столкнулись, разошлись, снова столкнулись -- и
уже больше не расходились. На палубу "Дельфина", словно град, посыпались
босоногие пираты. Монтано собрал свою команду на юте, готовясь к последней
схватке, -- людей было слишком мало, и он не мог построить их у борта, чтобы
не пустить пиратов на корабль. Но сейчас у них было одно преимущество: ют
поднимался над кишевшей врагами палубой, словно крохотная крепость, и
взобраться на него можно было только по двум лестницам на правом и левом
борту, почти таким же крутым, как трапы, хотя они и были снабжены перилами.
Монтано встал у одной из лестниц. На его худом нахмуренном лице нельзя
было заметить никаких признаков страха. Почетный пост у второй лестницы,
казалось, никого не привлекал, и туда направился Алан.
Пираты без промедления кинулась штурмовать ют. Они дрались со свирепым
упорством, не обращая внимания на раны. "Странно, -- думал Алан, нанося и
отражая удары, -- странно. Ведь они дерутся только ради наживы, а не за
бога, за короля или за какое-нибудь великое дело. Мертвому пирату добыча с
"Дельфина" не принесет никакой радости, да и раненому она вряд ли послужит
большим утешением".
Как странно устроен мир! Всего лишь несколько месяцев назад он дрался в
кембриджской харчевне со студентами своего же университета, а сейчас должен
сражаться не на жизнь, а на смерть с далматскими пиратами, и снова в руках у
него чужое оружие! "Если я уцелею, -- подумал он со слабой улыбкой, -- мне
все-таки надо будет обзавестись собственной шпагой".
Ага! Этот тоже не был знаком с любимым приемом старого Эндрью! Убитый
пират покатился по лестнице, сбивая тех, кто лез вслед за ним.
Но это продолжалось недолго. Кому-то, видимо, удалось одолеть Монтано
-- во всяком случае, несколько пиратов взобрались на ют, и вокруг уже кипела
схватка. Еще одна-две минуты -- и все будет кончено. Несколько матросов с
"Дельфина" прыгнули в море, другие, упав на колени, молили о пощаде, а
Монтано неподвижно лежал возле лестницы.
Рядом с Аланом очутилась Анджела -- целая и невредимая, она энергично
размахивала пикой.
-- В каюту! -- скомандовал он, -- Это наша единственная возможность
спастись.
Сам он не слишком-то верил, что они найдут там спасение -- разве что
продлят свою жизнь на пять минут.
-- А как мы туда попадем?
-- Прыгай на палубу, я за тобой.
Анджелу никак нельзя было упрекнуть в нерешительности. Она без
колебаний перекинула ноги через перила и спрыгнула на палубу. Никто этого не
заметил. Те пираты, которым еще не надоело драться, лезли на ют по боковым
лестницам. Но большая часть их товарищей уже разбежалась по кораблю и
занялась грабежом. Алан сделал выпад. Его новый противник отступил, и юноша,
спрыгнув на палубу, очутился возле Анджелы.
-- Быстрей! -- шепнул он.
Они бросились вниз по трапу.
-- Только не в капитанскую каюту! -- сказала Анджела. -- Они сразу
кинутся туда искать деньги.
-- Ничего... Я придумал план. Он первым вбежал в каюту.
-- Почему ты не задвинул засов? -- изумленно спросила Анджела.
-- Не стоит. Вот посмотри...
Он подбежал к окну.
Это кормовое окно было гордостью Монтано -- прекрасное окно с мелким
переплетом и даже с цветными стеклами. Алан выглянул наружу и облегченно
вздохнул.
-- Я так и надеялся. Ты боишься высоты, Анджела?
-- Не слишком.
-- Отлично. Ну так лезь первая.
-- Лезть? Куда?
-- В окно.
-- Но... но я не доплыву отсюда до берега,,
-- Будем надеяться, что тебе совсем не придется плавать. Если не
разожмешь руки, то и не придется.
Алан оглянулся. Она старательно натягивала тетиву арбалета, готовясь к
новому выстрелу. Но будет ли для него время? Галера почти поравнялась с
ними, и ни мореходное искусство, ни меткая стрельба уже не могли отогнать
ее. Вот острый таран прошел сбоку под высоким ютом "Дельфина". На вантах,
готовясь к прыжку, висели загорелые бородачи. Алан натянул лук и высматривал
вожака, горько жалея, что рядом не лежит полный колчан и он не может
воспользоваться уроками старого Эндрью и выпускать стрелу за стрелой без
остановки. У него оставалась одна-единственная стрела. Он выбрал мишень и
спустил тетиву. Пират упал с мачты, словно спелая слива, и с громким
всплеском исчез под водой в узком промежутке между кораблями. Алан бросил
лук и схватил саблю.
Гребцы на галере убрали весла. В воздухе, словно змеи, замелькали
веревки с крючьями. Длинные багры жадно царапали борт "Дельфина", стараясь
вцепиться в него. Вот корабли столкнулись, разошлись, снова столкнулись -- и
уже больше не расходились. На палубу "Дельфина", словно град, посыпались
босоногие пираты. Монтано собрал свою команду на юте, готовясь к последней
схватке, -- людей было слишком мало, и он не мог построить их у борта, чтобы
не пустить пиратов на корабль. Но сейчас у них было одно преимущество: ют
поднимался над кишевшей врагами палубой, словно крохотная крепость, и
взобраться на него можно было только по двум лестницам на правом и левом
борту, почти таким же крутым, как трапы, хотя они и были снабжены перилами.
Монтано встал у одной из лестниц. На его худом нахмуренном лице нельзя
было заметить никаких признаков страха. Почетный пост у второй лестницы,
казалось, никого не привлекал, и туда направился Алан.
Пираты без промедления кинулась штурмовать ют. Они дрались со свирепым
упорством, не обращая внимания на раны. "Странно, -- думал Алан, нанося и
отражая удары, -- странно. Ведь они дерутся только ради наживы, а не за
бога, за короля или за какое-нибудь великое дело. Мертвому пирату добыча с
"Дельфина" не принесет никакой радости, да и раненому она вряд ли послужит
большим утешением".
Как странно устроен мир! Всего лишь несколько месяцев назад он дрался в
кембриджской харчевне со студентами своего же университета, а сейчас должен
сражаться не на жизнь, а на смерть с далматскими пиратами, и снова в руках у
него чужое оружие! "Если я уцелею, -- подумал он со слабой улыбкой, -- мне
все-таки надо будет обзавестись собственной шпагой".
Ага! Этот тоже не был знаком с любимым приемом старого Эндрью! Убитый
пират покатился по лестнице, сбивая тех, кто лез вслед за ним.
Но это продолжалось недолго. Кому-то, видимо, удалось одолеть Монтано
-- во всяком случае, несколько пиратов взобрались на ют, и вокруг уже кипела
схватка. Еще одна-две минуты -- и все будет кончено. Несколько матросов с
"Дельфина" прыгнули в море, другие, упав на колени, молили о пощаде, а
Монтано неподвижно лежал возле лестницы.
Рядом с Аланом очутилась Анджела -- целая и невредимая, она энергично
размахивала пикой.
-- В каюту! -- скомандовал он, -- Это наша единственная возможность
спастись.
Сам он не слишком-то верил, что они найдут там спасение -- разве что
продлят свою жизнь на пять минут.
-- А как мы туда попадем?
-- Прыгай на палубу, я за тобой.
Анджелу никак нельзя было упрекнуть в нерешительности. Она без
колебаний перекинула ноги через перила и спрыгнула на палубу. Никто этого не
заметил. Те пираты, которым еще не надоело драться, лезли на ют по боковым
лестницам. Но большая часть их товарищей уже разбежалась по кораблю и
занялась грабежом. Алан сделал выпад. Его новый противник отступил, и юноша,
спрыгнув на палубу, очутился возле Анджелы.
-- Быстрей! -- шепнул он.
Они бросились вниз по трапу.
-- Только не в капитанскую каюту! -- сказала Анджела. -- Они сразу
кинутся туда искать деньги.
-- Ничего... Я придумал план. Он первым вбежал в каюту.
-- Почему ты не задвинул засов? -- изумленно спросила Анджела.
-- Не стоит. Вот посмотри...
Он подбежал к окну.
Это кормовое окно было гордостью Монтано -- прекрасное окно с мелким
переплетом и даже с цветными стеклами. Алан выглянул наружу и облегченно
вздохнул.
-- Я так и надеялся. Ты боишься высоты, Анджела?
-- Не слишком.
-- Отлично. Ну так лезь первая.
-- Лезть? Куда?
-- В окно.
-- Но... но я не доплыву отсюда до берега,,
-- Будем надеяться, что тебе совсем не придется плавать. Если не
разожмешь руки, то и не придется.
Глава девятая. ГИБЕЛЬ КОРАБЛЯ
Как уже не раз упоминалось, корма "Дельфина" была очень высока. Ее
украшала богатая резьба и множество всяких статуй, пестро окрашенных
выступов и перекладин, потому что в те дни кораблестроители больше старались
подражать зодчим, воздвигавшим дома, и мало думали о мореходных качествах
своих судов. Палуба юта выступала над окном капитанской каюты, образуя нечто
вроде козырька.
Таким образом, два человека могли вылезти из окна и устроиться на
каком-нибудь украшении под нависающим ютом. Анджела обхватила руками
деревянную статую святого Христофора, покровителя всех плавающих и
путешествующих. Алан, выбравшись вслед за ней, уцепился за позолоченную
русалку. Ни святой, ни русалка, по-видимому, не обиделись на подобную
фамильярность -- во всяком случае, их изъеденные солью лица не изменили
равнодушного выражения.
Это было довольно безопасное убежище, потому что "Дельфин", по-прежнему
сцепленный с галерой, почти не двигался, а на море царствовал штиль.
Конечно, дело обстояло бы по-иному, если бы корабль сильно качало, а под его
кормой кипели высокие волны.
Правда, их могли увидеть. Однако нависающий ют заслонял их от случайных
взглядов с палубы, а чтобы разглядеть их из окна каюты, нужно было бы
высунуться в него чуть ли не по пояс, да еще вывернуть шею. От пиратского
судна их заслонял борт "Дельфина", и с этой стороны никакая опасность не
грозила им до тех пор, пока галера не отвалила бы от корабля. Да и пираты,
судя по доносившемуся шуму, были слишком заняты, чтобы глазеть по сторонам.
-- Что там происходит? -- прошептала Анджела.
-- Они грабят корабль. Слышишь -- по палубе катят бочки. Оба
прислушались.
-- Хороший знак, -- пробормотал Алан.
-- Ты думаешь, что они уплывут и бросят "Дельфин"? Иначе они не стали
бы снимать с него груз.
-- Вот именно. На что им эта старая лоханка? Ш-ш-ш!.. Кажется, кто-то
вошел в каюту.
Они замерли. Из открытого окна у их ног донеслись грубые голоса, стук
падающей мебели, лязг взламываемых замков... Они догадались, что грабители
наткнулись на винный погребец капитана и решили промочить глотку. Потом
внизу все стихло, и слышны были только шум и крики с палубы.
-- Бедный капитан Монтано! -- вздохнула Анджела, решив, что можно опять
заговорить. -- Он так мечтал о приключениях... И вот такой конец.
-- Это был мужественный человек, он заслуживал лучшего корабля и лучшей
команды.
-- А что с матросами?
-- Я видел, что некоторые прыгали в воду, но, наверное, они утонули.
Правда, нас относит к берегу, но до него еще далеко. А тех, кого пираты не
убили, конечно, продадут в рабство.
С галеры донесся хриплый рев трубы. На "Дельфине" раздались громкие
крики.
-- Пожалуй, они собираются отчалить и дают сигнал своей команде
вернуться на галеру.
-- Может быть, нам на помощь идет военный корабль? -- с надеждой
сказала Анджела.
-- Если бы так! Мы вдвоем не сможем управлять "Дельфином".
-- Ну все-таки лучше остаться на нем вдвоем, чем вместе с пиратами. А
кроме того, в случае необходимости мы можем воспользоваться лодкой.
Снова заревела труба. И сразу с палубы донесся топот множества ног.
Затем на "Дельфине" воцарилась мертвая тишина, зато на галере поднялся
страшный шум.
-- Попробуем вернуться в каюту, -- предложил Алан. -- По-моему, пираты
отчаливают. Как бы они нас не заметили, когда корабли разойдутся.
Укрывшись в каюте, они с удовольствием расправили затекшие руки и ноги.
Пираты учинили здесь настоящий разгром:
вспороли все подушки в поисках припрятанных ценностей и даже перебили
стаканы -- вероятно, попросту в стремлении удовлетворить бессмысленную жажду
разрушения.
Алан и Анджела напряженно прислушивались, готовые при первом признаке
опасности снова броситься к окну. Но на "Дельфине" царило безмолвие: только
угрюмо хлопал парус да стонали и скрипели снасти.
-- Подожди здесь! -- сказал Алан. -- Я пойду проверю, отошла ли галера.
Он осторожно выбрался на палубу. Там никого не было. Согнувшись в три
погибели, он прокрался к борту. Черная галера была уже в сотне ярдов и
направлялась к берегу, а "Дельфин", увлекаемый северо-западным бризом,
продолжал неторопливо плыть прежним курсом -- правда, теперь он рыскал из
стороны в сторону, потому что никто не стоял у его руля.
Других кораблей не было видно. Алан все же поднялся на ют и осмотрел
горизонт. Между небом и землей не виднелось ни единого паруса. Пираты
бросили "Дельфин" не потому, что испугались, а потому, что уже сняли с
корабля все ценное. Но, во всяком случае, они уплыли, а это было самое
главное.
Он бросился вниз, чтобы успокоить Анджелу.
-- Все в порядке! -- крикнул он. -- Они уплыли. На корабле нет никого,
кроме нас.
-- Ш-ш-ш... Слушай! -- прошептала она, хватая его за руку.
В коридоре раздавались медленные шаги, приближавшиеся к каюте. Вот
кто-то, тяжело дыша, остановился возле открытой двери...
Они уже не успеют вылезти за окно. Алан оглянулся в поисках сабли,
которую он бросил, когда они спасались за окном в первый раз. Но нигде ее не
увидел: наверное, она приглянулась кому-нибудь из пиратов. Алан схватил
табуретку... Табуретки и чужое оружие! Ведь и это уже было! Тут вновь
пробудилась его странная способность думать о смешном в минуту опасности. Он
прикинул, не основать ли ему новую школу фехтования, где он будет обучать
желающих искусству биться на шпагах и табуретках.
Однако он успел оценить положение совершенно серьезно. По коридору шел,
а вернее, брел только один человек -- забытый на "Дельфине" пират, раненый
или, быть может, пьяный... Ну, с одним-то он справится!
-- Вот твоя сабля, -- шепнула Анджела, всовывая ему в руку эфес.
За косяк двери, словно ища поддержки, уцепились пальцы, покрытые
запекшейся кровью.
-- Стой! -- вскрикнула Анджела. -- Осторожнее -- это капитан.
Но будь это даже пират, сабля все равно не понадобилась бы: Монтано без
чувств упал на пол каюты.
-- Хвала всем святым! -- пробормотал он несколько минут спустя, когда
его привели в чувство и перевязали ему раненое плечо. -- По крайней мере,
мой корабль и мои пассажиры целы... В чем, правда, нет моей заслуги.
-- Ты сделал все, что мог, -- заверила его Анджела. -- Я видела, как
они на тебя набросились. Мне показалось, что ты убит.
-- К счастью, так показалось и пиратам, да и мне самому тоже. Наверное,
я потерял сознание, вот как сейчас, а когда пришел в себя, бой уже кончился.
Мне надо было быстро что-нибудь придумать: ведь если бы пираты заметили, что
я жив, они увели бы меня на свою галеру, а если бы я притворился мертвым, то
вышвырнули бы за борт. Так что стыжусь признаться -- я отполз в сторону и
спрятался! Чтобы капитан на своем собственном корабле -- и прятался! Какой
позор!
-- Но что тебе оставалось делать? -- спросил Алан.
-- Ну... -- Монтано кашлянул. -- Я буду вам весьма обязан, если вы,
когда вернетесь в Венецию, не станете об этом рассказывать.
-- Когда мы вернемся, -- повторила Анджела. -- Наверное, ты хотел
сказать "если"?
Монтано с трудом поднялся на ноги.
-- -- Дай-ка я обопрусь на твое плечо, мессер Дрейтон. Нет, я не лягу.
Место капитана на палубе. Одному богу известно, куда нас несет ветер.
Они помогли Монтано взобраться на ют. Он внимательно вгляделся в берег,
прикинул положение солнца и посмотрел на паруса.
-- Если ты встанешь у руля, -- сказал он Алану, -- я буду давать тебе
указания, как вести корабль. Только бы не испортилась погода, и с этим
ветром мы спокойно дойдем до Рагузы. А там поднимем сигнал бедствия, и нам
пришлют помощь.
-- Вот и хорошо, -- заметила Анджела, которая вернулась к ним, обойдя
палубу. -- Тут кто-то забавлялся с топором. Лодка изрублена чуть ли не в
щепки, и на нее рассчитывать не приходится.
-- Ты не поищешь нам какой-нибудь еды? -- спросил Алан. -- Я умираю с
голоду, а от руля отойти не могу.
-- Сейчас я накормлю вас обоих. -- Она повернулась, собираясь уйти, но
вдруг остановилась и понюхала воздух. -- Вы чувствуете, пахнет горелым?
Запах гари был очень слаб, потому что ветер дул с кормы. Но тут вдруг
они увидели, что над носом клубится дымок. Монтано испустил хриплый вопль:
-- Сто тысяч чертей! Эти негодяи подожгли мой корабль!
О том, чтобы погасить пожар, нечего было и думать: для этого
потребовалось бы не меньше двадцати человек. К счастью, горел только нос, и
ветер не давал огню распространиться по палубе. Но, угрюмо заметил Монтано,
в трюме-то стоит безветрие, и, пожрав все внизу, пламя вырвется на палубу
прямо у них из-под ног.
Монтано поглядел на лодку и убедился, что Анджела сказала правду: плыть
на ней было нельзя.
-- А не построить ли нам плот? -- предложила девушка. -- Как Одиссей у
Гомера.
Монтано ничего не ответил. Его не интересовали древние поэты. Сдвинув
брови, он внимательно рассматривал гористый берег.
-- Бухты-то там есть, -- сказал он. -- Лево руля, мессер Дрейтон!
Хорошо! Пока так держать... Нам остается только идти к берегу и уповать на
бога. Может быть, мы еще успеем выбросить корабль на песок, прежде чем он
перестанет слушаться руля.
Нос "Дельфина" был теперь уже весь охвачен огнем. В солнечных лучах
танцующие языки пламени казались бледными и прозрачными. Над ними клубился
густой бурый дым. Слышался непрерывный треск, иногда заглушавшийся басистым
ревом. В воздухе пахло горящей сосной -- запах, который при других
обстоятельствах мог бы показаться приятным.
Алан стоял у руля и послушно поворачивал его, повинуясь указаниям
Монтано. Слезящимися глазами он всматривался в дым. Берег как будто
приблизился. А может быть, это лишь кажется? И какой берег! Серые отвесные
утесы, изборожденные трещинами -- следами бурь, хлеставших их из века в
век... Ни одной деревни, ни одного зеленого поля -- лишь дикие горы, круто
обрывающиеся в море.
Неудивительно, что эти заливы и островки превратились в гнезда пиратов.
У такой земли нелегко вырвать честное пропитание.
Внезапно с оглушительным треском обрушилась мачта, прикрыв огонь
клубком парусины и снастей. На несколько секунд дым рассеялся, только по
краям паруса он продолжал завиваться спиралями. И Алан в первый раз смог
рассмотреть два угрюмых мыса, между которыми полз теперь "Дельфин". Но тут
десятки огненных копий пронзили снизу упавший парус, и пламя с новой яростью
взметнулось к небесам. Покрасневшие глаза юноши снова опалило жаром, и он
уже ничего не мог разобрать сквозь клубящуюся впереди черную завесу дыма.
-- Так держать, мессер Дрейтон! -- Плечо Монтано, вероятно, сильно
болело, но он не показывал вида. Он все еще был капитаном этих пылающих
обломков, которые прежде были его кораблем, и, пока они держались на воде,
он не мог думать о себе. -- Еще лево руля! Еще! Я когда-то заходил сюда за
водой. Тут в море впадает река, и есть песчаный пляж... Может быть, мы еще
успеем.
Дело решали секунды. В узком заливчике ветра почти не было, и "Дельфин"
совсем потерял ход. С томительной медлительностью он тащился мимо высоких
обрывов. "Если тут устье реки, -- подумал Алан, -- то, наверное, нам еще
мешает встречное течение".
А пожар продолжал бушевать. На корме теперь было трудно стоять из-за
сильного жара. Пламя охватило уже середину корабля и колеблющейся завесой
протянулось от борта до борта. Анджела, вся в саже, спотыкаясь и кашляя,
вскарабкалась по трапу наверх. Она сгибалась под тяжелой ношей.
-- Если мы доберемся до берега, нам понадобятся наши дорожные сумки, --
сказала она, -- и я захватила кое-какие съестные припасы.
-- Умница, -- буркнул Алан и добавил про себя: "Только как бы ее не
обманула надежда!"
-- Круто право руля! -- скомандовал Монтано. -- Если это нам не
поможет, придется добираться до берега вплавь. Держи по ветру и иди вон на
те пески.
Алан поспешил выполнить команду. Медленно, словно не желая признать
свое поражение, "Дельфин" подчинился рулю и повернул. Уцелевший парус задней
мачты надулся, и корабль прибавил ходу. Но огонь уже подобрался к корме и
лизал подножие лестницы -- этого противника не могла отогнать никакая сабля.
Анджела прижалась к борту, закрывая лицо от палящего жара. Монтано положил
руки на руль.
-- Уступи мне место, мессер Дрейтон.
-- Но твоя рана...
-- К рулю стану я, -- сказал Монтано с печальным достоинством. -- Раз
уж мой корабль приходится выбросить на берег, это должен сделать я.
И Алан отошел в сторону. Они уже находились в устье небольшой речки. По
обеим ее сторонам под утесами тянулись золотистые пляжи.
-- Вы промокнете, -- сказал Монтано, -- но вы не утонете. Он говорил
несколько виноватым тоном, как капитан корабля, извиняющийся перед
пассажирами за причиненное им незначительное неудобство.
Точно выбрав момент, Монтано, стиснув зубы от боли, резко переложил
руль. "Дельфин" повернул и встал почти поперек реки. Раздался скрежет,
корабль дернулся и замер. Алан поглядел вниз и увидел, что корма почти
касается каменной россыпи. До нее было всего несколько ярдов.
-- Вон там лежит веревочная лестница, -- сказал Монтано, не поворачивая
головы.
Алан отыскал ее и, привязав к корме, сбросил вниз.
-- Столько-то ты можешь проплыть? -- с тревогой спросил он Анджелу.
-- Ну конечно.
-- Тогда спускайся. -- И он помог ей перелезть через борт. На мгновение
ее заслонила нависающая палуба, и в следующую секунду Алан увидел, что она
уже подплыла к камням и выбралась на них.
-- А твоя рана, синьор, не помешает тебе? -- начал он, обернувшись к
Монтано, но капитан куда-то исчез.
Оставаться на юте было опасно. Горячие доски под ногами уже начинали
обугливаться. Лестницы исчезли в густом дыму. Алан попробовал крикнуть, но
поперхнулся от едкой гари и закашлялся.
Огонь отогнал его к борту. Ну что же, если капитан решил героически
погибнуть со своим кораблем, спасти его было уже невозможно, а гибнуть сам
Алан не хотел. Он начал спускаться по веревочной лестнице. Из окна каюты
тоже валил дым, и Алан спрыгнул в холодную воду. Задыхаясь и отплевываясь,
он ухватился за руку, которую протянула ему Анджела, и выбрался на камень
рядом с ней.
-- А где капитан? -- спросила она сурово. -- Неужели ты бросил его там,
раненного?
-- Это он меня бросил. -- Алана обидел ее тон.
-- Вот он! -- с облегчением воскликнула Анджела. Капитан тяжело плыл к
ним, словно подбитая утка. Они спрыгнули с камня, вошли в мелкую воду и
помогли ему выбраться на сушу, обнаружив при этом, что плыть ему мешало не
только раненое плечо, но и узел, который он толкал перед собой.
-- Пришлось вернуться за этим, -- еле выговорил он, задыхаясь.
-- Очень хорошо. А теперь дай-ка я сниму повязку и погляжу, не попала
ли в рану соленая вода.
-- Сейчас, сейчас, синьорина, -- отмахнулся от нее Монтано и, присев на
корточки, стал развязывать свой узел. -- Это поважнее раненого плеча.
-- Да уж завязано, во всяком случае, гораздо лучше, -- великодушно
признала Анджела. -- А что это? Что-нибудь очень ценное?
Монтано кивнул. С лихорадочной быстротой он сдернул последнюю тряпку.
-- Цела! -- радостно воскликнул он. -- И ничуть не промокла!
С нежностью любящей матери, отыскавшей своего пропавшего ребенка, он
начал осторожно переворачивать страницы "Путешествий" Америго Веспуччи.
Глава десятая. И ОТ ДЕВУШЕК ТОЖЕ БЫВАЕТ ПОЛЬЗА
Алан никак не мог понять, откуда все они вдруг взялись. При взгляде на
эти голые серые горы, исчерченные лиловыми тенями, казалось, что здесь не
сумеет прокормиться и кузнечик -- не то что человек. А теперь к воде со всех
сторон бежали люди -- мужчины в узких белых штанах и куртках, украшенных
черной вышивкой, в алых кушаках и сверкающих серебряных ожерельях; за ними
женщины в черных платьях и пестрых, разноцветных платках, удивительно
подвижные, несмотря на длинную одежду; а впереди, по бокам и сзади, -- толпы
ребятишек.
Тут Алан сообразил, что "Дельфин" уже больше часа был настоящим
плавучим маяком -- столбом дыма, который был виден на многие мили по всему
берегу. Наверное, пастухи в горах и рыбаки, чинившие сети на берегу, долго
следили за горящим кораблем. Когда же он исчез в заливе, все зрители
устремились туда.
-- Они не нападут на нас? -- спросил Алан у Монтано. -- Ты понимаешь,
что они говорят?
-- Я знаю десятка два здешних слов, -- рассеянно ответил капитан. --
Моряк поневоле учится многим языкам.
Он, не отрывая глаз, смотрел на свой гибнущий корабль. Шпангоуты
торчали, как обугленные ребра, и борта догорали над самой водой. Вокруг
плавали обломки, и местные жители уже начали вылавливать их. В воздухе, как
серые снежинки, кружили хлопья пепла.
Однако капитану не пришлось служить толмачом. На берег неторопливо
спустился бородатый священник -- достоинство не позволило ему, подобрав
рясу, пуститься бегом вслед за своими прихожанами, и, хотя, как и все
служители православной церкви, он не изучал латыни, оказалось, что он легко
и свободно говорит по-гречески. Белокурые волосы Алана его очень удивили, и
он удивился еще больше, узнав, что юноша -- англичанин. Алан поспешил
объяснить, что Анджела -- тоже английский юноша и не знает никакого другого
языка, кроме английского. Тут Анджела бросила на него негодующий взгляд и
гневно спросила по-латыни, не желает ли он, чтобы она вообще молчала. Алан
ответил, что вовсе не хочет мешать ее участию в беседе, но чем меньше она
будет разговаривать в присутствии посторонних, тем легче ей удастся скрыть,
что она не юноша. Анджела возмущенно фыркнула, забыв, что благовоспитанной
девице подобает сдержанность.
-- Вы должны извинить мою паству, -- сказал отец Николай, указывая на
мужчин, собиравших обломки. -- Край тут бедный, а нас к тому же грабят
пираты, как они ограбили вас, и еще турки. До леса отсюда далеко, и каждый
кусочек дерева -- для нас большая ценность.
-- Пусть берут все, что сумеют добыть, -- сказал Монтано, когда Алан
перевел ему слова священника. -- "Дельфина" больше нет. Я остался без
корабля. -- И, повернувшись спиной к заливу, он последовал за священником,
который вызвался проводить их в деревню.
Это и правда была бедная деревушка -- на крутом обрыве над рекой
лепилось с полсотни побеленных хижин. Под обрывом, там, где зимние разливы
нанесли слой плодородной земли, виднелось несколько узких, тщательно
обработанных полей; на них уже созревала рожь. Выше по обрыву стояла
маленькая церквушка, такая же простенькая и беленая, как и хижины, но с
неожиданно высокой колокольней, которая, как они узнали позже, служила не
столько приютом старому надтреснутому колоколу, сколько сторожевой башней.
Отец Николай жил в хижине рядом с церковью, и на ее пороге их встретила
добродушная старушка -- его жена. Но она только ласково улыбалась им, так
как не знала никаких языков и не могла даже поздороваться с ними. Увидев ее,
Алан сперва даже немножко растерялся: он был католиком, а католическим
священникам жениться запрещалось. Но он тут же вспомнил, что у православной
церкви правила совсем иные.
Как ни бедна была деревушка, гостеприимство ее жителей поистине не
знало предела. Трете чужестранцев были гостями священника, и против этого
никто не спорил, однако каждый собирался попировать с ними и торопился
принести свою долю угощения. Не прошло и получаса, как на вертелах уже
жарились целые бараны. Один рыбак принес форель, другой -- морскую рыбу, а
женщины притащили довольно тощих кур. Они принесли и большие миски с мягким
кисловатым сыром.
Не были забыты ни вино, ни музыка. Несколько мужчин явились с
однострунными гуслями, напомнившими Алану старинные деревенские лиры,
которые он видел у себя на родине, в Йоркшире.
По-видимому, деревня решила отпраздновать это редкое событие. В
маленькой хижине отца Николая могло поместиться не больше тридцати человек,
и остальные устроились в чистеньком дворике, иногда заглядывая в дверь,
чтобы еще раз посмотреть на чужестранцев, прибывших из-за моря, а все
остальное время с удовольствием болтая о собственных делах в тени олеандров.
В хижине, когда жаркое было готово, почетным гостям подали невысокие
табуреты. Алан и его друзья попытались сесть на них, но оказалось, что они
ошиблись: на табуретки полагалось опираться локтями, сиденьем же служил
глиняный пол. Они уселись, как требовал обычай, и начался пир. Еда заняла не
больше двух часов, но еще долго после наступления темноты пирующие
продолжали пить вино, слушать музыку и танцевать.
Алан очень обрадовался, когда гости после долгого дружеского прощания
наконец начали расходиться и священник сказал:
-- Вы, наверное, хотите отдохнуть.
Он проводил их в соседнюю комнату, служившую спальней. В ней не было
никакой мебели, но деревянный пол был чисто вымыт. Они уже подумали, что им
придется спать прямо на полу, но отец Николай поднял фонарь повыше и показал
им свернутые овечьи шкуры, которые висели на стене. Он помог им устроиться,
а потом расстелил оставшуюся овчину в свободном углу для себя и своей жены.
Но Алан заснул прежде, чем он успел погасить фонарь.
На следующее утро они проснулись поздно и тут же начали обсуждать свои
дальнейшие планы.
-- Попробуем добраться до Рагузы, -- сказал Монтано. -- Оттуда вы
можете продолжать свое путешествие, как и собрались. А мне надо будет
явиться к венецианскому посланнику, рассказать, что случилось, и найти
корабль, отправляющийся в Венецию.
-- Рагуза? -- Священник, услышав знакомое название, махнул рукой в
сторону гор. -- Путь туда долгий, и дорогу найти нелегко.
-- Спроси его, не согласится ли отвезти нас туда кто-нибудь из рыбаков,
-- сказал Монтано.
Отец Николай объяснил, что это невозможно, -- им придется добираться по
суше, но он подыщет им хорошего проводника до следующего селения.
-- Проводника? -- повторила Анджела. -- А зачем нам нужен проводник?
Рагуза находится на берегу моря, и мы тоже. Рагуза лежит к югу отсюда. Надо
только следить, чтобы море было все время справа от нас, и...
-- Моя милая... милый, хотел я сказать, -- ласково заметил Алан, --
быть может, ты вспомнишь, какой здесь берег. Он весь изрезан, и если мы
пойдем, огибая каждый залив и каждую бухту, то будем идти еще на
рождество...
-- Ну ладно, ладно, замолчи!
Был уже полдень, когда явился проводник -- дюжий молодой пастух,
дружески им улыбнувшийся. Поскольку ему приходилось пускать в ход эту улыбку
каждый раз, когда он хотел выразить свою симпатию к чужеземцам, языка
которых не знал, у него, должно быть, в конце концов очень устали губы.
Отец Николай, которому вторила вся деревня, долго уговаривал их
погостить у них еще денек, еще недельку, а лучше бы и целый год. Нельзя же
идти по горам в такую жару! Пусть лучше они отдохнут в саду под олеандрами
после своих страшных приключений, а вечером можно будет опять устроить
праздник. Однако путешественники были тверды в своем решении. Они, наконец,
распрощались со всеми (гостеприимные хозяева наотрез отказались взять деньги
за угощение и кров), и пастух повел их по усыпанной камнями долине к горам.
Они шли весь день, почти до самой темноты, и, хотя их проводник шагал
неторопливо, оказалось, что они прошли порядочное расстояние. После первой
долины они спустились в другую и, не останавливаясь, поднялись по
противоположному склону. Взобравшись на гребень, они с удивлением увидели
прямо перед собой море. Пастух улыбнулся до ушей и повернул на восток. Они
обогнули залив, перешли вброд речку, где вода доходила им до пояса, две мили
брели по гальке и к ночи добрались до рыбачьей деревушки.
По-видимому, их проводника тут хорошо знали. Он долго что-то объяснял
столпившимся возле него людям. Затем высокий одноглазый человек средних лет,
чья зловещая наружность, как оказалось впоследствии, совершенно не
соответствовала его характеру, обратился к ним на ломаном итальянском языке:
-- Добро пожаловать, синьоры! Вы переночуете у нас, а утром я сам
покажу вам дорогу в Рагузу.
Их проводник что-то сказал одноглазому, и тот добавил:
-- Он просит меня передать вам его прощальный привет -- ведь он не
знает вашего языка.
-- Но неужели он пойдет назад ночью? -- воскликнула Анджела. -- Ведь
это же так далеко!
-- Сейчас полнолуние.
Пастух, очевидно, догадался, о чем идет речь, и его освещенное фонарем
лицо расплылось в веселой улыбке.
Путешественники хором начали его благодарить. Они протянули ему
серебряную монету, зная, что здесь, в горах, любые деньги -- уже богатство.
Но пастух только покачал головой и снова улыбнулся. Затем, поклонившись им и
попрощавшись с обитателями деревни, он повернулся и скоро исчез в темноте.
Путешественники ночевали в доме одноглазого, который пользовался в
деревне всеобщим уважением, потому что когда-то был моряком и побывал даже в
Венеции и Сицилии. Хотя жена отца Николая искусно перевязала рану Монтано,
после долгого дня ходьбы по жаре она вновь разболелась. Гостеприимный хозяин
переменил повязку, а затем, угостив их простым, но обильным ужином и
подробно обо всем расспросив, постелил им постели, и скоро они уже спали
крепким сном усталости.
На другой день они отправились в путь еще на заре. Хотя они проснулись
очень рано, их хозяин Милош уже был готов, и за его великолепным алым
кушаком торчал кинжал с серебряной рукояткой. Они вновь повернулись спиной к
морю и начали карабкаться по крутым склонам.
Горы здесь уже не были такими бесплодными. Во многих местах они заросли
вереском, и Алан вдруг с тоской вспомнил родные йоркширские пустоши. Вокруг
цвели голубой тимьян и мята, наполнявшие воздух сильным благоуханием, когда
их топтали неосторожные ноги. Звонко трещали невидимые цикады, а пестрые
бабочки то садились на цветы, то снова взлетали, кружась в воздухе.
Иногда между двумя вершинами позади мелькала ослепительная синь моря, а
впереди и по бокам громоздились горы -- бесконечные горы всевозможных
цветов: зеленые там, где росла трава или кусты, золотистые, бурые или серые
там, где ничего не росло, лиловые вдалеке и все испещренные белыми пятнами
еще не растаявшего снега..
Ни Монтано, ни Милош не замечали окружающей красоты. Это не удивило
Алана. Ему редко приходилось встречать людей, которым нравились бы горы и их
дикое величие -- они были просто помехой, да к тому же еще опасной. По
мнению таких людей, только безумец мог отправиться в горы с единственной
целью полюбоваться А открывающимся оттуда видом. Но теперь, разговаривая с
Анджелой, Алан убедился, что он не одинок в своей странной любви к горам.
Там, где позволяла ширина тропы, они шли парами -- Милош и Монтано
обменивались воспоминаниями о кораблях и море, а Анджела и Алан болтали на
самые разные темы или восторженно цитировали отрывки из приходивших им на ум
греческих стихотворений.
-- Этот пейзаж напомнил мне прелестные строки Алкмана, -- сказала
Анджела. -- Ты помнишь?
Спят вершины высокие гор и бездн провалы,
Спят утесы и ущелья...
-- Еще бы! А эти его стихи:
Часто на горных вершинах, в то время как
Праздник тешил бессмертных...[1]
Ведь правда, так и кажется, что вон на той снежной вершине собрались
боги -- и Зевс, и Гера, и Афина, и все остальные -- и пьют там свой нектар?
[1] Перевод В. Вересаева.
-- Если бы я не знала греческого языка, -- воскликнула Анджела, -- как
это было бы ужасно!
-- Однако его не знает почти никто в мире.
Монтано, не слишком хорошо понимавший, о чем они говорят, но уловивший
несколько слов, обернулся и сказал:
-- Не понимаю, что вам за охота без конца говорить про греков. Видел я
нынешних греков -- люди как люди. Неужто их древние мертвецы были лучше?
Молодые люди возмутились и попробовали его переубедить. Но ни стихи, ни
философские диалоги не произвели на капитана ни малейшего впечатления.
-- Заумь какая-то! -- заявил он. -- Может, кому-нибудь это и нравится,
да только не мне. Я тут не вижу смысла.
-- Я знаю стихотворение, которое, наверное, придется тебе по вкусу, --
заметила Анджела с лукавой улыбкой, -- хотя автором его был грек Гиппонакс.
-- И слушать не хочу!
-- Всего две строчки:
Дважды в жизни мила нам бывает жена --
В день свадьбы, а после в день похорон.
Впервые за время их знакомства они услышали, как смеется их унылый
капитан.
-- И то правда! -- воскликнул он. -- Моя меня совсем заклевала. Вот
почему все дельные люди уходят в моряки.
Алан воспользовался переменой в настроении Монтано и напомнил ему, что
греки были лучшими мореходами своего времени и почти все средиземноморские
порты, в которых ему довелось побывать, были основаны именно греками. Они
были открывателями и исследователями новых земель -- Колумбами и Веспуччп
своей эпохи.
Анджела процитировала ему слова Перикла, обращенные к афинянам:
-- "Мы заставили море и сушу служить дорогой нашего дерзания и повсюду
оставили несокрушимые памятники сотворенного нами добра и зла".
-- Хорошо сказано! -- сдался Монтано. -- Ты мне это напиши, когда мы
устроим привал. -- И грустно добавил: -- Самая подходящая надпись для
могильной плиты нынешнего морехода.
Некоторое время они шли молча. Затем Алан сказал Анджеле:
-- Да, ты права. Люди, не знающие греческого языка, теряют очень
многое, и все же у большинства нет никакой надежды его выучить.
-- Это судьба, -- ответила она. -- Тут уж ничем не поможешь.
Вдруг Алан даже замедлил шаг, потрясенный неожиданной мыслью. Так
просто, и все же никто не попробовал...
-- Ничем? -- переспросил он. -- А что, если...
-- Ну?
-- Твой дядя Альд посвятил свою жизнь тому, чтобы печатать произведения
греческих авторов. Быть может, мое призвание в том... чтобы переводить их.
-- На латынь? Но ведь уже...
-- Нет-нет! На английский.
-- Английский?!
Удивление девушки было столь нелестным, что национальная гордость Алана
возмутилась.
-- Ну и что? -- воскликнул он. -- Чем английский хуже других языков? У
нас есть и свой великий поэт -- Чосер...
-- Ты прав, -- перебила она. -- Извини меня. Это само собой разумеется.
Быть гуманистом -- вовсе не значит отгораживаться греческим и латынью от
всего остального. Мы должны развивать и наши собственные языки. Мы должны
идти вперед, а не жить в прошлом.
И Алан, поднимаясь по склонам, заросшим лиловым и оранжевым шалфеем,
думал теперь только о своей новой мечте.
К полудню они увидели деревню на противоположном берегу реки, слишком
глубокой, чтобы ее можно было перейти вброд. Не было ни лодки, ни парома, и
они перебрались через реку местным способом -- на надутых бурдюках, стараясь
поменьше промокнуть.
На мелководье у деревни женщины стирали одежду, пользуясь вместо мыла
печной золой. К Милошу подошло несколько мужчин, и, поговорив с ними, он с
тревогой обернулся к своим спутникам.
-- Они нас накормят, -- сказал он, -- но долго здесь оставаться нельзя.
-- Почему? -- спросил Монтано.
-- Говорят, неподалеку бродят турки, а нам с ними встречаться ни к
чему.
Устроившись в тени большого кипариса, они наспех перекусили, а затем,
вскинув на плечо дорожные сумки, зашагали дальше.
Через два часа они добрались до перевала -- узкой расселины,
расколовшей могучий горный кряж. Перед ними открылись две долины, густо
поросшие соснами. С камня неподалеку поднялся старик пастух и поздоровался с
ними. Милош заговорил с ним, и старик принялся что-то возбужденно объяснять,
то и дело указывая на восточную долину. Милош вернулся к остальным.
-- Дальше идти нельзя, -- сказал он хмуро.
-- Там турки? -- спросил Алан.
-- Да. По восточной долине бродит отряд янычар. Видите дым? Это они
сожгли деревню.
-- Так что этот путь на Рагузу нам закрыт? Ну, а другая долина? Там
тоже турки?
-- Нет.
-- А она нас к Рагузе не выведет?
Милош несколько секунд колебался.
-- Да, -- сказал он наконец. -- Кажется, там есть хорошая дорога по
берегу реки.
-- Ну, так почему же нам нельзя пойти по ней?
-- Там живут плохие люди. Ну, может, -- добавил он, стараясь быть
беспристрастным, -- они не хуже всяких других, да только у нас с ними
кровная вражда. Она началась двадцать пять лет назад. Они убили шестнадцать
наших, ну, а мы зато убили у них двадцать два человека.
-- Вендетта? -- спросил Монтано. -- А из-за чего?
-- Да я уж не помню, с чего она началась.
-- Какое безумие! -- воскликнул Алан. -- Трудно представить людей
добрее твоих земляков, и все же вы убиваете друг друга, хотя давно забыли,
из-за чего, собственно, началась ссора.
Милош пожал плечами.
-- Таков обычай нашей страны. Конечно, -- прибавил он с достоинством,
-- он может показаться варварским и жестоким людям вроде нас с вами, которые
повидали мир, но это дела не меняет: если я спущусь с вами в западную
долину, живым я оттуда не вернусь.
-- Я думаю, отсюда мы сами сумеем найти дорогу. И ведь мы в вашей ссоре
не участвуем, так что нам они не сделают ничего плохого.
-- Это как сказать! Может, им уже известно, что вас сюда привел я. --
Милош указал на дальний склон. -- Отсюда, конечно, не видно, но уж там,
наверное, прячется дозорный. И если вы спуститесь в их долину, они с вами
расправятся так же, как с любым из нас. Есть только один способ...
Погодите-ка!
Он снова подошел к старому пастуху и заговорил с ним. Но старик вдруг
выразительно замотал головой.
-- Значит, и этот способ не годится, -- сделала вывод Анджела. И она не
ошиблась.
-- Нам придется вернуться назад, -- сказал Милош. -- Старик живет
неподалеку отсюда. Я думал, он позволит двум своим внучкам проводить вас, но
он и слышать об этом не хочет.
-- Ну, а чем они нам помогли бы? -- с любопытством спросил Алан.
Милош с удивлением поглядел на него.
-- Эти люди, конечно, наши враги, но они не какие-нибудь кровожадные
дикари. Наши женщины могут свободно проходить через их долины. Они даже и
меня не тронули бы, будь со мной женщина. Мы верим, что тень женщины -- это
всемогущая защита.
-- Значит, -- лукаво спросила Анджела своим низким голосом, -- будь с
нами женщина, нам не грозила бы никакая опасность?
-- Да, никакая. Но ведь старик сказал, что не пустит внучек.
-- Нам незачем их затруднять, если они согласятся продать какое-нибудь
из своих старых платьев.
Милош уставился на нее своим единственным глазом, а она, заметив, что
он начинает догадываться, в чем дело, звонко рассмеялась и, повернувшись к
Алану, съязвила:
-- Как видишь, и от девушек бывает польза.
Глава одиннадцатая. ВСТРЕЧА В РАГУЗЕ
Эту ночь они спали под открытым небом на мягком, но слегка колючем
ковре из сосновых игол. Кроме женского платья, они купили у пастуха и
съестных припасов. Милош, человек, повидавший свет, побывавший в Сицилии и
Венеции, не отказался от денег, которые они предложили ему прощаясь. Теперь
они вновь остались одни, а до Рагузы было еще два дня пути.
Встав до зари, они пошли по хорошо протоптанной тропе, которая вилась
вдоль берега бурной речки. Вскоре впереди показалось несколько бревенчатых
хижин с высокими крышами. А на горном ручье, который, клубясь, сбегал с
обрыва к речке, виднелось несколько маленьких водяных мельниц.
-- Тут мелют рожь, -- заметил Монтано. -- Эти мельнички можно увидеть
здесь на любом быстром потоке.
Алану они показались совсем крошечными, так как он привык к массивным
водяным мельницам Йоркшира и высоким ветряным мельницам восточной части
Англии. Эта деревушка встретила их далеко не так приветливо, как первые две.
Из всех дверей на них подозрительно смотрели темные глаза. Все мужчины были
вооружены до зубов, и всюду чувствовалась настороженность -- да и
неудивительно* ведь в соседней долине появился турецкий отряд.
Однако в довольно большой деревне, милях в семи ниже по реке, их
встретили более дружелюбно. Какой-то человек поздоровался с ними и спросил,
знают ли они, где сейчас янычары. Услышав, что они из Венеции, он стал еще
приветливее.
-- Вы, венецианцы, -- наша единственная надежда в борьбе против турок,
-- сказал он. -- Если бы не вы, нам пришлось бы полагаться только на свои
сабли. Конечно, мы им никогда не покоримся! -- гордо добавил он. -- Однако
они причиняют нам много вреда.
Он пригласил их к себе в дом, где его жена пекла в очаге хлеб на
железных листах. Он предложил им поесть и дал на дорогу два еще теплых
каравая, и они поняли, что от здешних жителей им больше не грозит никакая
опасность, хоть они и пришли в этот край с их кровным врагом. После ночи,
проведенной на открытом воздухе, они с удовольствием отдохнули под этой
гостеприимной кровлей. Анджела была очень рада, что может стать сама собой,
и поспешила завести оживленный, хотя и немой разговор с дочерьми хозяина,
знаками показывая, как ей нравятся их искусные вышивки и тонкая пряжа.
-- Тебе, наверное, хотелось бы остаться в женском наряде? -- спросил
Алан, когда они снова отправились в путь.
-- Вовсе нет! -- отрезала она. -- Ты заметил, какие у них руки?
-- Руки? -- повторил он с недоумением. -- Ах, ты об этой татуировке!
-- Да. Если ты думаешь, что я соглашусь так изуродовать свои руки...
-- Но ведь этого и не требуется.
-- Нет, здесь татуируются все женщины. Разве ты не заметил, как девушки
удивились, когда увидели, что кожа у меня на руках совсем не тронута?
-- По-моему, эта татуировка безобразна. Зачем они это делают?
-- Я спрашивала капитана. Он говорит, что татуированных турки реже
уводят в рабство. У турок особенно ценятся белые руки христианских девушек.
Так что в женском наряде я буду подвергаться значительно большей опасности,
а кроме того, слишком выделяться своей необычной внешностью. Значит, мне
следует снова превратиться в Анджело.
Алану оставалось только признать ее правоту.
-- И зачем я завлек тебя на турецкую территорию! -- сказал он с
тревогой.
-- Не говори глупостей! Ты меня никуда не завлекал, я сама сюда
явилась. Да и страшны нам только янычары. Беда в том, что турецкий султан
почти не имеет над ними власти -- ведь турецкая империя уже пережила свой
расцвет, и эти отряды дерутся между собой и бесчинствуют как хотят.
-- И все-таки мне это не нравится.
-- Только бы нам добраться до Рагузы, а там мы достанем фирман,
разрешающий свободный проезд по стране. Вот увидишь, все будет хорошо.
К вечеру трое усталых путников добрались до маленького городка с
крепостью, монастырем и сносной гостиницей.
Теперь им уже не грозила никакая опасность, и хотя они торопились
поскорее добраться до цели, этот последний день пути до Рагузы оказался
очень приятным. Монтано побывал у лекаря, и тот заверил его, что он может не
беспокоиться о своем плече: горцы были искусными врачевателями ран и знали
много целебных трав. Алан тоже чувствовал себя отлично, сменив рваные
башмаки, которые не выдержали горных дорог, на кожаные сапожки с
щегольскими, загнутыми кверху носками.
Только Анджела была недовольна. День за днем разгуливая по солнцу, она
загорела и теперь с ужасом думала о возвращении в Венецию, где в моде была
только матовая бледность.
-- И это после всех моих стараний! -- жаловалась она. -- Когда я часами
сидела в дурацкой соломенной шляпе без донышка и, пряча лицо под ее широкими
полями, подставляла солнцу рассыпанные сверху волосы, чтобы они стали
золотистыми!
Но она не нашла у Алана желаемого сочувствия. Он не слишком любезно
заявил, что ей незачем было пускаться в эти странствия, раз она считает
какую-то дурацкую бледность важнее Алексида. Услышав это, Анджела скорчила
невыразимо презрительную гримасу, но ее старания пропали зря: Алан, хотя они
и шли рядом, не смотрел на нее, предпочитая любоваться не прекрасной
венецианкой, а окружающим пейзажем.
Пейзаж этот был удивительно красив. Впереди вздымались горы,
медово-золотистые на утренней заре и розовые в час заката, а ближе крутые
склоны были покрыты мохнатым бархатом сосен или голубели от распустившегося
цикория. По сторонам дороги расстилался пестрый цветочный ковер --
ослепительно белые или золотистые венчики наперстянки, лиловые колокольчики,
алые гвоздики и множество других цветов превращали окрестности в волшебный
сад.
-- Что это за высокие цветы? -- спросил Алан у девушки.
-- В Италии мы называем их fiori-di-angeli -- ангельскими цветами.
К вечеру, поднявшись на холм, они вдруг увидели перед собой Рагузу. Оба
решили, что ничего красивее они не встречали на протяжении всего пути.
Это были дни гордого расцвета Рагузы, когда корабли маленькой
республики были известны во всех портах Средиземного моря. Прямо из морских
волн вставали бело-серые двойные стены -- скалы, сотворенные человеческими
руками. Там и сям над ними поднимались грозные бастионы. Пирамидальные
вершины кипарисов и пушистые веера пальм смягчали суровую геометричность их
очертаний. Пригашенная зелень алоэ и серебристо-серая листва маслин отлично
сочетались с кустарником, усеянным крупными желтыми и алыми звездами цветов.
В хорошо защищенной гавани вздымался целый лес мачт, и пестрые борта сотен
больших и малых судов отражались в колышущейся воде.
Утром путешественники вышли из гостиницы и оказались на Страдоне --
главной улице города, которую украшали фонтан и затейливая башня с часами.
По обеим сторонам, погружая улицу в тень, поднимались высокие каменные
дома. Над крышами кружили голуби, но впереди Монтано заметил чаек.
-- Вот это уже похоже на дело, -- заметил он без обычного уныния. --
Гавань... Море... Соленый воздух... Это вам не подлые горы!
Капитан собирался зайти в таможню, где у него был знакомый чиновник, а
затем посетить венецианского посланника, чтобы сообщить ему о судьбе
"Дельфина". Алан и Анджела намеревались провести в Рагузе еще день, чтобы
дать поджить волдырям, которые они натерли на ногах, а затем отправиться
дальше по константинопольской дороге. Договорившись с капитаном встретиться
попозже, чтобы вместе пообедать, молодые люди решили осмотреть город и порт.
-- Все-таки это чудесно -- отдохнуть денек! -- заметила Анджела, с
наслаждением поедая только что купленный апельсин и облизывая пальцы. --
После встреч с пиратами, турками и кровниками приятно почувствовать себя в
полной безопасности.
-- Смотри, сглазишь! Подержись скорее за дерево.
Но Анджеле не удалось коснуться дерева, чтобы отвратить неудачу: в эту
минуту они отдыхали, удобно устроившись под стеной, окружавшей порт, среди
сотен других зевак, собравшихся пожариться на солнце и поглазеть на корабли.
Камень стены приятно грел тело, а откинувшись, можно было спрятаться от
солнца в тень выступа. Анджела, которую по-прежнему заботил цвет ее лица, не
пренебрегала этим треугольничком тени. Но ее апельсин был полон косточек, и
она то и дело наклонялась, чтобы выплюнуть их.
-- Наверное, -- заметила она, -- даже и тебе иногда надоедают
приключения.
-- Мне? -- Он удивленно уставился на нее. -- Если приключения означают
бесконечные схватки и вечную неуверенность в том, удастся ли тебе дожить до
завтрашнего дня, то я отлично обошелся бы без всяких приключений.
-- Странно! -- Анджела принялась за второй апельсин. -- Когда ты
отбивался на юте от пиратов, мне казалось, что тебе это нравится.
-- Если приходится драться, я дерусь, и, наверное, мне даже приятно
возбуждение боя, хотя в то же время у меня душа уходит в пятки.
-- Это было как-то незаметно.
-- Ну, стоит только выдать свой страх -- и тебе конец.
-- Но если тебе не нравятся приключения, -- не отступала Анджела, --
так почему же ты отправился в... туда, куда мы отправились? (Они раз и
навсегда уговорились не произносить вслух слова "Варна" там, где их могли
услышать посторонние.)
-- Потому что это достойное дело, -- ответил он не задумываясь, -- и я
не хотел бы, чтобы его выполнил кто-нибудь другой. Но будь это путешествие
совсем безопасным, я отправился бы в него с неменьшей охотой. Я не ищу
опасностей, хотя я их и не боюсь. Вернее, -- поправился он, не желая
отступать от истины, -- не настолько боюсь, чтобы отказаться от такой
благородной задачи.
-- Я рада, что ты так говоришь. По-моему, в том, чтобы убивать людей,
нет ничего славного и героического.
-- Этим мы в Англии сыты по горло, -- сказал Алан угрюмо. -- Сторонники
Ланкастеров и Йорков резали друг друга добрых сто лет, так что все знатные
роды были чуть ли не полностью истреблены. Неудивительно, что ты считаешь
Англию варварской страной. Но все это уже позади. Генрих Тюдор, конечно,
старый скряга, но он принес Англии мир. И при нем мы залечили наши раны,
возместили наши потери... и страна начинает процветать.
-- Ты думаешь вернуться в Англию, когда... ну... когда дело будет
сделано?
-- Если к этому времени моя кембриджская стычка будет забыта.
-- Так, значит, тебе не нравится Венеция? -- поддразнила она.
-- Очень нравится! И я хочу посмотреть Рим, а также Флоренцию. Но ведь
Англия -- моя родина. И там теперь будет очень интересно!
-- Почему?
-- Вы в Италии сделали так много! Какие у вас дома, картины, статуи,
библиотеки, театры, музыка... Англия же пока еще почти ничего не совершила.
Но совершит. И я хочу это увидеть. Я хочу принять в этом участие.
Они умолкли, потому что после такого серьезного разговора уже не
хотелось просто болтать. Анджела, подремывая на солнышке, машинально
прислушивалась к разговору двух итальянцев, которые стояли, облокотившись о
парапет за выступом стены в нескольких шагах от них.
-- Мы только зря теряем время. Может, он вовсе и не в Рагузу
отправился.
-- А куда же еще?
-- Ну так, значит, он успел уйти отсюда еще до нашего приезда. Все-таки
выехал-то он раньше нас.
-- Это невозможно. У нас был самый быстроходный корабль в Венеции.
-- И все-таки как бы медленно ни плыл его корабль, пора бы ему уже быть
здесь. А с тех кораблей, которые заходили в порт после нашего, и крыса не
пробралась бы на берег незамеченной.
Анджела тихонько дернула Алана за рукав. Догадываясь, что он вряд ли
понял их быструю речь, она шепотом объяснила ему по-гречески, в чем дело.
Алан насторожился и, наклонившись, осторожно глянул за выступ. К своему
большому облегчению, он убедился, что никогда прежде не видел этих людей. Но
он продолжал внимательно прислушиваться в надежде услышать что-нибудь
полезное.
-- Это слуги герцога? -- шепнула Анджела.
-- Не знаю.
-- Давай уйдем, пока они нас не заметили.
-- Не стоит. Тут они нас не видят, а я хотел бы точно все выяснить.
Позднее он сообразил, что благоразумнее было бы ему самому уйти,
оставив Анджелу подслушивать -- ведь никто не узнал бы в этом юноше Анджелу
д'Азола. Но, как правило, благоразумные мысли приходят в голову слишком
поздно.
-- Вон он идет, -- сказал один из итальянцев.
Алан поглядел вдоль парапета, но с этой стороны к ним никто не
приближался. Следовательно, того, о ком говорил итальянец, от них заслонял
выступ стены -- как и их от него.
Это оказалось к лучшему, потому что, едва подошедший заговорил, Алан, к
большому своему неудовольствию, узнал голос Чезаре Морелли.
-- Где Бернардо?
-- Он еще не вернулся, синьор.
-- Он мне нужен. Я кое-что узнал в таможне. Туда только что заходил
один венецианский капитан. Его корабль сожгли пираты. Он спасся и добрался
сюда по суше с двумя уцелевшими пассажирами -- один из них англичанин.
-- Дрейтон!
-- Почти наверное. Корабль назывался "Дельфин".
-- Тот самый, который отплыл из Венеции в то утро, когда англичанин
пропал. Все сходится, синьор.
-- Тем лучше. Вот что, Антонио: вы с Дюранте будете по очереди следить
за гостиницей, где остановился этот капитан. И проверьте, живет ли там и
этот англичанин, и тот ли он, кто нам нужен.
-- А вы знаете, где остановился капитан, синьор?
-- Конечно. В "Золотом Галибне", неподалеку от дворца епископа. Если
увидите Бернардо, скажите, чтобы он...
-- Вон он идет, синьор.
Алан мысленно выругал себя за то, что так легкомысленно мешкал здесь.
Прямо к ним неторопливо шел Бернардо, помогавший Морелли похитить Алана в
вечер карнавала. А тут, между отвесной стеной и парапетом, ему негде было
укрыться.
Не менее опасно было бы и броситься за выступ в надежде незаметно
проскользнуть мимо Морелли и его собеседников. Ведь если раньше они стояли,
облокотившись о парапет, спиной к прохожим, то теперь наверняка повернулись
навстречу приближающемуся товарищу.
Алан очутился в ловушке. Он неизбежно должен был столкнуться лицом к
лицу с Морелли или с Бернардо. Правда, он мог бы спрыгнуть с парапета в
море, но уж тогда бы они его непременно заметили.
Он перевел дух. Бернардо, во всяком случае, один, и лучше будет
броситься ему навстречу сейчас, пока расстояние не сократилось еще больше.
-- Пошли, -- хрипло буркнул он.
И они почти побежали, однако умеряя шаги, чтобы не привлекать внимания,
к крутой лестнице, которая вела на бастион. Если бы им удалось добраться до
нее раньше Бернардо, то он, может быть, их все-таки не узнал бы.
Однако в эту минуту Бернардо увидел своего начальника и заторопился. В
результате, когда молодые люди добрались до лестницы, Бернардо был от них
всего в нескольких ярдах. Его глаза равнодушно скользнули по лицу Анджелы,
потом он с тем же равнодушием посмотрел на ее спутника... и удивленно
разинул рот.
Прежде чем он успел оправиться от изумления, Анджела и Алан были уже на
первой лестничной площадке. Они услышали, что Бернардо позвал Морелли и
бросился вслед за ними, гулко топоча по каменным ступеням.
От него следовало как-то избавиться. Остальные были еще далеко, и
прежде, чем им удалось бы добежать до лестницы и подняться по ней, Алан с
Анджелой успели бы скрыться в узких городских улочках.
-- Беги, я тебя догоню! -- задыхаясь, шепнул Алан, и девушка кинулась
дальше, а он, пригнувшись у парапета на повороте лестницы, стал ждать.
Внезапно увидев перед собой Алана, Бернардо испуганно остановился. Он
вовсе не собирался драться. Ведь ему было приказано только следить за
англичанином. Растерявшись, он не знал, как поступить, и машинально
ухватился за рукоятку кинжала. Собрав все силы, Алан ударил его кулаком в
подбородок. Бернардо покатился вниз по каменным ступенькам. Хотя последние
три дня он мечтал о встрече с Аланом, эта встреча, по-видимому, не доставила
ему особого удовольствия.
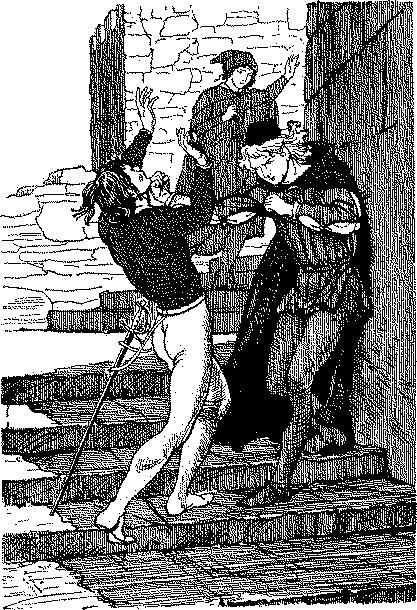 Алан догнал девушку на верхней площадке лестницы.
-- Быстрей! -- еле выговорил он. -- Надо поскорее затеряться в толпе.
Алан догнал девушку на верхней площадке лестницы.
-- Быстрей! -- еле выговорил он. -- Надо поскорее затеряться в толпе.
Глава двенадцатая. СУМРАЧНЫЕ ДОЛИНЫ
Минуты две спустя они остановились, чтобы перевести дух, в толпе,
окружавшей торговцев лошадьми. Укрывшись за широкой спиной дюжего барышника,
они решили, что Морелли и его люди не заметят их, даже если и догадаются
свернуть в эту улицу.
-- Что теперь? -- спросила Анджела.
-- Нам надо выбраться из города прежде, чем они успеют поставить у
ворот кого-нибудь из своих.
-- А как же наши сумки? Мы ведь должны вернуться за ними в гостиницу.
-- Придется обойтись без них. Морелли и его сообщники знают, что мы
остановились в "Золотом Галионе". Наверное, они уже бросились туда.
-- Ну, я без моей сумки не уйду, -- упрямо заявила Анджела, которая, и
переменив костюм, сохранила обычную женскую бережливость. -- Вот что, Алан:
они ведь меня не узнают, потому что из них меня видел только один, да и то
он смотрел на тебя...
-- Ну и что? -- нетерпеливо перебил ее Алан.
-- Ты сейчас же уходи из города, а я забегу в "Золотой Галион", заберу
обе сумки и догоню тебя на константинопольской дороге. Подожди меня, когда
отойдешь от города мили на две.
-- Но ведь они уже, наверное, наблюдают за гостиницей, а там кто угодно
им скажет, что вот этот юноша пришел со мной. И тогда ты наведешь их на мой
след, а второй раз нам от них избавиться не удастся.
-- Не беспокойся! Этого не случится. -- Она засмеялась. -- Я войду в
гостиницу как Анджело, а выйду как Анджела. Смотри не перепутай дороги и жди
меня на восточной.
Алан не успел ничего возразить, как девушка уже скрылась среди
крестьян, приценивавшихся к лошадям, и ему оставалось только согласиться на
ее план. Проклиная про себя женское упрямство и капризы, он зашагал к
восточным воротам, торопливо пробираясь через густые толпы, заполнявшие
узкие улицы.
Алан подумал было, что ему не следовало бы уходить из Рагузы через
восточные ворота -- это могло помочь Морелли догадаться, куда лежит его
путь. Разумнее было бы покинуть город по какой-нибудь другой дороге, а затем
напрямик, через виноградники и оливковые рощи, выбраться на
константинопольскую дорогу. Однако на это потребуется слишком много времени
-- окрестности Рагузы ему незнакомы, а по таким горам вряд ли удастся идти
напрямик. Если Анджела не задержится в гостинице, она почти наверное его
обгонит. Нет, остается только одно -- поторопиться, чтобы успеть выйти за
ворота, прежде чем туда доберутся помощники Морелли.
Однако, когда до ворот было уже недалеко, Алан сбавил шаг и начал
прихрамывать. Вдруг Морелли будет расспрашивать стражу, не проходил ли здесь
человек с такой-то внешностью? Алан рассудил, что случайных прохожих
запоминают по каким-то их особенностям: если стражник заметит хромого юношу,
Морелли это ничем не поможет.
Но что делать с его белокурыми волосами? Здесь, на юге, среди
темноволосых смуглых людей, они были наиболее броской приметой. Пожалуй,
стражнику они запомнятся больше хромоты.
Вдруг Алан увидел на углу улицы девочку, продававшую апельсины, и ему в
голову пришла спасительная мысль: корзина, в которой они лежали, была
широкой и почти плоской.
-- Сколько ты хочешь? -- спросил он. -- За все. Если девочка и не знала
итальянского языка, его жесты были ей понятны, и она широко раскрыла глаза.
"Еще бы, -- подумал Алан, -- ведь апельсинов в корзине не менее трех
десятков".
-- Вместе с корзиной, -- добавил он, высыпая на ее ладошку горсть
медных монет.
Девочка, онемев от изумления, смотрела, как он поставил корзину на
голову и, хромая, побрел к воротам.
Хитрость удалась как нельзя лучше. Широкое дно корзины не только
скрывало предательские золотые кудри, но и отбрасывало густую тень на его
лицо. Правда, Алану пришлось пережить неприятную минуту, когда один из
стражников вдруг начал рыться в кармане, очевидно решив купить апельсинов.
Однако он заколебался, и Алан успел благополучно уйти.
Но вот темная арка ворот, похожая на туннель (так толсты были стены
Рагузы), осталась позади. Перед Аланом, ослепительно белея в лучах
полуденного солнца, простиралась дорога, ведущая в Варну. Все было бы
хорошо, если бы не приходилось нести дальше эти проклятые апельсины --
нельзя же бросить корзину на глазах у всех встречных!
И Алан зашагал на восток, ругаясь про себя: апельсины были довольно
тяжелы, таскать груз на голове он не привык, а нести корзину в руках мешала
ее ширина. Хорошо хоть и то, подумал он, что можно перестать хромать.
В минуты опасности Алан всегда вел себя осмотрительно и теперь
обдумывал, как ускользнуть от наемников герцога, с тем же тщанием, с каким
писал по-гречески стихи, занимаясь у Эразма. Ведь Анджела, вопреки всем ее
беззаботным уверениям, могла все-таки вызвать подозрение у Морелли и его
людей. Ну нет! Он не станет беспечно сидеть на придорожном камне, дожидаясь,
чтобы она привела погоню прямо к нему.
И вот, выбрав минуту, когда на дороге ни впереди, ни сзади никого не
было видно, он перелез через низкую ограду и пробрался виноградниками вверх
по склону, пока не нашел удобного места, откуда дорога по направлению к
городу была видна почти на целую милю, а его самого надежно скрывала завеса
из лоз.
Уже наступило самое жаркое время дня, и дорога поэтому была пустынна.
Редкие путники почти все шли не от города, а в город. Алан просидел там
полчаса, и за это время в сторону Рагузы проследовали караван мулов, пастух
со стадом, отряд всадников и несколько крестьян. А навстречу им проехал
только священник на кособрюхом осле. Наконец он увидел Анджелу: на ней было
рваное платье и голубой платок, которые она купила у пастуха на перевале. Но
со своей высоты Алан увидел и то, чего не могла видеть девушка: примерно в
четверти мили позади нее неторопливым шагом ехали два всадника.
"А вдруг... -- Алан закусил губу. -- Что-то мне это не нравится. Я же
ей говорил..."
Да, хорошо, что ему пришло в голову спрятаться.
Алан не окликнул Анджелу, когда она прошла мимо. Было видно, что ей
нелегко нести две сумки по такой жаре. Однако он не спешил прийти к ней на
помощь -- прежде надо было поглядеть поближе на всадников.
Случайность ли, что они следуют за Анджелой, не приближаясь к ней и не
отставая? Когда они проехали внизу, он убедился, что никогда не видел их
прежде -- во всяком случае, с такого расстояния их лица не показались ему
знакомыми. Но это ничего не доказывало: он ведь не успел рассмотреть тех,
кого Морелли называл Антонио и Дюранте, а к тому же герцог был достаточно
богат, чтобы послать за ним в погоню не четверых людей, а гораздо больше.
Значит, остается одно: идти следом за ними, быть начеку и поступать
согласно обстоятельствам. Быстро сбежав с крутого склона, Алан снова перелез
через ограду и пошел за всадниками.
Дорога вилась с холма на холм. Иногда Алан видел только всадников,
иногда не видел даже их, а потом с гребня успевал заметить вдалеке и
Анджелу, которая упрямо брела вперед с двумя сумками за плечами. Сам он шел
очень осторожно, стараясь укрываться в тени, и вообще принимал все возможные
меры, чтобы остаться незамеченным, если всадники вдруг вздумают обернуться.
Так он прошел около мили. Затем Анджела вдруг остановилась. Вероятно,
она начала тревожиться, что его так долго не видно. Неподалеку от дороги
была сосновая роща. Анджела свернула туда и исчезла среди деревьев. Конечно,
она решила переодеться в свой мужской наряд. Остановятся ли всадники?
Спрячутся ли они и будут ждать, пока она выйдет из рощи?
Сердце Алана забилось сильней, потому что эта минута должна была
решить, враги перед ним или просто путники. Нет, они не придержали
лошадей... Вот они поравнялись с сосновой рощей, в которой скрылась
Анджела... Они поехали дальше!
Алан был готов кричать от радости. Всадников заслонил гребень
невысокого холма, но через несколько минут они вновь показались на дороге и,
становясь все меньше и меньше, ехали на восток, по-прежнему не подгоняя и не
удерживая своих лошадей.
Алан бегом кинулся вперед и достиг рощи как раз в ту минуту, когда
оттуда вышла Анджела действительно в мужском костюме.
-- Давно пора! -- весело приветствовала она Алана, сбрасывая с плеча
его сумку. -- Неси ее теперь сам!
И они бок о бок зашагали по дороге. Прямо впереди, на востоке, словно
зубчатые крепостные стены, вздымались горные отроги и пики.
Лето выдалось сырое. Уже лет десять в здешних местах не было таких
дождей, говорили им крестьяне.
В первый же вечер, когда они, чтобы не привлекать к себе внимания,
устроились на ночлег в придорожном сарае, разразилась сильная гроза. На
следующее утро оказалось, что дорога превратилась в болото, ручьи -- в
кипящие потоки, и им пришлось сделать крюк в шесть миль, потому что
разлившаяся речка сорвала мост. Затем надолго установилась пасмурная,
дождливая погода, и когда лучи солнца изредка прорывались сквозь тучи, на
несколько минут озаряя ландшафт, он от этого казался только еще более
унылым.
Местность вокруг становилась все более дикой. Над ними уходили в небо
крутые свинцово-серые склоны, по которым вверху ползли серые облака. А
внизу, в узких долинах и ущельях, клубилась белая пена бешеных рек, и сосны
по берегам казались почти черными.
Алану вспомнились сказки, которые он так любил слушать в детстве, и то
рождество, когда он гостил в соседнем замке и впервые услышал звучные строфы
старинной "Песни о Роланде". В его памяти вдруг всплыли строки:
Высоки горы, мрачен ряд ущелий,
Среди теснин камней чернеют груды . [1]
[1] Перевод де ля Барта.
Наверное, вот в таком мрачном горном проходе Роланд в последний раз
протрубил в свой рог и умер один, окруженный телами бесчисленных врагов,
павших от его руки.
Однако, судя по всему, Морелли и его сообщники не напали на их след.
Поэтому ни холод, ни сырость, ни скверная еда в грязных харчевнях не портили
радостного настроения Алана и Анджелы -- ведь каждый день пути приближал их
к заветной цели.
Алану пришлось признать про себя, что Анджела оказалась приятной
спутницей: у них всегда находились темы для разговора. Всю свою жизнь она
прожила в Венеции и была знакома со многими знаменитыми и интересными
людьми: с учеными из академии ее дяди, с художниками, музыкантами и
приезжими знаменитостями, столь же славными, как Эразм. Алан то и дело
удивлялся ее начитанности и великолепной памяти. Он и сам не жаловался на
свою память, но тягаться с Анджелой все же не мог: она была прямо начинена
различными сведениями и не раз одерживала верх в споре с помощью какого-либо
неопровержимого факта или цитаты.
Однажды, когда Алан вздумал говорить с ней снисходительным тоном, она
немедленно сбила с него спесь, напомнив слова Платона: "Из всех животных
мальчик, пожалуй, самое норовистое. Самое злокозненное, хитрое и
непокорное". Не забывала она цитировать этого философа и в доказательство
своего излюбленного утверждения, что женщина ни в чем не уступает мужчине.
Впрочем, и Алан умел пользоваться тем же оружием. Когда Анджела
принялась сетовать, что ее волосы утрачивают модный рыжий цвет, а она не
догадалась захватить с собой краску, Алан поспешил указать, что ей следует
радоваться хотя бы и таким волосам -- ведь в один прекрасный день она, быть
может, уподобится лысой старухе, о которой Лукиллий написал:
Лгут на тебя, будто ты волоса себе красишь, Никилла,
Черными как они есть, куплены в лавке они. [2]
[2] Перевод Л. Блуменау.
-- Свинья! -- сказала Анджела.
Но Алан немедленно напомнил ей то место из "Домостроя" Ксенофонта, где
Исхомах всячески поносит высокие каблуки, румяна и белила, после чего его
жена смиренно обещает никогда больше ничем подобным не пользоваться.
-- Чушь! -- фыркнула Анджела. -- Будь я его женой...
-- Ну кто тебя возьмет замуж! -- засмеялся Алан. -- Твой ум и острый
язычок отпугнут любого жениха.
-- К твоему сведению, -- величественно заявила Анджела, -- я намерена
выйти замуж не позже, чем через два года.
-- Ты-то намерена, но вот как твой будущий муж? Он намерен на тебе
жениться?
-- Он еще не знает, что я выбрала его своим женихом, -- невозмутимо
ответила Анджела.
-- Вот как! Так кто же этот несчастный? Уж не я ли, не дай бог?
-- Ты? Но ведь ты же англичанин! -- Анджела засмеялась. -- Нет, не
бойся, Алан. Это друг моего отца. Он на десять лет старше меня и живет во
Флоренции. Мне кажется, я полюблю Флоренцию.
Ее хладнокровные рассуждения ошеломили Алана.
-- И он еще не просил твоей руки?
-- Нет. Но попросит, когда я этого захочу. Уж я сумею его заставить.
Она улыбнулась, и Алан легко поверил, что ей удастся добиться своего.
Вот так, болтая, препираясь или беседуя на серьезные темы, распевая
песни или читая вслух все стихи, которые они знали наизусть, молодые люди
шли и шли по константинопольской дороге, пока, наконец, не добрались до
места, которое феррарец Бенедикт пометил на своей карте крестиком.
Тут, за новым мостом, который турки построили через Ольтул, они
свернули вправо и пошли вверх по течению реки на юг.
До Варны было уже недалеко. Еще два-три дня -- и они увидят озеро и
монастырь на одиноком утесе.
После открытых нагорий Далмации долина Ольтула казалась мрачной, почти
зловещей.
Дорога была пустынна. Милю за милей она извивалась вдоль каменистого
ложа реки, а слева торчали угрюмые острые пики. Всюду по склонам, где было
хоть немного земли, росли ели и сосны. Трава попадалась только на редких
полянах. Нигде не было видно цветов -- лишь бурый ковер из сосновых игол да
пятна лишайника на камнях. Царившее вокруг безмолвие не нарушалось пением
птиц. Алан и Анджела сами невольно перестали петь и говорили теперь только
шепотом. Слишком громким было эхо в ущельях Ольтула.
На их пути почти не попадалось селений. Да и те ютились в поперечных
долинах, не таких глубоких, где между более пологими, поросшими травой
склонами вились, словно серебристые корни, небольшие притоки Ольтула. Эти
деревушки обычно теснились на вершине какого-нибудь обрывистого холма -- так
было легче защищаться от врагов. Алан и Анджела, отгоняя рычащих собак,
стучались в дома и покупали еду. Но все эти боковые долины оканчивались
тупиками. Из них не было другого выхода, если не считать узких крутых троп,
по которым разве что мул мог подняться на лежащее дальше плато.
В Варну вел только один путь -- вившаяся вдоль Ольтула дорога, к
которой с каждой милей все ближе подступали заросшие лесом обрывы.
-- Завтра, -- сказал Алан, -- мы, наверное, увидим долину Варны.
-- Это было бы прекрасно. -- Анджела сделала гримасу. -- Хватит с меня
таких ночевок.
Накануне разразилась еще одна страшная гроза с ливнем, который сливался
в одну сплошную завесу из серебристого шелка. Они не успели добраться до
селения и эту ночь спали (а вернее, не спали), скорчившись под выступом
скалы и слушая, как ревет почти у самых их ног грозно вздувшаяся река. К
счастью, следующее утро выдалось ясным и впервые за долгое время день обещал
быть жарким. ...
-- Я совсем промокла, -- жаловалась Анджела. -- Вот увидишь, я заболею.
-- Мы высушим одежду на ходу, -- утешил ее Алан. -- И сами разогреемся,
и солнце поможет.
-- Во всяком случае, я распущу волосы, -- заявила Анджела, -- а куртку
понесу в руках.
-- Это ты хорошо придумала, -- согласился Алан и тоже снял куртку. --
Только не вини меня, если твои белые ручки загорят.
-- Ну и пусть! Никогда в жизни больше не буду прятаться от солнца!
Но становилось все теплее, и они повеселели. Пройдя мили две, они
решили, что уже достаточно высохли и можно будет устроиться у реки
позавтракать оставшимися у них припасами.
-- До чего мне надоела эта кислятина, которую они тут называют сыром!
-- ворчал Алан. -- Вот в Йоркшире сыр -- это сыр.
-- А хлеб совсем размок. Ну да ничего -- до деревни, наверное, уже
недалеко.
-- Да, пожалуй, она прячется вон за тем отрогом. Ну-ка, приведи себя в
порядок, Анджела, и пойдем туда: может быть, нам удастся раздобыть приличной
еды -- мяса, например. Я готов съесть целого быка.
-- И я тоже.
Анджела подобрала волосы и уложила их под шапкой.
-- Лучше бы ты остриглась, -- заметил Алан, -- меньше было бы возни.
-- И не подумаю! Я отлично справляюсь с моими волосами, и они меня ни
разу не выдали -- не то что твоя желтая грива, которую только под
апельсинами и прятать!
-- Не напоминай ты мне про эти апельсины, -- вздохнул Алан, помогая ей
надеть куртку. -- Чтобы я когда-нибудь еще...
Он поперхнулся и умолк. На том берегу реки, застыв на конях среди
темных сосен, за ними безмолвно наблюдали шестеро янычаров.
Глава тринадцатая. ВРАГ ПРИХОДИТ НА ПОМОЩЬ
-- Посмотри! -- хриплым шепотом сказал Алан.
Анджела обернулась и побледнела.
-- Турки! -- ахнула она. -- Скорее уйдем отсюда!
На этот раз Алан сразу с ней согласился. Янычары что-то закричали, но
они притворились, будто не слышат, и оглянулись, только когда укрылись в
лесу.
~ Они стараются перебраться сюда! -- в отчаянии прошептала Анджела.
-- Тут это им не удастся, -- успокоил ее Алан. -- Слишком уж сильно
течение.
-- Видишь, они поскакали вдоль берега.
-- Не бойся. Мы от них ускользнем.
Но она все-таки боялась, как, впрочем, боялся и он сам. Янычары,
вероятно, разглядели, что Анджела -- молодая, красивая девушка, за которую
на невольничьем рынке можно получить хорошую цену. Значит, они попытаются
схватить ее. Перебраться через реку им будет нетрудно, потому что в ней
много мелей и каменных россыпей, где поток разбивается на несколько рукавов,
и течение слабеет.
Беглецы, забыв про усталость после бессонной ночи, проведенной среди
скал, стремглав кинулись вперед по дороге.
Вдруг Алан остановился и схватил Анджелу за плечо.
-- Туда! -- крикнул он, указывая на крутой склон, нависший над дорогой.
Этот обрыв, напоминавший скат острой крыши, густо порос соснами, ветви
которых, переплетаясь, образовали почти непроходимую чащу. Однако туда можно
все-таки было взобраться на четвереньках, пролезая под нижними сучьями и
хватаясь за стволы, чтобы не сорваться с крутизны.
-- Туда, -- повторил Алан. -- Только постарайся не оставить следов
внизу. Они же не смогут обыскать весь лес.
-- Поздно! -- вскрикнула Анджела. -- Вон они!
Из-за поворота выехал турок и, заметив их, пустил лошадь галопом.
Взбираться на обрыв теперь не имело смысла. Через минуту преследователи
стащили бы их вниз. Но и убежать от верховых тоже было невозможно. Положение
казалось безнадежным.
Однако янычар был один. Вероятно, отыскав брод, он не стал звать
товарищей, надеясь, что ценная добыча достанется ему одному. Он несся прямо
на них -- жилистый усатый коротышка на великолепном белом арабском коне.
У Алана не было никакого оружия, кроме ножа. Турок видел перед собой
только перепуганного безоружного юношу и девушку. Возможно даже, что, увидев
светлые волосы Алана, он решил, будто перед ним две переодетые девушки. Как
бы то ни было, он не сомневался в успехе, и эта самоуверенность дорого ему
обошлась.
-- Беги быстро! -- распорядился Алан. -- Но так, чтобы он тебя догнал.
Может быть, мне удастся стащить его с лошади.
Они снова побежали. Впрочем, второе распоряжение Алана было излишне:
янычар в любом случае догнал бы их. Он был уже совсем близко и, без
сомнения, смеялся над их паническим бегством -- неужели эти дурочки
воображают, будто сумеют уйти от арабского скакуна?
Алан отстал от Анджелы шага на четыре. Теперь ему предстояло
споткнуться и упасть. Однако проделать это убедительно не так-то просто!
Кроме того, турок, продолжая гнаться за Анджелой, мог на скаку ударить его
своей кривой саблей. Впрочем, когда Алан оглянулся в последний раз, их
преследователь не обнажил ятагана -- вероятно, потому, что готовился
схватить Анджелу, а в левой руке он держал поводья.
Пора! Он пошатнулся и сделал вид, что падает, но тут же выпрямился,
едва турок проскакал мимо и догнал Анджелу, успевшую отбежать шагов на
двадцать. Он услышал, как девушка вскрикнула, -- янычар, наклонившись,
схватил ее за руку. Белый конь, потемневший от пота и речной воды,
нетерпеливо пританцовывал. Анджела отчаянно отбивалась.
Алан подскочил к янычару с другого бока. Турок внезапно почувствовал,
что в его ногу яростно впились две сильные руки и так вывернули колено, что
он завопил от боли. Он отпустил девушку, но, не успев повернуться к своему
противнику, слетел с седла и тяжело ударился о землю. Вероятно, впоследствии
турок так и не смог вспомнить, что случилось потом: Алан прыгнул к нему на
грудь и стал колотить его затылком о землю, пока он не потерял сознание.
-- Теперь уж не спрячешься!.. -- задыхаясь, сказал Алан. -- Увидев его,
они обо всем догадаются. Попробуем ускакать на его лошади.
Он сунул ногу в стремя, вспрыгнул в высокое турецкое седло и, протянув
руку бледной, дрожащей Анджеле, помог ей вскарабкаться на коня позади себя.
Арабскому скакуну все это не понравилось, и он стал тревожно и ласково
тыкаться мордой в грудь своего неподвижного хозяина. При других
обстоятельствах это благородство восхитило бы Алана, но теперь он счел его
неуместным. В конце концов коня все же удалось отогнать от распростертого на
земле янычара, и они отправились дальше.
Со всех сторон беглецов по-прежнему окружал лес, а сзади доносились
крики, доказывавшие, что и остальные турки перебрались через реку. Еще
несколько минут -- и они наткнутся на своего товарища и бросятся в погоню за
беглецами. Алан прекрасно понимал, что не сумеет ускакать от них на чужом
строптивом коне, да к тому же несущем двойную ношу.
-- Деревня, наверное, уже близко, -- сказала Анджела.
-- Да-да, мы успеем до нее добраться.
И действительно, обогнув следующий отрог, они увидели впереди деревню.
Впрочем, эта кучка белых домиков, теснившихся на вершине холма, к которой
вела крутая тропа, вряд ли заслуживала название деревни.
-- Там мы будем в безопасности, -- сказал Алан с притворной
уверенностью.
По тропе лошадь поднималась шагом. Из-за ограды выскочила овчарка и
яростно залаяла. Алан разглядел во дворе несколько темных фигур -- это
женщины ворошили сено.
Какой-то старик с трудом разогнул спину, приставил руку козырьком к
глазам, а потом заковылял к ним навстречу, сжимая в руке вилы.
-- Да будет с тобой божья милость, дедушка! -- крикнул Алан.
-- И с вами, сынки?
Алан повернулся в седле и указал на лес.
-- Турки, -- сказал он, -- там, внизу.
Старик поднял глаза к небу.
-- Да смилуется над нами господь!
Алан, желая успокоить его, поднял шесть пальцев, но старик повторил:
-- Да смилуется над нами господь! Все наши молодые люди ушли со стадом
в горы.
-- Что они сейчас делают? -- спросила Анджела.
Алан прильнул к бойнице в толстой каменной стене, но сквозь эту щель
ему был виден только уголок двора.
-- Что-то вытаскивают из амбаров, -- ответил он. -- Связки хвороста,
солому и какой-то хлам.
На темном чердаке царила тишина, и только негромко плакал младенец.
Потом Анджела снова заговорила:
-- Давно они послали мальчишку за мужчинами?
-- Наверное, и часа не прошло. В таких случаях время всегда тянется
очень медленно.
-- А старик сказал, что пути до них два часа... Ну, может быть, мужчины
сумеют добраться сюда за час, потому что они сильнее, да и идти надо будет
не в гору, а с горы. Но даже и так...
-- Но даже и так, -- тихо закончил Алан, -- надежды мало.
Он перешел к другой бойнице. Сосновые доски глухо скрипели под его
ногами. Он споткнулся о лестницу, которую они втащили вслед за собой на
темный чердак -- обычный приют местных крестьян в минуту опасности. Только
там, где сквозь узкие щели бойниц пробивались косые лучи дневного света,
были видны мешки с зерном и скорчившиеся на них женщины.
Через другую бойницу ему удалось разглядеть, чем были заняты турки. Они
сновали по двору с охапками хвороста и соломы. И хотя Алан не видел
массивных дверей дома, находившихся почти прямо под ним, он догадался, что
турки собираются их поджечь.
А помощь может прийти не раньше, чем через три часа! Да за это время
турки успеют выкурить их отсюда или поджарить живьем -- и не один раз, а два
или три...
Алан в бессильной ярости сжал кулаки. Эх, будь у него английский лук и
десяток стрел!.. Пусть даже не десяток, а хотя бы шесть! Он перестрелял бы
этих янычар, как кроликов! И они не оказались бы здесь, в этой ловушке. Он
покончил бы с турками еще там, на дороге, под прикрытием сосен, не подвергая
опасности этих ни в чем не повинных крестьян.
Английский лук! С тем же успехом он мог бы мечтать о появлении отряда
английской конницы или легионов небесного воинства! Надо смотреть правде в
глаза, а тщетными пожеланиями делу не поможешь.
На чердаке, кроме него с Анджелой, прятались еще старик и десяток
женщин с маленькими детьми. Старику было, пожалуй, лет семьдесят, однако он
казался достаточно крепким и мог бы в случае необходимости постоять за себя.
Но больше никто тут не сумел бы пустить в ход саблю или пику, хотя оружия на
чердаке хранилось достаточно и на двадцать человек. Нет, о том, чтобы
сделать вылазку и схватиться с янычарами врукопашную, нечего и думать.
Вдруг снизу донесся крик. Главарь турок решил вступить в переговоры с
защитниками чердака. Старик ответил ему, но Алан ничего не понял из их
короткого разговора. Даже со стариком он объяснялся лишь кое-как. Но тому
все же удалось растолковать юноше, о чем шла речь.
-- Они говорят, -- сообщил старик, -- что им нужна только девушка. --
Он неуверенно указал на Анджелу. -- Они говорят, что это не парень, а
девушка. Так?
-- Так! -- ответила Анджела.
Старик хмыкнул.
-- Турки говорят, что никого не тронут. Если мы выдадим им девушку, они
уедут. А не то они спалят деревню, убьют нас всех и все равно захватят
девушку.
-- Скажи им, чтобы они убирались к черту! -- сердито начал Алан, но
Анджела со спокойной решимостью перебила его:
-- Иного выхода нет, Алан. Что бы мы ни делали, конец будет один. Так с
какой стати должны эти люди страдать только потому, что я попросила у них
приюта? И уж если на то пошло, то почему должен умирать ты только потому,
что я против твоего желания навязалась тебе в спутники?
-- Мы должны держаться вместе до конца! -- отрезал Алан.
-- Это ты так полагаешь, но не эти бедняги. Слышишь, как женщины
переговариваются между собой? Они считают, что меня надо выдать туркам, и
они правы.
-- Ты с ума сошла! Ты думаешь, я допущу, чтобы ты добровольно сдалась
этим разбойникам там, внизу...
-- Ты не должен мешать мне, Алан. Я поступлю так, как считаю
правильным.
-- Правильным? -- крикнул он.
-- Если я не выйду к туркам, то стану убийцей и этого малыша, и всех
остальных... И не беспокойся -- янычары будут обращаться со мной хорошо.
-- Откуда ты знаешь?
-- Они ведь собираются продать меня на невольничьем рынке в
Константинополе, а до тех пор будут обо мне заботиться. А до Константинополя
путь не близкий, и за это время многое может произойти. Молодежь вернется с
гор, и ты сегодня же отправишься с ними в погоню за янычарами.
-- Может, отправлюсь, а может, и нет! -- с отчаянием воскликнул он. --
Вдруг они не захотят пойти со мной? Ведь их собственной деревне уже не будет
грозить опасность!.. И откуда ты знаешь, что турки сдержат слово и,
заполучив тебя, не перебьют всех остальных?
-- Все равно другого выхода нет. Если я не спущусь, все, кто находится
здесь, погибнут обязательно.
И тут, словно для того, чтобы придать убедительность ее словам, внизу
раздался треск горящего хвороста. На чердаке запахло дымом, и женщины
разразились причитаниями.
Алан повернулся к бойнице, но ничего не увидел. Все кругом было
затянуто серой завесой дыма, он струйками проникал на чердак, и все вокруг
начали кашлять.
-- Ты не пойдешь! -- сказал Алан.
-- Я должна.
-- Я не пущу тебя, Анджела!
Однако прежде, чем он успел сделать хоть шаг, его стиснули крепкие
объятия. Старик оказался даже еще более сильным, чем думал Алан. Шестьдесят
дет тяжкого труда придали его узловатым рукам крепость железа. Захваченный
врасплох, Алан не мог вырваться. Анджела, которой бросились помогать все
женщины, откинула крышку люка и спустила лестницу. Одна из женщин что-то
закричала туркам, и те ответили. Анджела повернулась к Алану. В темноте он
не мог различить выражения ее лица, но голос ее был спокоен, хотя, очевидно,
это далось ей нелегко.
-- Не беспокойся за меня, Алан. Мне, право же, не страшно,
-- Ты лжешь!
Алан снова забился в цепких руках старика, но они не разжались.
И Анджела, оставаясь до конца верной себе, вместо прощального привета
процитировала Платона -- спокойные слова Сократа, сказанные, когда ему был
вынесен смертный приговор:
От смерти уйти не трудно, о мужи, а вот что гораздо
труднее, -- уйти от нравственной порчи, потому что
она идет скорее, чем смерть.
Она спустилась по лестнице. Женщины торопливо втащили лестницу на
чердак, захлопнули крышку люка и уселись на нее, с вызовом поглядывая на
Алана.
Только тогда старик разжал руки.
...Турки сдержали слово и оттащили пылающий хворост от дверей. Теперь
он дымился посреди двора. Алан, онемев от стыда, гнева и сознания своего
бессилия, словно узник, наблюдающий за казнью своего друга, прильнул к
бойнице, чтобы в последний раз посмотреть на Анджелу. Его лицо горело, и
каменная стена казалась ледяной.
Янычары садились на коней. У стремени их вожака покорно стояла Анджела.
Ее руки были стянуты ремнями.
Неожиданно раздались крики.
Алан увидел, как янычары разом повернулись и выхватили кривые ятаганы.
Черт бы подрал эти узкие бойницы! Что происходит? До него донесся стук
копыт, нарастающий, как барабанный бой.
Вдруг в той узкой полоске двора, которую он видел, промелькнули новые
всадники. Раздался лязг стали, пистолетные выстрелы. Один турок упал, за ним
второй... По двору, словно по арене, кружили пары дерущихся всадников. Сабли
скрещивались с ятаганами. Теперь лошади словно танцевали какой-то сложный
балет. Еще миг -- и они исчезли из его поля зрения. Старик, стоявший у
соседней бойницы, крикнул:
-- Слава господу! Турки бегут. Но кто эти всадники?
Вскоре Алан уже мог бы ответить на его вопрос. Он увидел, как один из
новоприбывших подскакал к дому, размахивая украшенной перьями шляпой.
-- Мессер Дрейтон жив?
Это был Чезаре Морелли.
Глава четырнадцатая. ОЗЕРО
Странная это была встреча в дикой долине Ольтула. Сидя за столом среди
словоохотливых крестьян, которых стало теперь значительно больше, потому что
подоспели мужчины с гор; спасенные и спасители держались друг с другом
весьма любезно и настороженно.
Алан счел своим долгом горячо поблагодарить четверых венецианцев,
которые, рискуя жизнью, пришли к ним на помощь.
-- Умоляю, не упоминай о такой малости, -- попросил Чезаре с
насмешливой улыбкой. -- Мы только исполнили свой долг.
-- Ваш долг?
-- По отношению к его светлости, нашему господину. Ведь он был бы
весьма раздосадован, если бы вы попали в какую-нибудь беду или даже просто
задержались в пути.
-- Интерес герцога к порученному мне делу, каким бы он ни был
своекорыстным, на этот раз сыграл благую роль, -- сухо заметил Алан.
Чезаре положил себе на тарелку еще один кусок телятины с блюда и только
после этого продолжил разговор.
-- Должен признать, что вы заставили нас побегать, -- сказал он. -- Ты
хорошо умеешь заметать след. А о том, что тебя сопровождает синьорина
д'Азола, я узнал только теперь. Однако позволь тебе заметить, мой юный друг,
что не следует соединять нежную страсть с предприятиями такого рода. Как ты
мог сам убедиться, ничего хорошего из этого не вышло.
-- Ты ошибаешься. Между синьориной д'Азода и мной нет никакой нежной
страсти. А кроме того, хоть мы сегодня и попали в беду из-за того, что она
девушка, но поверь мне, это не раз оказывалось только полезным.
Как ни ссорился Алан с Анджелой, он не мог допустить, чтобы кто-нибудь
другой позволил себе отзываться о ней неуважительно. Чезаре в ответ только
улыбнулся и слегка наклонил голову. Затем он сказал:
-- Ну, раз уж случай свел нас вместе в этой опасной стране, не разумнее
ли будет и остальную часть пути проделать вместе? Что скажет на это
синьорина? -- Он повернулся к Анджеле. -- Мне кажется, ты более трезво
смотришь на вещи, чем наш английский друг.
-- Почему ты так думаешь?
-- Например, сегодня ты поняла, что турки оставили вам только один
выход, и сделала единственный верный шаг, как труден он ни был. Неужели
теперь ты не понимаешь, что от меня вам не избавиться? Вы сделали все, что
могли, и в Венеции и в Рагузе. И все же, как видите, я здесь.
Анджела посмотрела Морелли прямо в глаза.
-- Я благодарна тебе за спасение. Но я знаю, почему вы это сделали.
Просто ты надеешься, что Алан укажет вам, где находится Алексид. Но, кроме
того, я знаю, что стоит ему это сделать, как он перестанет быть тебе нужным,
и ты палец о палец не ударишь, чтобы помочь ему или мне.
Венецианец криво улыбнулся.
-- Я для тебя словно открытая книга, синьорина, -- насмешливо сказал он
и вновь повернулся к Алану. -- Однако она неправа, говоря, что ты больше не
будешь мне нужен.
-- А именно?
-- Если ты будешь вести себя разумно и помиришься с герцогом, мессер
Дрейтон, для тебя это может оказаться очень выгодным. Его светлость --
требовательный хозяин, но зато он щедро платит за верную службу. Тебе
следовало бы помогать нам, а не мешать.
Алан напряженно думал, пытаясь найти какой-нибудь план действий, пока
еще не поздно. Этот вечер должен был решить все. До Варны оставалось не
больше тридцати миль. Если Чезаре догадается, что они уже близки к цели,
тогда -- конец.
В Венеции и даже в Рагузе еще можно было ошибаться, у них еще было
время поправить дело, но теперь первая же ошибка все погубит.
Но как, как избавиться от Чезаре?
Он наклонился к итальянцу и сказал так тихо, что даже Анджела не
разобрала ни слова:
-- Может быть, после ужина мы могли бы подробнее обсудить все это...
вдвоем?
Морелли, прищурившись, кивнул.
-- Ну конечно. Мне кажется, мессер Дрейтон, мы, наконец, начинаем
понимать друг друга.
В прохладном мраке двора, пронизанном сладким запахом сена, Алан
беседовал с Морелли.
-- Как это тебя угораздило пытаться говорить со мной начистоту в
присутствии этой девушки? -- сказал он ворчливо. -- Или ты забыл, что она --
племянница Альда? Я-то могу переменить хозяина, если это будет мне выгодно,
но ведь она блюдет интересы своей семьи.
-- Прими мои извинения. Я думал, что она у тебя ходит по струнке.
Алан смущенно усмехнулся.
-- Скорее, наоборот. Но шутки в сторону: ты ведь понимаешь, что, если
мы с тобой договоримся и рукопись получит герцог, я не смогу вернуться к
Альду. Она ему обо всем расскажет. Он тогда меня и на порог к себе не
пустит.
Вот такую речь Чезаре понимал без всякого труда.
-- Конечно, ты должен позаботиться о себе. Но ведь на службе у герцога
ты за год заработаешь больше, чем у Альда за всю свою жизнь. Ну кто он
такой? Жалкий печатник! И всегда сидит без гроша, потому что все деньги,
какие получает, тут же расходует на свои любимые книги.
-- Да... -- Алан задумчиво потер подбородок. -- Теперь я все больше
убеждаюсь, что, служа Альду, я не разбогатею. Но скажи... ты-то почему
хочешь, чтобы я пошел на службу к герцогу? Мы ведь станем соперниками.
-- Вовсе нет. У нас у каждого свои достоинства, -- небрежно ответил
Чезаре. -- Ты человек ученый -- не то, что я. Зато у меня есть другие...
способности. Нет, я не опасаюсь, что ты заменишь меня у герцога. Мы будем
отлично работать вместе.
-- А что ты, собственно, предлагаешь?
-- Чтобы мы вместе раздобыли рукопись, отвезли ее герцогу и поделили
награду пополам. Ведь мне придется немало заплатить трем моим помощникам. А
с другой стороны, если ты сочтешь нужным поделиться с девушкой, чтобы она
помалкивала, ты, естественно, заплатишь ей из своей доли.
-- Что ж, это справедливо.
-- Герцог будет щедр. Тебе этих денег хватит надолго. Ну, а если ты
будешь благоразумен и захочешь подзаработать еще, то у герцога всегда
найдется выгодное поручение для людей вроде нас с тобой.
Алан несколько секунд молчал.
-- Девчонка взбесится, -- пробормотал он. -- Она ведь настоящая дикая
кошка.
-- Ерунда! Неужели ты не сумеешь с ней сладить?
-- Попробую. Она, конечно, поедет с нами. Ведь нельзя же бросить ее в
этой глуши!
-- Но в таком случае ты будешь отвечать за ее поведение.
-- Ладно.
Алан сделал гримасу, зная, что в темноте Морелли этого не увидит. Да,
нелегкую он взял на себя задачу!
-- Как ты думаешь, мы сможем купить тут двух лошадей? -- спросил он
затем. -- Иначе мы будем вас задерживать.
-- А до этого места еще далеко?
-- Даже верхом меньше чем за пять дней не доберешься.
-- А где оно, собственно говоря?
Алан тихонько засмеялся.
-- Право же, мессер Морелли, раз уж я решил довериться тебе, попробуй и
ты поверить мне на слово. Герцог, конечно, заплатит за этих лошадей?
-- Да.
-- И возместит все наши расходы с этого дня?
-- После того как получит рукопись. Теперь я вижу, что ты человек
деловой.
-- Учусь понемножку, -- скромно ответил Алан.
-- А почему ты свернул в эту долину? -- небрежно спросил Чезаре, но ему
все равно не удалось скрыть, что вопрос этот он задал недаром. -- Ведь эта
тропа никуда не ведет -- за перевалом она поворачивает назад к
константинопольской дороге.
-- Вот именно, -- спокойно ответил Алан. -- Потому-то я сюда и свернул.
Я опасался, что не сумел сбить тебя со следа, и, как видишь, оказался прав.
Вот я и подумал, что в этом случае полезно будет прогуляться по Ольтулу, а
потом опять выйти на нужную дорогу, совсем тебя запутав.
-- Только ты просчитался. -- И венецианец самодовольно ухмыльнулся.
-- Однако все вышло к лучшему. -- Алан зевнул и поднялся на ноги. --
Сегодня я буду спать как убитый. Мы ведь вчера ночевали под открытым небом и
совсем глаз не сомкнули. Ты узнаешь насчет лошадей?
-- Поговорю утром со здешними крестьянами. Наверное, у них что-нибудь
найдется. Или можно попробовать поискать турецких коней. Они вряд ли далеко
ушли.
Алан зевнул еще раз.
-- Ладно, ты займись лошадьми, а я заговорю зубы синьорине д'Азола.
Он пожелал Чезаре доброй ночи и отправился в комнату, в которой хозяева
обещали постелить ему и Анджеле. К его большому удивлению, девушки там не
оказалось. Однако несколько минут спустя она ворвалась в комнату, и даже в
слабом свете сального огарка он разглядел, что она вне себя от ярости.
Она подскочила к нему и выпалила по-гречески:
-- Так, значит, ты собираешься заговорить мне зубы? Ты будешь отвечать
за мое поведение?
-- Анджела, послушай...
-- Я уже наслушалась! Вот уж не думала, что ты на это способен! Ты дашь
мне деньги, чтобы я помалкивала? А сам пойдешь на службу к герцогу Молфетте?
И после этого будешь спать как убитый? Да где же твоя совесть, если ты
способен хотя бы сомкнуть глаза после всего, что натворил сегодня?
Алан почувствовал, что она вот-вот даст ему пощечину. Но с него было
достаточно и той, которую он получил в Венеции. На этот раз ему удалось
вовремя схватить девушку за руку. Она попыталась вырваться, но не смогла.
-- Сегодня ни ты, ни я не сомкнем глаз, -- сказал он. -- Жаль, конечно,
-- после такого-то дня! Но боюсь, нам придется пуститься в путь, едва только
остальные уснут.
Чезаре никогда не отличался излишней доверчивостью -- человек с
подобным недостатком недолго удержался бы на службе у молфеттского Ястреба.
И все же на этот раз его недосмотр, пожалуй, был извинителен.
Он и его люди за последнюю неделю совсем измучились. Правда, они ехали
верхом, но им пришлось сделать немало лишних миль, так как нередко они
сбивались со следа, да и сбор сведений был делом нелегким. Поэтому они были
утомлены ничуть не меньше Алана и Анджелы.
Они подоспели как раз вовремя, чтобы вырвать молодых людей из рук турок
-- так вовремя, что это могло показаться чудом или, по крайней мере,
удивительным везением. Однако Чезаре знал, что тут не было ни чуда, ни
везения. Они подоспели в нужную минуту, потому что всю неделю скакали, не
жалея себя, потому что он обдумал и взвесил каждую возможность. При мысли о
том, что он чуть было не потерпел неудачу, его и сейчас бросало в дрожь.
Доверенному слуге, который потерпел неудачу, лучше было не являться на глаза
герцогу.
И если он не поставил человека наблюдать за домом, где спал Алан, то
вовсе не потому, что поверил юноше. Просто он понимал, что любой из его
спутников неминуемо уснет на посту. Четверо -- это все-таки не армия, думал
он. У человеческих сил есть предел, и их силы были уже исчерпаны.
К тому же, если Анджеле казалось невероятным, что Алан мог так легко
переметнуться на сторону врага, Чезаре это представлялось вполне
естественным. Ведь он жил в мире, где почти любой человек охотно пошел бы на
предательство, лишь бы ему за это хорошо заплатили, и он сам, не
задумываясь, бросил бы своего герцога, если бы нашелся более щедрый хозяин.
Нет, согласие юноши не удивило его -- в гораздо большее недоумение его
приводило то упорство, с каким Алан держал слово, данное небогатому
книгопечатнику. Вот этого венецианец понять не мог.
И Чезаре лег спать со спокойной душой. Англичанин, наконец, заговорил
разумно. И сомневаться в его искренности не приходилось -- иначе он не стал
бы заботиться о таких мелочах, как плата за лошадей, возмещение дорожных
расходов и прочее. Да-да, у белобрысого мальчишки была своя цена, как и у
любого другого человека. Значит, дальше все пойдет хорошо.
Вот почему Чезаре спал как убитый, пока Алан и Анджела в темноте
пробирались в горы.
Рассвет застал их на пустынном нагорье. Позади них, далеко внизу,
лежала темная полоска леса -- это была долина Ольтула.
Анджела устало опустилась на камень.
-- Ну что ж, -- сказала она, -- нам удалось ускользнуть. Что мы будем
делать?
-- Ляжем спать, едва взойдет солнце.
-- Спать? Где же? Тут?
-- Нет. Не около этой тропы. Я думаю, Моррели и его люди доберутся сюда
часа через два. Им будет нетрудно найти наши следы.
-- Эти следы ты оставлял нарочно, -- сказала наблюдательная Анджела. --
Зачем тебе понадобилось заманивать их за нами сюда?
-- Чтобы отвести от Варны. Оставить их бродить в окрестностях монастыря
слишком опасно. Пусть думают, что мы пошли прямо через это нагорье, а не по
долине Ольтула. -- Он указал на скалы, громоздившиеся в двух-трех милях к
востоку. -- Хватит у тебя сил добраться туда? Там, наверное, удастся
отыскать укромное местечко. Мы спрячемся там на весь день и хорошенько
выспимся.
-- А они нас не найдут?
-- Нет. Посмотри сама. На этой каменистой тропе не остается никаких
следов. Если мы свернем с нее тут, они об этом не догадаются.
-- Ну хорошо. -- Анджела мужественно поднялась на ноги. -- Пойдем по
этому ручейку. Он как будто течет с той стороны. -- С этими словами девушка
вошла по щиколотку в воду и вскрикнула -- такой она оказалась холодной.
-- Это ты хорошо придумала. Нас тогда даже с собаками не отыскать.
До скал они добирались почти час.
-- Следи за тем, чтобы не показаться над гребнем, -- предостерег Алан,
когда они начали карабкаться по камням.
Вскоре им удалось отыскать ровную площадку, чуть скошенную к югу и
совсем заслоненную соседним выступом. Они улеглись там, подложив под головы
свои сумки.
-- Тут ты в такой же безопасности, как у себя дома в Венеции, -- сказал
Алан.
День уже клонился к вечеру, когда они проснулись, очень голодные, но
отдохнувшие. Алан достал съестные припасы, которые ему удалось тайком от
Морелли купить у крестьян.
-- Ну, а что дальше? -- спросила Анджела. -- Вернемся назад в деревню?
i Алан покачал головой.
-- Слишком опасно. Нам придется поискать другую дорогу к Ольтулу. Ведь
в деревне Морелли мог оставить кого-нибудь из своих" людей.
Анджела оглядела нагорье и скалы, которые в косых лучах заходящего
солнца казались мрачными и зловещими.
-- Но тут же нет никакой дороги! Мы заблудимся в этом страшном месте.
-- Страшном? -- засмеялся Алан. -- В моем родном Йоркшире найдутся
места и нестрашней. Давай осмотримся, пока еще не начало темнеть.
По-прежнему стараясь не высовываться из-за камней, чтобы их нельзя было
заметить издали, они взобрались на вершину скалы. Внезапно Анджела
вскрикнула и указала вдаль.
В двадцати милях от них, среди пустынных нагорий, изрезанных темными
долинами, виднелась кроваво-красная полоска -- озеро Варна, в котором
отражался закат.
Глава пятнадцатая. У ВОРОТ МОНАСТЫРЯ
-- Этот монастырь больше похож на рыцарский замок, -- сказала Анджела,
глядя на мощные стены, угрюмо вздымающиеся над обрывом.
В небе вновь горел закат. Всю предыдущую ночь они мерзли в своем
тайнике под уступом, а потом весь день шли по нагорью к долине Варны. Хотя
по прямой до озера было не больше двадцати миль, они проделали миль
тридцать, обходя расселины и нагромождения скал. Но как бы то ни было, все
кончилось благополучно: они не встретили ни турок, ни венецианцев, и теперь,
усталые, но полные радости, с торжеством смотрели на монастырь, до которого
так долго добирались.
Долина Варны была одной из тех долин, которые, прорезая горы,
расходились от Ольтула, словно растопыренные пальцы. Но эта долина
отличалась от других тем, что бежавшая по ней быстрая речка вытекала из
озера, зловеще серого, мили в три длиной и в милю шириной.
С трех сторон озеро сжимали почти отвесные скалы, кое-где прерывавшиеся
веерообразными каменными россыпями. И только там, где из него вытекала
речка, долина немного расширялась и была покрыта квадратиками полей. Эту
небольшую равнину разрезал надвое крутой утес, вздымавшийся между заросшей
камышами отмелью и полосками ржи.
-- Да, странное место для служения богу, -- согласился Алан.
Крыши и колокольни монастыря вместе с окружающими их скалами
образовывали на фоне неба одну черную зубчатую линию. Грозным и диким
казалось даже само небо, залитое багровыми красками заката, исчерченное
волнистыми полосами золотых и алых облаков, которые напоминали хвосты
сказочных чудовищ.
-- Быть может, они забрались на такую высоту, чтобы жить поближе к
небесам, -- сухо заметила Анджела.
Оказалось, что подойти к монастырским воротам труднее, чем к воротам
иной крепости.
Чтобы достичь подножия утеса, молодым людям пришлось перебраться через
реку, которая прорезала долину наискосок и у противоположного склона
поворачивала к Ольтулу почти под прямым углом. Когда они шли по ветхому
мосту из неотесанных бревен, под которыми бешено бурлила вода, Алан сказал:
-- А ведь это почти остров. С одной стороны озеро, с другой -- река, и
со всех сторон -- обрывы.
-- Не знаю, удалось ли им приблизиться к небу, но от людей они сумели
отгородиться.
-- Что ж, их нельзя винить -- ведь вокруг рыщут турки. Однако и говоря
это, Алан знал, что монастырь был построен за много веков до того, как
турецкие орды вторглись в Европу. Некогда в Варну пришли те, кто искал
святой жизни, и они построили в этом диком краю приют благочестия и
учености. "Но вот кто обитает здесь теперь?" -- подумал Алан.
Еще немного -- и они узнают. Тропинка, настолько крутая, что местами
она переходила в грубо вытесанные ступеньки, петляя, вела на вершину утеса.
На полпути поперек нее высились массивные ворота, напоминавшие предмостное
укрепление замка.
-- Попасть туда можно только через эти ворота, -- сказал Алан.
Хотя уже смеркалось, они хорошо видели, что и слева и справа от ворот
скала уходила вниз совершенно отвесно. Проникнуть в монастырь незаметно было
нельзя. К счастью, у них и не было такого намерения.
-- Только не спутай, кто мы такие и зачем сюда пришли, -- прошептал
Алан на ухо девушке.
-- Не беспокойся, я все помню назубок.
Наконец они подошли к окованным железом створкам ворот. Вот она,
решающая минута. Алан сжал кулак и постучал.
Стук замер, и наступила тишина. Подождав немного, он постучал еще раз.
По-прежнему единственным ответом была тишина. Монастырь казался таким
же угрюмым и безмолвным, как окружающие утесы. Молодые люди переглянулись. С
каждым мгновением становилось все темней.
-- Дай-ка я, -- сказала Анджела.
-- Ну, уж если они моего стука не услышали, так где же тебе...
Тут он вздрогнул от громового стука и, поглядев на Анджелу, увидел, что
она сжимает в руке большой камень. Ее выдумка оказалась удачной. Прямо перед
ними приоткрылось решетчатое окошко. Старческий голос пробормотал что-то
невнятное. Алан заговорил по-гречески:
-- Мы два молодых паломника, отец. Мы ищем ночлега.
-- Уже поздно, солнце зашло, а монастырские правила запрещают открывать
ворота после наступления темноты.
-- Во имя христианского милосердия, отец! Мы прошли долгий путь, мы
изнемогаем от голода и не нашли здесь другого жилья.
-- В Варне и нет другого жилья. Мы чураемся мира и его суетной
греховности.
-- Мы тоже бежим от мира и суетной греховности, отец, -- вкрадчиво
сказала Анджела, почти не покривив душой. "Уж Морелли, во всяком случае,
можно считать воплощением суетной греховности", -- подумала она.
Невидимый привратник долго молчал, словно раздумывая, а потом сказал:
-- Монастырь -- не заезжий двор, и тут вы не найдете мягких постелей и
сладкой еды...
-- Мы ищем духовного утешения, -- немедленно нашлась Анджела, -- а не
мирских удовольствий.
-- Ну что ж, -- проворчал монах, -- входите.
Взвизгнули задвижки, загремел железный засов, и в одной из створок
открылась небольшая дверца. Подняв фонарь, на Алана и Анджелу подозрительно
уставился длинноволосый бородатый монах. Они вошли, и он принялся возиться с
задвижками и засовами.
-- Вот мы и у цели, -- с торжеством прошептала Анджела по-итальянски.
Алан ничего не ответил. У него было предчувствие, что самое трудное еще
впереди.
Алан не раз бывал в больших католических монастырях Йоркшира и других
английских графств, но ничего подобного этому монастырю он еще никогда в
жизни не видел.
Ему приходилось встречать и хороших монахов и плохих: монахов, которые
были учеными книжниками и умелыми врачевателями; монахов, которые
возделывали поля в Пеннинских долинах гораздо лучше, чем окрестные сквайры;
монахов, которые заводили школы и были искусными зодчими... Но, по правде
говоря, еще чаще он встречал монахов, которые думали только о своих лошадях
и гончих, винных погребах и хорошеньких девушках в соседней деревне.
Однако монахи Варны, казалось, не думали ни о трудах во славу господню,
ни о мирских радостях. Это были люди, так долго жившие затворниками в этом
глухом краю, что их души и разум заплесневели, словно хлеб, забытый в
кладовой...
Молодых людей долго вели через настоящий лабиринт темных зданий, пока,
наконец, они не оказались в монастырской гостинице -- каменной клетушке,
где, судя по всему, уже многие годы никто не останавливался.
-- Знаешь, -- сказала Анджела, -- мне кажется, последним здесь ночевал
тот старый паломник... Ну, ты знаешь...
Окон не было, их заменяла небольшая дыра под самым потолком, так что
воздух в комнатушке был спертым, и она пахла гнилой соломой и мышами.
-- Да, это никак не заезжий двор, -- пробормотал Алан, с грустью
вспоминая уютные комнаты тех монастырских гостиниц, в которых ему доводилось
бывать.
Через час к ним вошел другой монах, неся в одной руке блюдо с рыбой и
ломтями хлеба, а в другой -- кувшин воды.
Анджела посмотрела на хлеб, понюхала рыбу и весело заявила:
-- Вода, во всяком случае, свежая. Будем рады и этому.
-- Где нам можно умыться, отец? -- спросил Алан у монаха.
Но тот только нахмурился и ответил сурово:
-- Здесь, в Варне, мы умерщвляем плоть, а не холим ее.
-- Оно и видно, -- шепнула Анджела. -- А нас-то учили, что чистота
телесная -- сестра чистоты духовной. Они тут, кажется, придерживаются
другого мнения.
В дверях монах обернулся:
-- Утром вы явитесь к отцу Димитрию.
-- С величайшим удовольствием, -- заверил его Алан. -- А зачем мы
должны являться к отцу Димитрию?
Монах явно счел этот вопрос очень глупым.
-- Чтобы заплатить за ночлег. А то зачем же? -- ответил он и вышел,
плотно прикрыв за собой дверь.
Анджела посмотрела на Алана, затем на жалкий ужин и на охапку гнилой
соломы, которая должна была служить им постелью, и звонко рассмеялась.
-- "Заплатить за ночлег. А то зачем же?"! -- передразнила она монаха.
-- Какая мерзкая дыра!
-- Настоящая темница.
-- И все же нам надо придумать предлог, чтобы задержаться здесь как
можно дольше -- во всяком случае, до тех пор, пока мы не...
Анджела села и начала развязывать тряпки, которыми обмотала свои
башмаки, не выдержавшие каменистой дороги и постоянной сырости.
-- Если они захотят, чтобы я утром ушла, пусть поглядят на мои ноги, --
невозмутимо объявила она. -- Ой! Чулок присох к ссадине. Бр-р-р! Чего бы я
сейчас не отдала за тазик теплой воды!
И все же стоило им лечь, как они мгновенно уснули, и даже унылый
колокольный звон, который каждые два часа созывал монахов в часовню на
ночную молитву, не мог их разбудить.
Снизу, из долины, монастырь казался отрезанным от всего мира. А теперь,
когда они поглядели вниз с его стены, им почудилось, что они уплывают
куда-то на облаке.
Бездонные пропасти разверзались под самыми их ногами, и казалось, что
каменная стена, опоясывавшая вершину, нужна для того, чтобы монахи не падали
из своего монастыря, а не для того, чтобы помешать врагам ворваться в него.
Кроме тропы, по которой они поднялись к воротам, с утеса был еще только
один спуск -- к озеру, где монахи удили рыбу с больших камней.
Едва проснувшись, Алан и Анджела начали потихоньку знакомиться с
монастырем. Сперва они спустились к озеру, умылись и вымыли израненные ноги.
Два монаха, которые уже сидели там с удочками, смотрели на них, разинув от
удивления рты. Потом молодые люди заглянули в мрачную часовню, стены которой
были на византийский лад расписаны изображениями суровых святых и мучеников.
Но краски давно потускнели и выцвели.
После этого они зашли в трапезную, где как раз накрывали столы к
завтраку, на кухню, где впервые за все время их пребывания в монастыре
ноздри им защекотал приятный запах, и в винный погреб, где хранилось
множество полных бочек и бурдюков.
-- О себе они заботятся как будто получше, чем о своих гостях, --
заметил Алан.
С ними никто не заговаривал, хотя повсюду сновали монахи в сандалиях на
босу ногу. Все молчали, но взгляды, которые они бросали на двух молодых
паломников, были полны настороженного любопытства.
-- Они не слишком-то гостеприимные хозяева, правда? -- шепнул Алан.
-- Когда я смотрю на них, мне становится жутко.
-- Наверное, из-за бород, -- предположил Алан.
Они с Анджелой привыкли к тому, что католические священники бреют
затылок и лицо, поэтому черные бороды и длинные сальные космы этих
православных монахов удивляли их. В большинстве монахи отнюдь не были
стариками.
-- Ну и дюжие молодчики! -- сказал Алан.
Они уже не удивлялись, что турки, покоряя страну, не разорили Варнский
монастырь. Эти монахи могли бы без труда защищать свою крепость на утесе от
целой армии.
-- Но где же все-таки библиотека? -- вздохнула Анджела, когда они
заглянули во все открытые двери.
-- Наверное, она заперта. Вряд ли здешние монахи -- большие любители
чтения.
-- Да, они не похожи на книжников. Не удивлюсь, если большинство тут и
вообще не умеет читать. -- Тсс! По-моему, нас ищут.
Через большой квадратный двор, настолько замусоренный, что Анджела,
посмотрев на валявшиеся там сено и солому, успела окрестить монастырь
"Вороньим гнездом", к ним неторопливо приближался какой-то монах.
-- Вас хочет видеть отец Димитрий.
Они последовали за монахом. Кем бы ни был этот отец Димитрий, он,
очевидно, пользовался в монастыре большим уважением. Проводник постучал в
какую-то дверь, и они вошли.
Отец Димитрий сидел за столом, на котором были аккуратно разложены
счетные книги, списки и деревянные палочки с зарубками, какими пользуются
купцы.
Он был еще не стар, этот широкоплечий монах, а когда он поднялся со
стула, они увидели, что он очень высок.
Но больше всего их поразили его глаза -- широко расставленные черные
угрюмые глаза под кустистыми бровями... Глаза, которые могли внезапно
вспыхивать сумрачным огнем.
Это были страшные глаза. Но почему они были так страшны, Алан и Анджела
поняли только позднее.
-- Вы, значит, паломники? -- спросил он грубо.
-- Да, отец. Наш путь лежит в Иерусалим к гробу господню.
-- Паломники редко проходят здесь.
Алан почтительно наклонил голову.
-- Это правда, отец. Но ведь важна цель, а не путь, который к ней
ведет.
Монах несколько секунд молча смотрел на них. Затем, поигрывая связкой
ключей, висевшей на его поясе, он сказал:
-- Наш монастырь беден. Мы не можем оказывать гостеприимство всем, кто
проходит мимо. А раз вы паломники, значит, денег у вас нет...
Анджела хотела было возразить, но Алан предостерегающе наступил ей на
больную ногу, так что она чуть не вскрикнула.
-- Да-да, -- сказал он поспешно, прежде чем девушка успела открыть рот.
-- Но мы готовы, отец, заплатить за пищу и кров работой.
-- Работой? Гм...
Это предложение, казалось, не слишком обрадовало отца Димитрия.
-- Ну что ж. Денег у вас нет, а вы уже ели тут и, значит, должны хоть
чем-то возместить это монастырю.
Алан решил, что дело плохо. Он никак не мог придумать убедительный
предлог, который позволил бы им задержаться в монастыре еще на день-два. Но
тут в келью вошел монах и сказал отцу Димитрию шепотом, но таким громким,
что они расслышали каждое слово:
-- Отец эконом, настоятель прослышал о молодых паломниках и желает их
видеть.
Лицо отца Димитрия потемнело от гнева.
-- Если бы старик вместо того, чтобы соваться не в свое дело, сошел бы
в могилу и другой ногой, это было бы лучше для нас всех, -- проворчал он.
-- И все же, брат, он пока еще настоятель Варны.
-- Черт бы побрал его крепкое здоровье! Долго мне еще ждать? -- Отец
Димитрий вскочил, яростно оттолкнув стул. -- Ну-ка идите за мной! -- сказал
он громко. -- Сам настоятель пожелал вас увидеть.
Настоятель монастыря Иоанн оказался сморщенным старичком с лысой
макушкой -- только за ушами еще свисали пряди пегих волос. Сжимая ручки
кресла, он внимательно вглядывался в вошедших подслеповатыми голубыми
глазами.
-- Сын мой, ты никогда мне ничего не говоришь, -- сказал он обиженно.
-- Я только случайно узнал про этих молодых паломников.
-- Я не хотел тебе докучать, -- буркнул отец Димитрий. -- Они явились
вчера ночью и сейчас же отправятся дальше -- вернее, как только заплатят за
ночлег.
Алан решил, что настала удобная минута.
-- Прошу твоего разрешения, святой отец, пожить в монастыре несколько
дней, -- сказал он. -- Мы очень устали от долгого пути и нам необходимо
отдохнуть, чтобы успели поджить раны на ногах.
Настоятель посмотрел на отца эконома.
-- Что скажешь, сын мой? Наша гостиница не слишком-то переполнена. -- И
он засмеялся дребезжащим смешком.
-- У них нет денег, -- возразил отец Димитрий. -- А мы не можем тратить
зря и без того скудные средства нашего монастыря.
-- Ты прав, -- сказал старик с торжественным видом. -- Наш священный
долг -- оберегать имущество монастыря, дабы умноженным вручить его тем, кто
придет после нас.
Алан с трудом удержался от улыбки: столько шума из-за двух ломтей
черствого хлеба и куска протухшей рыбы! Он заметил, что Анджела вот-вот
расхохочется.
-- Мы готовы работать, святой отец, -- поспешно сказал он.
-- Вот и хорошо.
-- Конечно, воля твоя, -- с досадой вмешался отец Димитрий. --
Настоятель здесь не я, а ты. Но только какую работу можем мы им поручить?
Дрова все переколоты. Время жатвы еще не настало... -- Он смерил паломников
презрительным взглядом. -- Да что вы умеете делать?
Алан не упустил такой прекрасной возможности.
-- Мы школяры, отец, -- сказал он смиренно. -- Мы оба умеем красиво
писать и по-гречески, и по-латыни. Может быть, у вас есть книги, которые
нужно переписать?
-- Вот-вот! -- вскричал настоятель, прежде чем отец Димитрий успел
ответить. -- Пусть поработают в библиотеке. Там уже давно никто не работал.
Отец Димитрий только выразительно пожал плечами, словно говоря, что это
не работа, а лишь напрасная трата времени.
Настоятель, очевидно, давно уже отвык распоряжаться. Этот короткий спор
с отцом экономом сильно его утомил. Он задал им еще несколько вопросов, но
вдруг его голова упала на грудь, и он задремал.
Отец Димитрий знаком поманил их за собой. Перебирая ключи, он повел их
по коридору и остановился перед запертой дверью.
-- Мужайся, Алексид! -- шепнула Анджела. -- Спасение близко!
Глава шестнадцатая. РАЗОБЛАЧЕНЫ
Библиотека Варны оказалась не слишком привлекательным местом.
Небольшие оконца под самым потолком пропускали так мало света, что
читать древние рукописи было почти невозможно. На столах слоем лежала пыль,
полки были затянуты паутиной.
Отец Димитрий взял со стола чернильницу, брезгливо заглянул в нее и
поставил обратно.
-- Высохли, -- проворчал он.
-- И неудивительно, -- шепнул Алан, толкнув Анджелу локтем.
Монах подошел к двери и что-то крикнул.
-- Сейчас вам принесут перья и чернила, -- буркнул он, вернувшись.
Несколько секунд он в нерешительности оглядывал полки, потом взял два
растрепанных тома и бросил их на стол. -- Перепишите эти жития святых.
"Точь-в-точь учитель, который не знает, чем занять своих учеников", --
насмешливо подумал Алан, а вслух сказал почтительно:
-- Хорошо, отец. А пергамент нам тоже дадут?
-- Ах, да! -- Отец Димитрий подошел к полкам, где книги были навалены
уже в полном беспорядке. -- Тут, наверное, найдутся вычищенные листы.
Сердце Алана замерло. Значит, здешние монахи тоже творят это гнусное
преступление! Им жалко денег на новый пергамент, лень изготовлять его самим
из овечьей кожи, и они предпочитают стирать тексты старых книг, чтобы
воспользоваться их страницами. Он знал, что в прошлом к этому способу
приходилось прибегать, потому что бумага еще не была изобретена, а пергамент
стоил слишком дорого. Но делать это теперь!
Сколько бесценных творений древних авторов было вот так варварски
уничтожено! А вдруг и комедия Алексида уже стерта и на страницах, столько
веков ее хранивших, написано теперь житие никому не известного мученика или
святого!.. От одной только этой мысли его бросило в холодный пот.
В библиотеку вошел монах, неся чернила и перья. Отец Димитрий бросил на
стол две книги, подчищенные настолько небрежно, что можно было разобрать
прежние заголовки. Алан с облегчением узнал длинные поэмы третьестепенных
латинских авторов конца Римской империи. Нет, они были ненамного интереснее
житий, которые теперь займут их место, а кроме того, сохранились в других
рукописях и уже давно напечатаны.
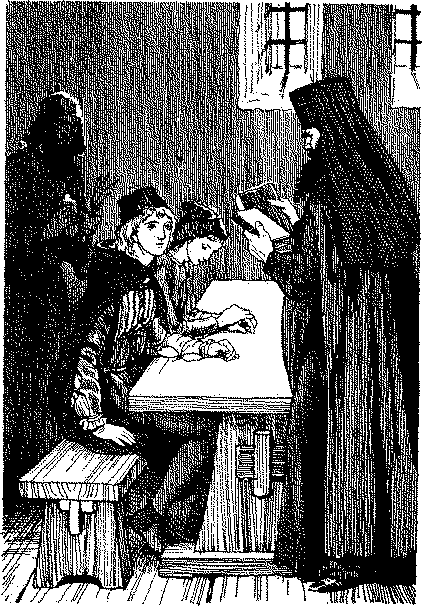 -- Прошу прощения, отец, -- сказал он робко, -- но разве не жаль
подчищать эти старые книги?
-- Жаль? -- крикнул монах, и темные сумрачные глаза под густыми бровями
внезапно вспыхнули гневным огнем. -- Эти книги полны языческой гнусности, в
них прославляются суетные мирские радости и дьяволы и дьяволицы, которых они
называли богами!
-- Это так, отец, и все-таки... -- нерешительно начал Алан, чувствуя,
что он все же должен сначала попытаться честно купить рукопись Алексида,
если только монахи согласятся ее продать. Но ни в коем случае нельзя
показывать, как она ему нужна. -- В Венеции есть много людей, которые охотно
заплатили бы за эти книги большие деньги. И на них ты купил бы втрое больше
пергамента, совсем нового и чистого...
Он не договорил. Монах ужа не мог больше сдерживать свое бешенство.
-- Мерзостные мысли! Позволить языческой нечисти отравлять людские
души! В Варне эти книги хоть не приносят вреда. Будь моя воля, они завтра же
пошли бы на растопку. Но старик настоятель трясется над всяким хламом.
-- Да, он очень стар, -- задумчиво произнесла Анджела.
-- Очень! -- Монах повернулся к ней, и гнев в его глазах сменился
злобной радостью. -- Ему уже недолго жить. А когда он умрет и будет избран
его преемник, в Варне многое переменится. И для начала вся эта языческая
мерзость полетит в кухонную печь. -- Он указал на полки, но вдруг
спохватился, что наговорил лишнего, и, сухо объяснив им, что они должны
делать, вышел из библиотеки. Они услышали, как в замке повернулся ключ. Их
заперли!
-- Давай искать, -- взволнованно шепнула Анджела. Вне себя от
радостного возбуждения, они бросились к полкам, на которых была небрежно
навалена "языческая мерзость". Там царил полный хаос. Очень скверная копия
"Илиады" соседствовала с посредственными греческими и латинскими авторами,
которые жили через несколько столетий после конца золотого века античной
литературы. Было нетрудно догадаться, что все книги, кроме тех, которые
имели отношение к христианской религии, здесь просто свалили в кучу, как
языческие и нечестивые. Анджела, выросшая в доме книгопечатника, знала все
эти произведения. Среди них не было ни одной редкой или ценной книги. Все
они уже были известны в Венеции. Многие были напечатаны, а гораздо лучшие
копии остальных имелись в разных библиотеках Европы.
-- Ее тут нет. -- Анджела чуть не плакала от горького разочарования.
-- Погоди-ка, а это что?
Алан пошарил в глубине полки, куда завалилось несколько книг поменьше.
Одну за другой он извлекал их на свет -- покрытые паутиной, в пятнах
плесени.
-- Смотри! -- Он лишь с трупом удержался от ликующего вопля, который
был бы услышан и за этими толстыми стенами.
Вместе они прочли вслух заголовок, начертанный тонкими выцветшими
линиями: "Овод" Алексида, сына Леона"...
Это была упоительная минута. Они держали в руках маленький,
переплетенный в кожу пергаментный томик, ради которого Алан пересек Европу.
В этой книге, тоже насчитывавшей несколько веков, жило неувядаемое творение
Алексида -- комедия, которая вызвала смех и рукоплескания двадцати тысяч
зрителей, некогда заполнивших обширный афинский амфитеатр, и получила первую
награду на весеннем театральном состязании за четыреста лет до нашей эры.
Почти две тысячи лет прошло с тех пор, как сам Алексид превратился в
прах. Из всех его творений сохранился лишь этот единственный список одной
комедии.
Анджела посмотрела на Алана, прочла ответ в его глазах и кивнула. Они
должны увезти эту книгу из Варны. Во что бы то ни стало.
Теперь уже ясно, что монахи не подарят им этой рукописи, не продадут ее
и даже не позволят переписать. Эта веселая насмешливая комедия казалась им
греховной и кощунственной.
Пока настоятель Иоанн жив, рукопись будет лежать в библиотеке, если
только ее страницы не выскребут.
Когда же настоятель умрет -- а он очень дряхл и может умереть в любой
день, -- его преемником, несомненно, станет отец Димитрий, и тогда Алексид
вместе со всеми другими древними авторами будет предан огню.
-- Нам придется украсть рукопись, -- сказал Алан.
-- Это не кража. Воры не мы, а монахи. Они хотят ограбить мир, лишить
его замечательной книги.
-- И ограбить Алексида, лишить его славы и бессмертия, которые он
заслужил.
Успокоив свою совесть такими рассуждениями, они уселись друг против
друга за пыльным столом и принялись переписывать жития святых, обсуждая свои
дальнейшие планы. Работа была скучная, но нетрудная и не требовала
сосредоточенности.
Они решили, что уйти немедленно нельзя. Это могло вызвать подозрения, и
тогда за ними послали бы погоню. Да и отдых им не повредит -- ноги Анджелы
заживут, а кроме того, можно будет накопить немножко припасов на дорогу,
съедая не весь хлеб, который им дают.
Им очень не хотелось оставлять Алексида в библиотеке. Они, конечно,
понимали, что за один день ничего с ним не случится, и все-таки чего-то
опасались.
-- А кроме того, -- сказала Анджела, -- раз нам не доверили ключ от
библиотеки, кто знает, удастся ли нам сюда проникнуть, когда настанет время
забрать рукопись.
-- Но если мы возьмем ее сейчас, нам некуда будет ее спрятать. Весьма
возможно, что кто-нибудь из монахов решит заглянуть в наши сумки.
-- Придумала! -- Анджела указала на окно. -- Если я влезу к тебе на
плечи, то смогу дотянуться до окошка и сунуть книгу в нишу. Стекла тут нет,
и мы сможем забрать ее с той стороны, когда во дворе никого не будет.
-- Прекрасно. Так и сделаем.
С этими словами Алан уперся руками в стену, и девушка не без труда
взобралась к нему на плечи.
-- Ну вот, -- сказала она шепотом, спрыгивая на пол и вытирая
запачканные руки. -- А теперь давай скорее переписывать, чтобы нам было что
показать.
Часа два они усердно работали, а затем раздался унылый звон колокола.
-- Будем надеяться, что он созывает монахов к обеду, -- заметил Алан.
-- Слышишь -- кто-то отпирает дверь.
Однако заглянувший в библиотеку монах пришел позвать их в часовню. На
этой службе, объяснил он, обязательно должны присутствовать и монахи и гости
монастыря.
-- Все пропало! -- вдруг растерянно прошептала Анджела, когда они
подошли к часовне.
-- Что случилось? -- с тревогой спросил Алан.
-- Мои волосы! Ведь в часовне мне придется снять шляпу!
-- Авось в полутьме никто не заметит. Да и у монахов они тоже по самые
плечи.
Но, хотя в часовне царил полумрак, а волосы монахов были достаточно
длинны, все же рядом с короткими белокурыми кудрями англичанина рыжая грива
Анджелы сразу бросалась в глаза.
Когда служба кончилась, у дверей часовни их остановил отец Димитрий.
-- Ты носишь волосы длинными, словно женщина, -- сказал он грубо.
Анджела спокойно посмотрела ему прямо в глаза.
-- Я дал обет, -- сказала она, -- не стричься, пока не вернусь из
своего паломничества.
Хмурые морщины на лбу монаха разгладились.
-- Ну, если это не суетность, мальчик, то ничего, -- сказал он почти
ласково.
Однако когда они пошли к трапезной, он продолжал задумчиво смотреть им
вслед.
После обеда им пришлось опять работать в библиотеке до самой темноты.
Только после ужина и вечерни они, наконец, получили возможность побродить по
монастырю.
-- И все-таки это кража, -- сказал Алан, которого вновь начала мучить
совесть. -- Может быть, попробуем задержаться здесь подольше и переписать
комедию?
Анджела решительно мотнула головой.
-- Это не годится. Нам нужна сама рукопись. Иначе могут сказать, что мы
подделали комедию, что ее сочинил вовсе не Алексид, а мы сами.
Алан иронически усмехнулся.
-- Эх, если бы я и правда умел писать вот так!
Они успели только наскоро перелистать страницы, но и этого было
достаточно, чтобы убедиться, что перед ними настоящий шедевр, достойный
сравнения с лучшими комедиями Аристофана.
-- И все-таки рукописи подделываются, -- объяснила Анджела. -- Поэтому
венецианское правительство поручило особому цензору наблюдать за печатанием
латинских и греческих книг.
Разговаривая, они спустились к озеру, чтобы насладиться прохладным
ветерком, дувшим с гор. Догорел еще один великолепный закат, и сгустились
сумерки. Кругом царила глубокая тишина, и каждый звук далеко разносился в
горном воздухе. Вот почему им удалось расслышать беседу отца Димитрия с
другим монахом, которые остановились у парапета высоко, над ними. Они как
раз подошли к вырубленным в скале ступенькам, когда до них донесся знакомый
грубый голос отца эконома:
-- Я и сам так подумал сегодня утром, брат Григорий. Но как ты
догадался?
-- Я подслушивал у дверей библиотеки, брат...
Алан вздрогнул и схватил Анджелу за локоть. Окаменев, они затаили
дыхание.
-- И о чем же они разговаривали?
-- Я не разобрал. Дверь ведь толстая, а они шептались и только иногда
говорили громче. Но один называл другого "Анджела".
. -- А ты не ослышался? "Анджело"... "Анджела"... Почти никакой
разницы.
-- Но ведь он ставил слова в женском роде! Тут ошибки быть не может:
один из них на самом деле девушка, и мы допустили в стены монастыря женщину!
Да если настоятель об этом узнает, он умрет от ужаса!
Отец Димитрий позволил себе хихикнуть.
-- Ну так постараемся, чтобы он об этом узнал. Место в раю, уготованное
нашему достопочтенному настоятелю, уже заждалось его.
Несколько секунд они молчали, а потом второй монах сказал:
-- Когда ты будешь настоятелем, ты... ты вспомнишь про мою дружбу?
-- Я не забуду никого из моих друзей. И из моих врагов.
-- А что сделать с этой девчонкой?
-- Сегодня ничего. Запомни -- никому ни слова! А утром проводи их не в
библиотеку, а к настоятелю. Я обличу их в его присутствии. Если старик
выдержит и такое волнение, значит, на него вообще смерти нет!
-- Ты очень умен, Димитрий. А как ты поступишь со школярами?
-- Как? Прикажу выдрать этих бродяжек плетьми и вышвырнуть их за
ворота.
Необходимо было действовать решительно.
Как только монахи отошли от парапета, Анджела и Алан бросились в свою
каморку за сумками и сунули в них несколько кусков хлеба, который сумели
спрятать за обедом и ужином. Затем они крадучись пробрались к наружной стене
библиотеки -- к этому времени уже совсем стемнело и можно было не опасаться,
что их заметят.
Высоко над их головами смутно чернели три маленьких окна.
-- Она в среднем, -- шепнула Анджела.
Алан, твердо упершись ногами в землю, пригнулся и, когда она взобралась
к нему на плечи, стал медленно выпрямляться.
Анджела испуганно ахнула.
-- Что случилось? -- шепнул он.
-- С этой стороны стена гораздо выше!
-- Попробуй дотянуться.
-- Сейчас.
Алан закусил губу, потому что нога Анджелы больно нажала на его плечо.
-- Побыстрей, -- умоляюще проговорил он. -- Я тебя долго не удержу.
-- Я ее трогаю пальцами... Вот... Ай!
С приглушенным стоном она сорвалась на землю. Алан, потеряв равновесие,
тоже упал, и оба больно ушиблись. При этом они наделали довольно много шума,
но во двор никто не вышел. Анджела первая вскочила на ноги и помогла встать
юноше.
-- Все в порядке! -- воскликнула она с торжеством. -- Рукопись у меня.
Алан так обрадовался, что совсем забыл про ушибы. Он сунул книгу за
пазуху, ощутив приятный холодок кожаного переплета, и они, прячась в тени,
направились к воротам.
Однако привратник, который накануне так неохотно впустил молодых людей
в монастырь, на этот раз не проявил никакого желания выпустить их.
-- Час уже поздний, -- проворчал он. -- Монастырские правила запрещают.
-- Но ведь еще не совсем стемнело! -- в отчаянии попробовал убедить его
Алан.
-- Какая разница! Еще и десяти минут не прошло, как мне передали приказ
настоятеля никого из монастыря не выпускать.
Итак, отец Димитрий принял меры предосторожности! Алан взглянул на
старика привратника, на ключи, болтавшиеся у его пояса... Но из сторожки
доносились голоса: значит, сегодня он не один. К нему на помощь сразу
бросятся по меньшей мере двое. А ведь далеко не все монахи -- дряхлые
старики.
-- Ну что ж, -- сказал он, пожав плечами.
И они вновь направились к монастырю по извилистой тропе, тщательно
выбирая, куда поставить ногу, потому что оба хорошо помнили пропасти,
которые видели здесь днем.
-- Мы пропали, -- сказала Анджела. -- Этот монастырь -- неприступная
крепость. С такого обрыва не спустишься, разве что... Послушай, а не
попробовать ли нам поискать веревку и...
-- Для этого потребуется очень длинная веревка, да и не одна -- ведь их
же придется привязывать.
-- А если отрезать веревку от колокола в часовне?
-- Они запирают часовню.
-- Но ведь у них же есть колодец, а уж там наверняка найдется
веревка...
-- Нет, они носят воду из озера в бурдюках.
Следовательно, не было никакой надежды раздобыть веревку достаточной
длины, чтобы спуститься хотя бы до первого уступа. Да и во всяком случае,
как заметил Алан, предпринять подобный спуск в темноте было равносильно
самоубийству. -- Мы пропали, -- в отчаянии повторила Анджела. Они вернулись
в свою темную каморку и сидели там, переговариваясь шепотом. Положение
казалось безвыходным.
-- Прошу прощения, отец, -- сказал он робко, -- но разве не жаль
подчищать эти старые книги?
-- Жаль? -- крикнул монах, и темные сумрачные глаза под густыми бровями
внезапно вспыхнули гневным огнем. -- Эти книги полны языческой гнусности, в
них прославляются суетные мирские радости и дьяволы и дьяволицы, которых они
называли богами!
-- Это так, отец, и все-таки... -- нерешительно начал Алан, чувствуя,
что он все же должен сначала попытаться честно купить рукопись Алексида,
если только монахи согласятся ее продать. Но ни в коем случае нельзя
показывать, как она ему нужна. -- В Венеции есть много людей, которые охотно
заплатили бы за эти книги большие деньги. И на них ты купил бы втрое больше
пергамента, совсем нового и чистого...
Он не договорил. Монах ужа не мог больше сдерживать свое бешенство.
-- Мерзостные мысли! Позволить языческой нечисти отравлять людские
души! В Варне эти книги хоть не приносят вреда. Будь моя воля, они завтра же
пошли бы на растопку. Но старик настоятель трясется над всяким хламом.
-- Да, он очень стар, -- задумчиво произнесла Анджела.
-- Очень! -- Монах повернулся к ней, и гнев в его глазах сменился
злобной радостью. -- Ему уже недолго жить. А когда он умрет и будет избран
его преемник, в Варне многое переменится. И для начала вся эта языческая
мерзость полетит в кухонную печь. -- Он указал на полки, но вдруг
спохватился, что наговорил лишнего, и, сухо объяснив им, что они должны
делать, вышел из библиотеки. Они услышали, как в замке повернулся ключ. Их
заперли!
-- Давай искать, -- взволнованно шепнула Анджела. Вне себя от
радостного возбуждения, они бросились к полкам, на которых была небрежно
навалена "языческая мерзость". Там царил полный хаос. Очень скверная копия
"Илиады" соседствовала с посредственными греческими и латинскими авторами,
которые жили через несколько столетий после конца золотого века античной
литературы. Было нетрудно догадаться, что все книги, кроме тех, которые
имели отношение к христианской религии, здесь просто свалили в кучу, как
языческие и нечестивые. Анджела, выросшая в доме книгопечатника, знала все
эти произведения. Среди них не было ни одной редкой или ценной книги. Все
они уже были известны в Венеции. Многие были напечатаны, а гораздо лучшие
копии остальных имелись в разных библиотеках Европы.
-- Ее тут нет. -- Анджела чуть не плакала от горького разочарования.
-- Погоди-ка, а это что?
Алан пошарил в глубине полки, куда завалилось несколько книг поменьше.
Одну за другой он извлекал их на свет -- покрытые паутиной, в пятнах
плесени.
-- Смотри! -- Он лишь с трупом удержался от ликующего вопля, который
был бы услышан и за этими толстыми стенами.
Вместе они прочли вслух заголовок, начертанный тонкими выцветшими
линиями: "Овод" Алексида, сына Леона"...
Это была упоительная минута. Они держали в руках маленький,
переплетенный в кожу пергаментный томик, ради которого Алан пересек Европу.
В этой книге, тоже насчитывавшей несколько веков, жило неувядаемое творение
Алексида -- комедия, которая вызвала смех и рукоплескания двадцати тысяч
зрителей, некогда заполнивших обширный афинский амфитеатр, и получила первую
награду на весеннем театральном состязании за четыреста лет до нашей эры.
Почти две тысячи лет прошло с тех пор, как сам Алексид превратился в
прах. Из всех его творений сохранился лишь этот единственный список одной
комедии.
Анджела посмотрела на Алана, прочла ответ в его глазах и кивнула. Они
должны увезти эту книгу из Варны. Во что бы то ни стало.
Теперь уже ясно, что монахи не подарят им этой рукописи, не продадут ее
и даже не позволят переписать. Эта веселая насмешливая комедия казалась им
греховной и кощунственной.
Пока настоятель Иоанн жив, рукопись будет лежать в библиотеке, если
только ее страницы не выскребут.
Когда же настоятель умрет -- а он очень дряхл и может умереть в любой
день, -- его преемником, несомненно, станет отец Димитрий, и тогда Алексид
вместе со всеми другими древними авторами будет предан огню.
-- Нам придется украсть рукопись, -- сказал Алан.
-- Это не кража. Воры не мы, а монахи. Они хотят ограбить мир, лишить
его замечательной книги.
-- И ограбить Алексида, лишить его славы и бессмертия, которые он
заслужил.
Успокоив свою совесть такими рассуждениями, они уселись друг против
друга за пыльным столом и принялись переписывать жития святых, обсуждая свои
дальнейшие планы. Работа была скучная, но нетрудная и не требовала
сосредоточенности.
Они решили, что уйти немедленно нельзя. Это могло вызвать подозрения, и
тогда за ними послали бы погоню. Да и отдых им не повредит -- ноги Анджелы
заживут, а кроме того, можно будет накопить немножко припасов на дорогу,
съедая не весь хлеб, который им дают.
Им очень не хотелось оставлять Алексида в библиотеке. Они, конечно,
понимали, что за один день ничего с ним не случится, и все-таки чего-то
опасались.
-- А кроме того, -- сказала Анджела, -- раз нам не доверили ключ от
библиотеки, кто знает, удастся ли нам сюда проникнуть, когда настанет время
забрать рукопись.
-- Но если мы возьмем ее сейчас, нам некуда будет ее спрятать. Весьма
возможно, что кто-нибудь из монахов решит заглянуть в наши сумки.
-- Придумала! -- Анджела указала на окно. -- Если я влезу к тебе на
плечи, то смогу дотянуться до окошка и сунуть книгу в нишу. Стекла тут нет,
и мы сможем забрать ее с той стороны, когда во дворе никого не будет.
-- Прекрасно. Так и сделаем.
С этими словами Алан уперся руками в стену, и девушка не без труда
взобралась к нему на плечи.
-- Ну вот, -- сказала она шепотом, спрыгивая на пол и вытирая
запачканные руки. -- А теперь давай скорее переписывать, чтобы нам было что
показать.
Часа два они усердно работали, а затем раздался унылый звон колокола.
-- Будем надеяться, что он созывает монахов к обеду, -- заметил Алан.
-- Слышишь -- кто-то отпирает дверь.
Однако заглянувший в библиотеку монах пришел позвать их в часовню. На
этой службе, объяснил он, обязательно должны присутствовать и монахи и гости
монастыря.
-- Все пропало! -- вдруг растерянно прошептала Анджела, когда они
подошли к часовне.
-- Что случилось? -- с тревогой спросил Алан.
-- Мои волосы! Ведь в часовне мне придется снять шляпу!
-- Авось в полутьме никто не заметит. Да и у монахов они тоже по самые
плечи.
Но, хотя в часовне царил полумрак, а волосы монахов были достаточно
длинны, все же рядом с короткими белокурыми кудрями англичанина рыжая грива
Анджелы сразу бросалась в глаза.
Когда служба кончилась, у дверей часовни их остановил отец Димитрий.
-- Ты носишь волосы длинными, словно женщина, -- сказал он грубо.
Анджела спокойно посмотрела ему прямо в глаза.
-- Я дал обет, -- сказала она, -- не стричься, пока не вернусь из
своего паломничества.
Хмурые морщины на лбу монаха разгладились.
-- Ну, если это не суетность, мальчик, то ничего, -- сказал он почти
ласково.
Однако когда они пошли к трапезной, он продолжал задумчиво смотреть им
вслед.
После обеда им пришлось опять работать в библиотеке до самой темноты.
Только после ужина и вечерни они, наконец, получили возможность побродить по
монастырю.
-- И все-таки это кража, -- сказал Алан, которого вновь начала мучить
совесть. -- Может быть, попробуем задержаться здесь подольше и переписать
комедию?
Анджела решительно мотнула головой.
-- Это не годится. Нам нужна сама рукопись. Иначе могут сказать, что мы
подделали комедию, что ее сочинил вовсе не Алексид, а мы сами.
Алан иронически усмехнулся.
-- Эх, если бы я и правда умел писать вот так!
Они успели только наскоро перелистать страницы, но и этого было
достаточно, чтобы убедиться, что перед ними настоящий шедевр, достойный
сравнения с лучшими комедиями Аристофана.
-- И все-таки рукописи подделываются, -- объяснила Анджела. -- Поэтому
венецианское правительство поручило особому цензору наблюдать за печатанием
латинских и греческих книг.
Разговаривая, они спустились к озеру, чтобы насладиться прохладным
ветерком, дувшим с гор. Догорел еще один великолепный закат, и сгустились
сумерки. Кругом царила глубокая тишина, и каждый звук далеко разносился в
горном воздухе. Вот почему им удалось расслышать беседу отца Димитрия с
другим монахом, которые остановились у парапета высоко, над ними. Они как
раз подошли к вырубленным в скале ступенькам, когда до них донесся знакомый
грубый голос отца эконома:
-- Я и сам так подумал сегодня утром, брат Григорий. Но как ты
догадался?
-- Я подслушивал у дверей библиотеки, брат...
Алан вздрогнул и схватил Анджелу за локоть. Окаменев, они затаили
дыхание.
-- И о чем же они разговаривали?
-- Я не разобрал. Дверь ведь толстая, а они шептались и только иногда
говорили громче. Но один называл другого "Анджела".
. -- А ты не ослышался? "Анджело"... "Анджела"... Почти никакой
разницы.
-- Но ведь он ставил слова в женском роде! Тут ошибки быть не может:
один из них на самом деле девушка, и мы допустили в стены монастыря женщину!
Да если настоятель об этом узнает, он умрет от ужаса!
Отец Димитрий позволил себе хихикнуть.
-- Ну так постараемся, чтобы он об этом узнал. Место в раю, уготованное
нашему достопочтенному настоятелю, уже заждалось его.
Несколько секунд они молчали, а потом второй монах сказал:
-- Когда ты будешь настоятелем, ты... ты вспомнишь про мою дружбу?
-- Я не забуду никого из моих друзей. И из моих врагов.
-- А что сделать с этой девчонкой?
-- Сегодня ничего. Запомни -- никому ни слова! А утром проводи их не в
библиотеку, а к настоятелю. Я обличу их в его присутствии. Если старик
выдержит и такое волнение, значит, на него вообще смерти нет!
-- Ты очень умен, Димитрий. А как ты поступишь со школярами?
-- Как? Прикажу выдрать этих бродяжек плетьми и вышвырнуть их за
ворота.
Необходимо было действовать решительно.
Как только монахи отошли от парапета, Анджела и Алан бросились в свою
каморку за сумками и сунули в них несколько кусков хлеба, который сумели
спрятать за обедом и ужином. Затем они крадучись пробрались к наружной стене
библиотеки -- к этому времени уже совсем стемнело и можно было не опасаться,
что их заметят.
Высоко над их головами смутно чернели три маленьких окна.
-- Она в среднем, -- шепнула Анджела.
Алан, твердо упершись ногами в землю, пригнулся и, когда она взобралась
к нему на плечи, стал медленно выпрямляться.
Анджела испуганно ахнула.
-- Что случилось? -- шепнул он.
-- С этой стороны стена гораздо выше!
-- Попробуй дотянуться.
-- Сейчас.
Алан закусил губу, потому что нога Анджелы больно нажала на его плечо.
-- Побыстрей, -- умоляюще проговорил он. -- Я тебя долго не удержу.
-- Я ее трогаю пальцами... Вот... Ай!
С приглушенным стоном она сорвалась на землю. Алан, потеряв равновесие,
тоже упал, и оба больно ушиблись. При этом они наделали довольно много шума,
но во двор никто не вышел. Анджела первая вскочила на ноги и помогла встать
юноше.
-- Все в порядке! -- воскликнула она с торжеством. -- Рукопись у меня.
Алан так обрадовался, что совсем забыл про ушибы. Он сунул книгу за
пазуху, ощутив приятный холодок кожаного переплета, и они, прячась в тени,
направились к воротам.
Однако привратник, который накануне так неохотно впустил молодых людей
в монастырь, на этот раз не проявил никакого желания выпустить их.
-- Час уже поздний, -- проворчал он. -- Монастырские правила запрещают.
-- Но ведь еще не совсем стемнело! -- в отчаянии попробовал убедить его
Алан.
-- Какая разница! Еще и десяти минут не прошло, как мне передали приказ
настоятеля никого из монастыря не выпускать.
Итак, отец Димитрий принял меры предосторожности! Алан взглянул на
старика привратника, на ключи, болтавшиеся у его пояса... Но из сторожки
доносились голоса: значит, сегодня он не один. К нему на помощь сразу
бросятся по меньшей мере двое. А ведь далеко не все монахи -- дряхлые
старики.
-- Ну что ж, -- сказал он, пожав плечами.
И они вновь направились к монастырю по извилистой тропе, тщательно
выбирая, куда поставить ногу, потому что оба хорошо помнили пропасти,
которые видели здесь днем.
-- Мы пропали, -- сказала Анджела. -- Этот монастырь -- неприступная
крепость. С такого обрыва не спустишься, разве что... Послушай, а не
попробовать ли нам поискать веревку и...
-- Для этого потребуется очень длинная веревка, да и не одна -- ведь их
же придется привязывать.
-- А если отрезать веревку от колокола в часовне?
-- Они запирают часовню.
-- Но ведь у них же есть колодец, а уж там наверняка найдется
веревка...
-- Нет, они носят воду из озера в бурдюках.
Следовательно, не было никакой надежды раздобыть веревку достаточной
длины, чтобы спуститься хотя бы до первого уступа. Да и во всяком случае,
как заметил Алан, предпринять подобный спуск в темноте было равносильно
самоубийству. -- Мы пропали, -- в отчаянии повторила Анджела. Они вернулись
в свою темную каморку и сидели там, переговариваясь шепотом. Положение
казалось безвыходным.
Глава семнадцатая. ЧЕРНЫЕ ГЛУБИНЫ ВАРНЫ
-- Мы кое о чем забыли! -- внезапно воскликнул Алан.
-- О чем же?
-- Ведь с утеса есть еще один спуск -- лестница, ведущая к озеру.
В смутном свете лампадки он увидел, что Анджела недоуменно сдвинула
брови.
-- Но ведь это же тупик. Лодок здесь нет. Да и все равно тут к берегу
нигде не пристанешь.
-- Ах да, я и забыл, -- с досадой сказал Алан. -- Ты ведь плохо
плаваешь.
-- Я не нарочно, -- грустно прошептала Анджела и, помолчав, спросила:
-- Ну, а куда же отсюда можно было бы поплыть... если бы я умела? Ведь озеро
окружают обрывы.
-- Ну, все-таки, наверное, где-то можно выбраться на берег. Уж два-то
места найдутся непременно: там, где речка вытекает из озера...
-- Ну конечно. -- Анджеле стало стыдно, что она сама этого не
сообразила.
Но Алан, не слушая ее, продолжал:
-- Однако это уж на самый крайний случай. Течение в речке бешеное,
берега крутые, и вся она усеяна камнями. Если тебя туда затянет, ты не
выплывешь.
Анджела вспомнила, как кипела вода под их ногами, когда они шли по
шаткому мостику к утесу, и вздрогнула.
-- А где второе место? -- спросила она.
-- Если из озера вытекает река, -- терпеливо объяснил Алан, -- то,
значит, почти наверное она где-то в него впадает -- в верхнем его конце.
Только там она, скорее всего, гораздо меньше -- просто ручей. И все-таки он
должен был прорыть в склоне расселину, по которой можно будет подняться.
-- Но ведь ты сам говорил, что до того конца озера не меньше трех миль.
Разве ты сумеешь столько проплыть?
-- Я-то проплыл бы, но раз ты не можешь, так о чем говорить?
Анджела задумалась, а потом сказала решительно:
-- В таком случае ты должен выбраться отсюда один, чтобы спасти
Алексида.
-- Не говори глупостей. В любом случае, -- добавил он, не желая, чтобы
она мучилась от мысли, что все погубило ее неумение плавать, -- даже если я
и доплыву, вода безнадежно испортит рукопись.
-- Ну, ее-то мы как-нибудь защитим от воды.
-- Каким же образом?
-- Знаю! Возьмем один из бурдюков, в которых монахи держат воду и вино.
-- Но ведь отверстие такое узкое, что книга сквозь него не пройдет.
-- Дурачок! Их же в свое время сшивали. Ведь так? Я подпорю шов и...
-- Но право же... -- перебил он и умолк, не зная, какое еще возражение
придумать. Ой прекрасно знал, что у нее в сумке есть иголки и нитки, а
сослаться на то, что бурдюк станет пропускать воду, было нельзя: раз в них
хранят воду, из этого следует, что они должны и предохранять от воды.
План Анджелы был вполне выполним, а перед кухней лежала целая груда
пустых бурдюков. Однако не может же он бежать с рукописью, оставив Анджелу
на расправу отцу Димитрию.
-- Я не согласен... -- начал он.
Но Анджела тут жо его перебила:
-- Я придумала еще лучше.
-- Без тебя я отсюда не уйду.
-- А мы уйдем вместе. Ты помнишь, как мы переправлялись через реку по
дороге в Рагузу? Брода не было, и мы переплыли на надутых бурдюках.
-- Анджела!
-- Анджело!
-- Ну не все ли равно теперь! Пожалуй, это может получиться. Только вот
сумеешь ли ты плыть на бурдюке? Ведь нас будет относить течением.
-- Как-нибудь сумею. Далековато, конечно, но ведь мне не обязательно
плыть быстро. Правда?
Алан взволнованно вскочил на ноги. Конечно, это был опасный план, но
ведь и все их путешествие было опасным. А кроме того, у них не оставалось
другого выхода: если они не выберутся из монастыря, утром их ждет позор,
побои -- и уж во всяком случае они лишатся Алексида.
А в их распоряжении была еще целая ночь. Да и вообще нужно только
отплыть от берега. У монахов нет лодки, и пуститься за ними в погоню они не
смогут. Если Анджела устанет, она отдохнет, да и он будет ей помогать. Нет,
они, конечно, сумеют переплыть озеро.
Ну, а потом? Что скрывается за угрюмой стеной гор, окружающих Варну?
Ничего страшного. В худшем случае -- такой же дикий край, как тот, через
который они уже проходили. А к северу, за нагорьем и дальним хребтом,
несомненно, лежит дорога из Константинополя в Рагузу.
-- Стоит попробовать, -- сказал он, -- если ты согласна.
-- Я согласна.
-- Тогда погоди здесь, а я схожу за бурдюками.
Он на цыпочках выскользнул во двор. Ночь была темная, луна пряталась за
тучами, и только на краю неба мерцали звезды. Монастырь был погружен в
безмолвие: монахи старались хоть немного выспаться перед первой заутреней.
Алан никого не встретил и через пять минут уже вернулся к Анджеле с двумя
бурдюками.
-- Дай мне Алексида, -- сказала она. И, вытащив нож, отмерила по шву
нужную длину и распорола его так, чтобы книгу можно было просунуть внутрь.
-- Надо скорее зашить, пока не погасла лампада.
-- Ну, не вышивать же ты собралась.
-- Вышивать не вышивать, но он не должен пропускать воды. А ты пока
надувай второй бурдюк.
Алан тоже решил плыть на бурдюке: три мили -- это все-таки три мили.
Ну, а если окажется, что бурдюк -- только помеха, его всегда можно будет
бросить.
Однако надуть бурдюк было не так-то просто. В детстве Алан купался с
надутыми бычьими пузырями, но то было совсем другое дело. Когда, наконец,
он, совсем измучившись, перевел дух и крепко перевязал отверстие, оказалось,
что бурдюк надут меньше чем наполовину.
-- А может быть, попробовать с двумя? -- спросила Анджела. -- То есть с
двумя на каждого.
-- Пожалуй, -- обрадовано сказал Алан. -- Мы привяжем их по бокам к
поясу. Это будет даже удобнее, чем лежать грудью на одном бурдюке. Легче
будет загребать руками.
Он осторожно вышел и вскоре вернулся с двумя новыми бурдюками. Анджела
как раз затянула последний узелок -- и вовремя, потому что лампада уже
мигала. Однако при этом мерцающем свете они успели закончить свои
приготовления и привязать к поясу надутые бурдюки. Тот, который висел на
левом боку Анджелы, хранил драгоценную рукопись.
Они направились к двери, но тут, нарушая тишину ночи, зазвонил
надтреснутый монастырский колокол.
-- Что это? -- испуганно спросила Анджела. Они услышали, как стали
распахиваться двери келий и по коридорам застучали сандалии. -- Вдруг
кто-нибудь поднял тревогу?
-- Ничего, -- успокоил ее Алан. -- Они идут в часовню молиться. Пойдем
и мы. Сейчас они нас не услышат.
Взяв Анджелу за руку, он вывел ее за дверь. Кое-где мелькали тусклые
огоньки свечей -- это монахи торопились в часовню. Но этот слабый свет не
рассеивал тьму, а только наполнял двор причудливыми тенями, так что беглецов
никто не заметил.
Когда они добрались до лестницы в скале, из-за туч, словно для того
чтобы помочь им, выглянула луна -- узенький серп, который, казалось, рассек
облака на косматые лохмотья. По озеру побежала золотая дорожка, но от этого
остальная вода стала только еще более черной. Анджела вздрогнула.
-- Бр-р-р!.. Какой у нее холодный вид.
-- Да она и должна быть холодной.
-- Но ведь мы добыли то, ради чего явились сюда. А все остальное --
пустяки.
Пока они пробирались по заросшей камышами отмели, где нагревшаяся за
день вода не успела остыть, все было хорошо, но когда они поплыли, у них
перехватило дыхание -- вода тут была ледяной, потому что озеро питали
подземные ключи.
-- Держись поближе ко мне, -- с трудом выговорил Алан, -- и скажи, если
начнешь отставать.
Он неторопливо и уверенно поплыл к смутной вершине у дальнего конца
озера. Через несколько минут он оглянулся и посмотрел на монастырь. Месяц
бросал неверный свет на стены, венчавшие утес, а позади них неслись рваные
облака.
Потом черная и зловещая тень, словно крыло какой-то гигантской птицы,
быстро надвинулась на Варну, и монастырь погрузился в непроницаемый мрак.
Больше Алан ничего не видел. Тучи совсем затянули луну. Беглецов окружала
непроглядная тьма, так что даже воздух и воду они могли различать только на
ощупь.
-- Ну, как у тебя дела?
Они уже давно не переговаривались, и теперь голос Анджелы, донесшийся
из темноты, звучал как-то странно.
-- Ничего. Мы хоть половину проплыли?
-- Вряд ли. Нас относило течением. Вот почему я и свернул влево. Ты
заметила? Плыть придется дальше, но зато под обрывами вода неподвижна.
Несколько минут они отдыхали. Пока они плыли, они было согрелись, но
теперь им снова стало холодно.
-- Что это? -- спросила Анджела.
-- Гром.
Алан лежал неподвижно, опираясь на бурдюки и радуясь минутной
передышке. Но тут в разрыве между двумя вершинами, словно какое-то сказочное
растение, вспыхнула ветвистая молния, и на мгновение все вокруг залил
ослепительный голубовато-серебристый свет. Затем раздался гром -- на этот
раз не отдаленный рокот, а оглушительный удар, который подхватило эхо,
заметавшееся над озером между обрывами.
-- Поплыли, -- сказал Алан, когда замер последний раскат. -- В этих
горах разражаются внезапные бури. На озере может подняться волнение. -- Он
старался говорить спокойно.
Новый удар грома заглушил ответ Анджелы, но по плеску воды слева он
понял, что девушка поплыла вперед. Эхо еще не успело умолкнуть, как раздался
новый звук -- шорох сильного ливня. Над водой застонал и засвистел ветер.
Когда они только пускались в путь, по небу бешено неслись облака, но в
долине было совсем тихо. Теперь ветер налетал порывами, полный злобного
коварства. В лицо Алана летели брызги. Впереди, во мраке, замелькали белые
гребни. Плыть становилось все труднее, надутые бурдюки только мешали, и Алан
с тревогой окликнул Анджелу.
-- Я ничего, -- отозвалась она, перекрикивая шум ветра и дождя.
-- Бери левее, к самому обрыву, там будет тише.
Он надеялся, что там будет тише. Там должно было быть тише. Но пока он
не замечал никакой разницы. Озеро, все исчерченное пенными полосами,
закипало, словно черный котел ведьмы.
-- Как страшно! -- задыхаясь, пробормотала Анджела, которая плыла
теперь совсем рядом с ним. -- Около тебя мне легче, а будь я одна, я бы
насмерть перепугалась.
Алан был рад, что его присутствие ободряет Анджелу. Хорошо, что она не
догадывается, как устал и как боится он сам. Правда, ему не в первый раз
грозила опасность утонуть. Дважды он едва успевал выбраться из разлившихся
йоркширских речек, а один раз, нырнув в спокойные воды Кэм, чуть было не
остался на дне, запутавшись в водорослях. Но тогда ведь спасительный берег
был совсем близко!
-- Но мы ведь не можем утонуть, правда? -- спросила Анджела.
Да, утонуть они не могли, пока в привязанных к их поясам бурдюках
оставался воздух. Однако, если волнение разыграется всерьез, а у них не
хватит сил держать головы высоко над водой, они все равно захлебнутся. Он
ведь и так уже успел наглотаться воды. Если усталость возьмет верх, то на
заре по озеру будут плавать только их трупы. Для того чтобы стать
утопленником, вовсе не обязательно пойти на дно.
-- Поменьше открывай рот, -- грубо приказал он Анджеле.
Гром теперь удалялся и глухо рокотал среди дальних хребтов. Вой ветра
все чаще спадал. Из расступившихся туч выглянул месяц и осветил серую завесу
дождя, которая тут же рассеялась. Однако по озеру по-прежнему бежали
курчавые волны.
-- Я немножко устала, -- сказала Анджела тихо.
-- Плыви не останавливаясь, -- умоляюще настаивал Алан. -- Озеро сейчас
успокоится. Не торопись, но не останавливайся. Теперь уже близко.
Да-да, наверное, близко. Он снова разглядел вершину верхнего конца
озера. Теперь она загораживала все небо впереди. Значит, действительно
близко... Но разве можно правильно оценить расстояние, когда твои глаза у
самой воды?
Они плыли еще четверть часа. Ветер совсем стих, и волнение тоже почти
улеглось.
-- Слушай, -- сказал Алан. Из темноты доносился новый звук: журчание
бегущей по камням воды. Он почувствовал, что его усталым ногам приходится
преодолевать силу течения. -- Уже совсем близко, -- подбодрил он Анджелу.
-- Очень хорошо. Теперь я немножко отдохну и поплыву дальше.
Однако отдыхать было нельзя. Вода впадавшей в озеро речки была совсем
ледяной, и ее течение чувствовалось уже здесь. Если они перестанут плыть и
их затянет на стрежень, они будут отброшены далеко назад, потому что бурдюки
окажутся теперь только помехой. Анджела ни за что не проплывет еще раз такое
расстояние, да и он сам тоже.
-- Ты не смеешь останавливаться! Плыви! -- яростно приказал он. -- Ведь
иначе...
-- Прости, Алан, я не могу.
Алан знал, что она говорит правду. Его собственные руки и ноги словно
налились свинцом. Ему начинало казаться, что он плывет в полном рыцарском
вооружении. А течение даже за те несколько секунд, пока они
переговаривались, успело отнести их назад ярдов на пятнадцать.
Оставался только один выход. Алан расстегнул пояс, оттолкнул бурдюки и
повернул к Анджеле. Ему сразу стало легче плыть, и он словно обрел новые
силы. Жаль, что Анджелу нельзя освободить от бурдюков. Нет, он должен
вытащить на берег и ее, и Алексида.
-- Перевернись на спину! -- скомандовал он. -- Я тебя потащу.
Ему приходилось бороться отчаянно, потому что Анджела совсем обессилела
и не могла ему помочь. Речка вздулась от недавнего дождя, и течение тащило
его назад. Трижды он пытался нащупать дно, но тщетно. И только на четвертый
раз его нога уперлась в камень.
Две минуты спустя, насквозь мокрые, изнемогая от холода и усталости,
они упали ничком на шуршащую гальку в устье речки.
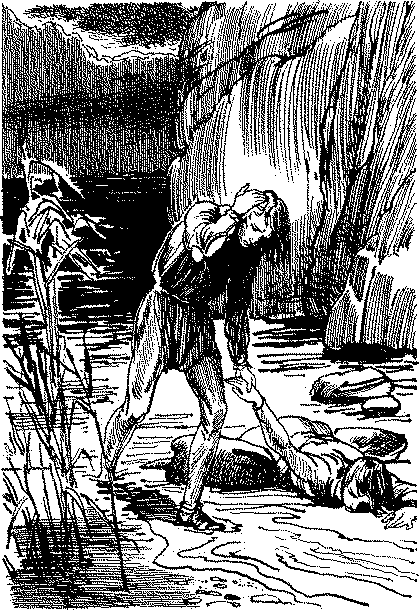
Глава восемнадцатая. ОБРАТНЫЙ ПУТЬ
Как ни странно, первой оправилась и предложила идти дальше Анджела.
Алану же хотелось только одного -- спать. Все его тело мучительно ныло.
Он так и остался бы лежать у воды, если бы Анджела его не растолкала.
-- Ты насмерть простудишься, -- уговаривала она. -- У тебя уже озноб.
Вставай и пойдем.
-- Куда же мы пойдем в такой темноте?
-- Уже начинает светать. А идти нам можно только вверх по речке.
Она была права. Другого пути, кроме этой каменистой расселины, отсюда
не было. А в сероватом свете зари они уже могли различать дорогу.
-- Только сперва поешь, -- сказала Анджела.
-- Хлеб, наверное, совсем размок. Ведь из сумок течет вода.
-- Нет, он цел. Я зашила его вместе с Алексидом.
Она распорола бурдюк и вытащила его содержимое.
-- И почему только я не догадалась уложить в него все наши вещи! -- со
вздохом продолжала девушка. -- Мы могли бы переодеться сейчас в сухое.
Правда, тогда пришлось бы очень долго зашивать шов.
-- Ничего, -- отозвался Алан, с удовольствием грызя хлебную корку. --
Скоро взойдет солнце, и мы согреемся...
Его била такая дрожь, что зуб на зуб не попадал, и Анджела посмотрела
на него с тревогой.
-- Тебя надо напоить чем-нибудь горячим и уложить в сухую постель.
Пойдем поищем какого-нибудь крова.
-- В этих-то горах? -- усмехнулся Алан. -- Нам еще повезет, если мы
хотя бы к вечеру доберемся до какого-нибудь жилья. Но в одном я с тобой
согласен -- чем скорее мы тронемся в путь, тем лучше.
-- Во всяком случае, -- торжествующе сказала Анджела, высоко подняв
рукопись, -- это обратный путь.
Однако Алан, который, спотыкаясь, брел за ней по расселине, никак не
мог поверить, что поручение, которое он получил в Кембридже столько месяцев
назад, теперь, наконец, выполнено. Они отыскали Варну, они добыли комедию
Алексида, и теперь остается только вернуться с ней в Венецию. Сколько раз он
мечтал об этой минуте! Каким счастьем, думал он, переполнится его сердце! Но
теперь, когда она настала, он чувствовал только, что у него отчаянно болит
голова, а мокрая одежда противно липнет к телу.
Зато Анджела была во власти радостного возбуждения. Она удивительно
быстро оправилась после плавания по озеру и теперь взбиралась по склону с
легкостью серны. Алан еле поспевал за ней, но гордость мешала ему попросить
ее идти помедленнее.
Взошло солнце, но лучи его не проникали в сумрачную расселину.
Оглядываясь, молодые люди видели теперь только самый уголок озера,
спокойного и синего под утренним небом. Еще немного, и этот уголок тоже
исчез за гребнем перевала.
-- Вот мы и простились с Варной, -- сказала Анджела.
-- И будем надеяться, что навсегда!
Теперь они простились и с речкой и пошли через нагорье по узенькой
тропке, которую заметила Анджела.
-- Ведь должна же она куда-то вести! -- заявила девушка.
Алан не стал спорить. Если она берет на себя обязанности проводника,
тем лучше. Они свободны, и этого с него довольно. Вот только если бы еще
можно было лечь и уснуть!
Солнце начинало припекать, и от их одежды поднимался пар. Анджела
распустила кудри по плечам, не опасаясь, что в этой горной глуши ее
кто-нибудь увидит. Алан брел за девушкой, с трудом переставляя ноги, и вдруг
заметил, что темная полоска у корней ее волос стала уже совсем широкой. Как
давно они уехали из Венеции!
Он с трудом поднял руку и провел ладонью по подбородку.
До сих пор ему достаточно было бриться раз в неделю -- он начал бриться
всего лишь год назад, да и то больше из мальчишеского самолюбия, чем по
необходимости. Но с тех пор, как он покинул дом Альда, бритва не касалась
его подбородка, и теперь его покрывала настоящая щетина.
Венеция! Дом Альда! Горячая вода, чистые простыни... Сейчас он готов
был отдать за них все сокровища мира. Когда еще ему вновь доведется вымыться
в горячей воде и лечь в чистую постель?
Голос Анджелы заставил его очнуться, и он с испугом понял, что уже
давно идет, словно в бреду, ничего не замечая вокруг.
-- Впереди перевал, -- сказала Анджела. -- Пожалуй, эта тропинка и в
самом деле куда-то ведет.
-- А... э... Извини. Я, наверное, спал на ходу.
-- Вот именно, -- заметила Анджела с упреком. Взглянув туда, куда
указывал ее палец, Алан увидел глубокую зазубрину в стене гор, преграждавших
им путь на север.
-- Может быть, отдохнем несколько минут? -- робко сказал он.
-- Нет, уж лучше пойдем дальше. -- И Анджела засмеялась. -- Ты ведь не
дал мне отдохнуть на озере.
-- И правильно, что не дал, -- ворчал он себе под нос, устало плетясь
за ней.
Но ведь тогда им грозила смерть, а теперь совсем другое дело. Ей-то
хорошо! Шагает как ни в чем не бывало. А он совсем болен.
-- Ну ладно, -- буркнул он. -- До твоего перевала я дойду, но дальше ни
шагу не сделаю, пока не отдохну хорошенько.
Никогда еще он не испытывал к Анджеле такой жгучей ненависти, как в эту
минуту.
До перевала они шли полчаса, но Алану они показались целым днем. К тому
же сбылись и его мрачные предсказания: местность, которую они увидели с
перевала, ничем не отличалась от той, которая лежала за их спиной, -- точно
такое же голое холмистое нагорье. Алан решительно опустился на землю,
разложил сушиться на соседнем камне свою куртку и рубаху и наотрез отказался
сделать еще хоть шаг.
-- Ну пройдем чуть-чуть дальше, -- умоляла Анджела.
-- Нет, я сначала отдохну. Да и куда торопиться?
-- По-моему, вон там хижина.
-- Чепуха! Откуда в этой глуши возьмется хижина?
-- Но послушай, неужели ты не слышишь, как звенят овечьи колокольчики?
-- У меня в ушах не только колокольчики звенят, а и лютни, и вино,
льющееся в стакан, и...
-- Да нет, это же правда! -- не сдавалась Анджела. -- И колокольчики
звенят, и вон там из оврага поднимается дым. Погляди! Вон она -- хижина.
Она схватила Алана за плечо, но его голова тяжело упала на грудь.
-- Оставь меня в покое, -- с досадой проворчал он. -- Неужели ты не
видишь, что я болен?
-- Конечно, вижу, -- совсем другим тоном ответила Анджела. -- Уже давно
вижу. Прости, что я заставляла тебя идти, но ведь если бы ты потерял
сознание, у меня не хватило бы сил тебя тащить.
Алан с трудом поднялся на ноги, не забыв, однако, подобрать свою
одежду.
-- Хорошо, попробую, -- сказал он, стуча зубами.
Все дальнейшее происходило словно во сне. Он смутно вспоминал, как
Анджела помогала ему спускаться по тропе. Он помнил, что на них, рыча,
бросились две собаки -- рыжая и черная с белыми пятнами, и Анджела пыталась
отогнать их камнями, только у нее ничего не получалось. Он помнил темный
вход в хижину и добродушное испуганное лицо старого пастуха, все исчерченное
глубокими морщинами, с белоснежными кустиками бровей.
А потом он уже ничего не помнил, потому что три дня пролежал без
сознания в лихорадке.
... -- Как ты себя чувствуешь, Алан?
В хижине было темно и пахло псиной. Он видел только силуэт склонявшейся
над ним Анджелы, но очень обрадовался, услышав ее голос.
-- Очень есть хочется, -- ответил он, тщетно пытаясь сесть на постели и
удивляясь своей слабости.
-- Я так и думала. Вот выпей молока. Оно, правда, слишком уж жирное. Но
ведь это козье молоко, а коров здесь нет.
Пальцы Алана сомкнулись вокруг деревянной чашки. Он с жадностью
принялся пить горячее молоко.
-- А кто тут живет? -- шепнул он. За последние два месяца он привык
остерегаться любых незнакомых людей. -- А ру... она цела?
-- Конечно, -- успокоила его Анджела. -- А здесь живет только старик
пастух. Он объяснил мне, что проводит здесь по нескольку недель подряд, не
видя ни одной живой души.
-- А что это за человек?
-- Немножечко полоумный, -- ответила Анджела и добавила весело: --
Наверное, и я бы помешалась, если бы мне пришлось столько времени проводить
в одиночестве среди этих диких гор. Но он очень добрый старик. Правда,
ухаживать за больными он не умеет и, глядя на тебя, только всплескивал
руками да что-то бормотал. Так что твоей сиделкой пришлось быть мне. Но зато
он щедро делился со мной своими припасами.
-- А какими? -- с интересом спросил Алан, отдавая ей пустую чашку.
-- Особых деликатесов здесь, конечно, нет. Козье молоко и сыр, да еще
он печет лепешки. Только в них уж очень много золы попадает.
-- Ну, зола -- это ничего... А мяса у него нет?
-- Насколько я поняла, он режет козлят и ягнят только в крайнем случае.
Вчера он угощал меня кроликом, которого поймал в ловушку. Но теперь, раз ты
очнулся, я непременно уговорю его зарезать ягненка.
-- Мы ведь ему заплатим.
Анджела засмеялась.
-- Уж не знаю, видел ли он когда-нибудь деньги. Мне кажется, в здешних
местах они не в ходу.
-- Ну, так отблагодари его чем-нибудь другим, -- не отступал Алан. --
Предложи ему постирать или починить его одежду.
-- Вряд ли его и это прельстит. А кроме того, я ведь тут Анджело -- не
забывай. Но будь спокоен, я что-нибудь придумаю, когда он вернется.
И только когда пастух, наконец, вернулся, Алан понял, что, сам того не
зная, довольно горько пошутил. Одежда на высохшем теле старика уже давно
превратилась в жалкие лохмотья, и достаточно было одного взгляда, чтобы
понять, что и одежда, и тело, которое она прикрывала, соприкасается с водой,
только когда идет дождь или валит снег.
Однако Анджела, которая умела добиваться своего, преуспела и на этот
раз. За ужином они ели барашка, тушенного в горшке вместе с душистыми
травами, собранными возле хижины на холме.
-- Наверное, ты очень скучала эти три дня, -- сказал Алан виновато.
После ужина он почувствовал себя совсем хорошо, хотя по-прежнему был слаб.
-- Почему ты это вообразил? -- поддразнила его Анджела. -- Конечно, я
была лишена удовольствия беседовать с тобой, но зато меня развлекал гораздо
более остроумный молодой человек.
-- Молодой человек? -- с недоумением сказал Алан. -- Но ведь ты же
сказала...
-- Ну, пожалуй, теперь он не так уж молод. Ведь ему не меньше двух
тысяч лет. Но мне кажется, он был немногим старше тебя в те дни, когда писал
"Овода".
-- Ах, так ты, значит, читала Алексида!
-- Разумеется.
-- Завидую! Ты первая прочла эту комедию после стольких веков.
-- Вторым будешь ты, Алан. Завтра утром я усажу тебя на солнышке перед
хижиной и почитаю тебе.
Она сдержала слово. Они провели в хижине еще несколько дней, пока Алан
набирался сил перед дорогой, и за это время успели прочесть комедию не
меньше десяти раз.
И она действительно была хороша. Остроумные шутки, заставлявшие
вспомнить лучшие произведения Аристофана, перемежались строфами хора,
проникнутыми удивительно тонкой красотой.
"Оводом", как они и ожидали, оказался философ Сократ, ибо так его
прозвали в Афинах. Но если великий Аристофан в своей комедии "Облака",
написанной, очевидно, несколько раньше, нападал на Сократа и высмеивал
науку, Алексид написал эту комедию, чтобы защитить своего любимого учителя.
-- Жаль, что мы никогда не сможем с ним познакомиться, -- сказал Алан
грустно. -- Видишь ли, Алексид был одним из нас.
-- Не понимаю.
-- Он вел тот же самый бой во имя знания против невежества, во имя
новых идей против старинных предрассудков и суеверий.
-- Это замечательное произведение. Ради него стоило перенести все, что
мы перенесли.
Когда они покинули хижину, они говорили и думали только о комедии. Они
цитировали ее с утра до ночи и, чтобы скрасить скучную дорогу, нередко
начинали декламировать подряд все понравившиеся им сцены. Два дня спустя они
миновали перевал и вышли на большую константинопольскую дорогу.
Глава девятнадцатая. КОГТИ ЯСТРЕБА
-- Я узнала, что в этом городке сейчас остановился Винченте Чентано, --
сказала Анджела. -- Он возвращается через Рагузу в Венецию.
-- А кто такой этот Винченте Чентано?
-- Почтенный венецианский купец. Я слышала о нем от дяди Альда. С ним
много слуг, и все они хорошо вооружены. Попросим, чтобы он позволил нам
ехать с ним?
Алан охотно согласился на этот план. С него было довольно дорожных
приключений.
-- А вдруг тебя узнают? -- спохватился он. -- Если же ты поедешь, как
синьорина д'Азола, слуги могут проболтаться. А Морелли, наверное, начеку. Он
же прекрасно понимает, что рано или поздно мы поедем обратно, и следит за
дорогой, особенно около Рагузы.
-- Мессер Чентано меня не знает. Я поеду в мужской одежде, и никто
ничего не заподозрит.
В конце концов, сочинив довольно правдоподобную историю, они
отправились в лучшую здешнюю гостиницу, где остановился купец.
Анджела стала теперь Александром, школяром с греческих островов,
желающим найти работу в Италии. Белокурый Алан не мог бы выдать себя за
грека и превратился в Алариха, странствующего печатника из Страсбурга.
Мессер Чентано сразу же согласился принять их под свое покровительство,
зная, что его ученые друзья в Венеции всегда рады новым искусным и обученным
помощникам. Он сделал это тем более охотно, что у молодых людей оставалось
еще достаточно денег, чтобы платить за еду и кров.
Сами же они рассудили, что такому большому отряду не страшны ни
разбойники, ни янычары, а соглядатаи Морелли скорее выследят их, если они
будут путешествовать вдвоем. К тому же даже если им не повезет и их узнают,
Морелли не посмеет напасть на них, пока они будут ехать с купцом.
Мессер Чентано был частым гостем в здешних местах. Он знал все лучшие
гостиницы, и всюду его принимали с большим уважением. Для своих новых
спутников он любезно купил еще двух лошадей, зная, что сможет выгодно их
продать в Рагузе вместе со своими собственными.
Теперь, когда Алан ложился спать, подушкой ему служила комедия
Алексида. Анджела зашила рукопись в подкладку его дорожной сумки -- к тому
времени они уже знали комедию почти наизусть и могли больше в нее не
заглядывать. Если бы Алана заставили вытряхнуть из сумки все вещи и даже
вывернуть ее наизнанку, рукопись все равно не нашли бы. Только старательно
ощупав пустую сумку, взвесив ее на руке, можно было догадаться, что она там.
Они теперь все время были на людях. Как обычно, путешественники спали
по пять-шесть человек в комнате, но почти всегда это были только слуги
Чентано, и их присутствие скорее могло послужить защитой от опасности.
-- Ив конце-то концов, -- заявила Анджела, -- стоит ли так бояться
дряхлого Ястреба? Ведь он -- изгнанник, хоть и герцог, и у него нет тайной
полиции, как, скажем, у Венецианской республики, которая повсюду рассылает
своих шпионов. Вовсе незачем подозревать каждого встречного в том, что он
состоит на жаловании у герцога.
-- Ну хорошо, -- усмехнулся Алан. -- Я постараюсь быть поспокойнее. Но
все равно мне хотелось бы как можно скорее добраться до дома твоего дяди.
-- И мне тоже!
Вскоре Алану пришлось пожалеть, что он решил выдать себя за немца.
Конечно, оставаться англичанином он не мог -- до Морелли наверняка дошел бы
слух о путнике-англичанине. Однако ему следовало бы стать, например,
датчанином: тогда его труднее было бы уличить в незнании "родного" языка. А
теперь, хоть он и не встретив настоящего немца, все же как-то вечером с ним
заговорил по-немецки швейцарец, направлявшийся в Константинополь. Заметив
недоумение Алана, швейцарец перешел на латынь, и он сконфуженно, но с
некоторым облегчением сказал:
-- Прошу прощения. Я не сразу тебя понял.
-- Но ведь мне сказали, что ты немец.
-- Да-да. Но как тебе, должно быть, известно, в различных местностях у
нас говорят по-разному.
-- Это правда, -- сам того не зная, пришел ему на выручку добродушный
Чентано и рассказал длинную и довольно глупую историю о двух немцах -- с
севера и с юга, которым пришлось объясняться знаками.
Об этом происшествии все как будто сразу забыли, но тем не менее Алан
горько жалел, что не выбрал себе более редкой национальности, которая точно
так же подошла бы к его внешности северянина.
Когда до Рагузы оставался только день пути, они остановились на ночлег
в городке, где была большая ярмарка. Все гостиницы были переполнены, но
Чентано тем не менее удалось, как обычно, найти хорошие комнаты для своих
спутников.
-- Хотя спать нам сегодня все равно не дадут, -- заявил он с веселым
смешком. -- Они тут будут праздновать до самой зари.
-- Да и нам не мешает попраздновать, -- заметил его старший приказчик.
-- Ведь завтра мы будем уже ночевать на корабле, плывущем в Венецию.
-- И то правда. К тому же поездка была на редкость удачной. Нам есть
что отпраздновать. Мы и повеселимся.
И они повеселились.
Да и как было удержаться, когда все жители городка и все приезжие пили,
пели и плясали! Алан понимал, что ему не удастся просидеть весь вечер,
охраняя драгоценную сумку, и он с большой неохотой распорол аккуратный шов,
вытащил рукопись и спрятал ее за пазухой. Во всяком случае, он все время
ощущал, что она тут, на его груди, а когда он пошел танцевать, она легонько
подпрыгивала, но пышные складки куртки надежно скрывали ее от любопытных
взглядов, а туго затянутый пояс не давал ей выпасть.
Анджела знала, где он спрятал книгу, и не отходила от него ни на шаг.
Хотя она и посмеивалась над его опасениями, ей тоже не хотелось лишиться
драгоценной рукописи, да еще когда путешествие близилось к концу.
И все-таки было очень приятно после долгих дней тревог и тяжких
испытаний беззаботно веселиться и пировать.
-- Ведь и у нас есть что отпраздновать! -- шепнула Анджела с
многозначительным видом.
И они танцевали, пели, ели и пили среди шумной веселой толпы,
заполнившей не только гостиницу, но и обширный двор позади нее.
-- Только, -- напомнил Алан, -- мы должны беречься...
-- Ш-ш-ш!
-- И не напиться допьяна, -- со смехом договорил Алан.
Это предупреждение было не лишним, потому что вино лилось рекой и по
случаю праздника его пили неразбавленным. Каждый желал выпить за здоровье
всех остальных по очереди. Незнакомые люди совали кружки в руки соседей или
наливали вино в опустевшую кружку, и отказ осушить ее до дна считался
смертельной обидой.
Алан и Анджела старались пить как можно меньше и, ссылаясь на свою
молодость, обязательно разбавляли вино водой. К несчастью, это показалось
забавным окружавшим их гулякам, и те с новым усердием принялись угощать
молодых людей.
-- Эти мальчишки что-то уж слишком степенны! -- кричал один.
А другой тут же откликался:
-- Ну-ка, выпей, синьор студент! Доброе вино развяжет тебе язык, и мы
послушаем, как ты там изъясняешься по-гречески!
Конечно, угощение им предлагали от чистого сердца, но они предпочли бы
обойтись без него. Алан, как и большинство английских юношей, редко пил
что-нибудь крепче домашнего пива и еще не привык к вину. Анджела, правда,
как это. было принято в Италии, с детства пила вино, разбавленное водой,, но
дом Альда отличался бережливостью, и даже взрослые там редко пробовали такие
крепкие вина, какими теперь ее непрерывно потчевали.
-- Вот ужас! -- хихикнув, шепнула Анджела на ухо Алану. И он, решив,
что хмель ударил ей в голову, бросил на нее грозный взгляд.
-- Нет, не бойся, я не пьяна, -- добавила девушка невозмутимо.
-- Ну, не знаю, -- возразил Алан. -- Я видел, сколько раз наполнялась
твоя кружка.
-- Так, значит, ты не видел, как она опорожнялась! -- И Анджела
показала глазами на лимонное деревце в темном углу двора. -- Наверное, у
этих лимонов, когда они созреют, сок будет совсем хмельным.
Он чуть было не сказал "умница девочка!", но вовремя спохватился и
торжественно произнес:
-- Друг Александр, это ты превосходно придумал!
После чего он не преминул последовать примеру девушки, и на корни
деревца пролилось еще много вина, которым их угощали непрошеные друзья.
Они, конечно, могли бы выйти на улицу, но это их не спасло бы -- весь
городок веселился, на площадях танцевали и повсюду горели костры, на которых
жарились целиком бараньи туши. Притвориться усталыми и лечь спать также не
имело смысла: собутыльники, которым они так полюбились, несомненно, вытащили
бы их даже из постелей.
Впрочем, найдя способ не пьянеть, Алан и не хотел уходить: рукопись
была в полной безопасности под его курткой, и он все время ощущал
прикосновение ее переплета. Анджела вела себя разумно, почти не пила и была
так же трезва, как он сам.
Раздвинув толпу, к ним подошел улыбающийся Чентано.
-- Твой приятель разыскал тебя? -- спросил он Алана.
-- Какой приятель? -- удивился Алан, так как Анджела по-прежнему была
около него.
-- А может, и не приятель, -- рассеянно ответил купец. -- Просто он
расспрашивал про тебя слугу в гостинице, а слуга спросил меня.
-- Что он говорил?
-- Хотел узнать, не едет ли со мной молодой немец, по имени Аларих. Сам
я его не видел, но, кажется, это был венецианец. Ну, если ты ему нужен, так
он тебя разыщет.
-- Да, -- с горечью сказал Алан, -- если я ему нужен, ой меня разыщет.
Чентано отошел, и Алан повернулся к девушке.
-- Мне это не нравится.
-- Неужели... неужели это сообщник Чезаре?
-- А кто же еще?
-- Но каким образом? Я хочу сказать -- как...
-- Швейцарец мог рассказать.
-- Про что?
-- Про то, как он встретил странного немца, -- угрюмо объяснил Алан. --
Белобрысого, но не знающего по-немецки ни словечка.
-- Что же нам делать?
-- Ничего. Только быть еще осторожнее. Вновь пускаться в путь вдвоем не
имеет смысла. Мы уже этого попробовали. Лучше остаться с Чентано. Как ты
думаешь, ему можно довериться?
-- Конечно, -- кивнула она.
-- Тогда утром мы скажем ему, что нам грозит опасность. Можно будет
даже признаться, что мы везем Альду ценную книгу. Мне не хотелось бы и на
минуту расставаться с Алексидом, но в железном сундуке Чентано он будет в
большей безопасности.
-- Может быть, поговорим с ним сейчас же?
-- В самый разгар веселья? Да к тому же он не слишком трезв. Ну ничего,
эту ночь я спать не буду.
-- Я могу посторожить половину ночи, -- заявила Анджела. -- Дай слово,
что разбудишь меня.
-- Хорошо, -- обрадовано согласился Алан. Он понимал, что после такого
вечера не заснуть будет трудно, однако следовало принять меры
предосторожности -- опасность опять стала грозной.
Тут их разговор был прерван. Во двор ворвалась еще одна шумная
компания, и веселье разгорелось с новой силой.
Дюжий крестьянин, щеголявший серебряной цепью и алым кушаком,
взгромоздился на бочку и принялся распоряжаться.
-- А ну! -- заревел он, словно довольный бык. -- Всех угощаю, всех до
единого!
Тут уж не помогло бы и лимонное деревце. Алан с Анджелой хотели было
тихонько ускользнуть в дом, но к ним подскочил неизвестно откуда взявшийся
хохочущий человечек с длинными серьгами и с флягой в руке. Алан твердо решил
больше не пить, но человечек ничего и слушать не хотел.
-- Лучше соглашайся, -- шепнула Анджела. -- Не то вспыхнет ссора. Ты
ведь знаешь, какие они тут все гордые!
Да, это он знал. И понимал также, что ссора им совсем ни к чему. Кто-то
вообразит себя оскорбленным, удар -- и начнется общая свалка. А уж слуги
Ястреба не преминут ею воспользоваться -- если, конечно, они тут, в толпе.
Однако он сделал еще одну попытку.
-- Мы просим извинить нас, -- сказал он вежливо. -- Мы с моим другом
пьем только разбавленное вино, а как ты сам видишь, кувшин пуст.
-- Это не помешает вам утолить жажду, -- ответил человечек. -- Найдутся
и другие кувшины, а уж воды хватит, можешь не тревожиться. Ее не слишком-то
пьют сегодня.
Он оглянулся и, смеясь, кликнул слугу. Тот принес из гостиницы кувшин с
водой, и человечек с глубоким поклоном протянул его Алану.
-- Разбавляйте на свой вкус, молодые люди. Он налил себе вина из той же
фляги и выпил. И только тогда осторожный Алан пригубил свою кружку.
На следующее утро Анджела села на постели, зевая и протирая глаза.
-- А-у-а! До чего я устала! Послушай, ты же обещал разбудить меня ночью
и не разбудил. Это нечестно!
-- Что?! -- Алан мгновенно проснулся и, спрыгнув с постели, бросился к
своей сумке.
-- Значит, ты заснул! -- сердито сказала Анджела.
-- Да, кажется... Но ничего страшного не произошло -- она тут.
Однако, еще не вытащив ее из сумки, он уже понял, что его пальцы
сжимают не Алексида, а совсем другую книгу, более толстую и тяжелую.
Глава двадцатая. СНОВА В ВЕНЕЦИИ
-- Значит, в ваше вино подсыпали снотворного зелья? -- негромко спросил
Альд, выслушав их рассказ.
-- Не в вино, дядюшка, а в воду, -- поправила Анджела.
-- Это было ловко подстроено. И Алексид теперь заперт в библиотеке
герцога Молфетты?
-- Наверное, -- грустно сказал Алан.
-- Ну, не надо унывать! -- воскликнул книгопечатник, хотя ему и не
удалось при этом совсем скрыть собственное горькое разочарование. -- Вы
вернулись целыми и невредимыми -- твои родители совсем извелись от тревоги,
Анджела, хоть я и говорил им, что в тебе даже не девять жизней, как в кошке,
а все двадцать. Ведь, в конце концов, жизнь все-таки важнее литературы.
На несколько минут в комнате воцарилось молчание. За открытым окном
приветливо шумела Венеция, плескалась в канале вода, вдалеке перекликались
гондольеры, ворковали голуби.
-- Боюсь, мы бессильны, -- снова заговорил Альд. -- Вы не сумеете
доказать, что рукопись у вас украли именно слуги герцога. Да к тому же с
точки зрения закона она и не была вашей, так как вы тайно похитили ее из
Варнского монастыря.
-- И правильно сделали! -- горячо заявила Анджела.
-- Не спорю, дорогая моя. Вы сделали то, что следовало сделать, --
другого выхода у вас не было. Однако ты видишь, что мы не можем обратиться в
суд. Впрочем, меня заботит не то, кому принадлежит рукопись. Я ведь хотел
только одного -- напечатать ее. А теперь на это нет ни малейшей надежды.
Герцог -- заклятый враг книгопечатания и бывает счастлив только тогда, когда
ему удается раздобыть рукопись, второго экземпляра которой нет ни у кого в
мире.
-- Его следовало бы прозвать не Ястребом, а Собакой на сене, -- вспылил
Алан.
-- Ну, кем бы он ни был, -- сказала вдруг Анджела, -- скоро его ждет
неприятная неожиданность.
Альд с беспокойством посмотрел на нее: когда Анджела говорила этим
решительным тоном, ее родные всегда пугались.
-- Надеюсь, дорогая, что ты не сделаешь никакой глупости. Какую,
собственно, неприятную неожиданность ты имеешь в виду?
-- Ты все равно напечатаешь "Овода".
Они уставились на нее в полной растерянности. Первым обрел дар речи
Альд.
-- Каким образом? Герцог ни за что не разрешит.
-- Обойдемся без его разрешения.
Альд печально покачал головой и сказал ласково:
-- Боюсь, ты еще не оправилась от этой страшной поездки. Вот выспись
хорошенько, и тогда...
-- Нет, я не помешалась, -- перебила его Анджела. -- Я понимаю, что
говорю.
-- В таком случае помешался я. По вашим же собственным словам выходит,
что единственная сохранившаяся рукопись комедии попала в руки герцога. И,
следовательно, Алексида больше не существует.
-- Вовсе нет, дядюшка, он существует.
-- Тогда, во имя всего святого, где он?
Анджела ответила не сразу, наслаждаясь его недоумением.
Потом она ликующе засмеялась и объяснила план, который ей самой только
что пришел в голову.
-- Алексид живет в моей памяти и в памяти Алана. Мы с ним знаем комедию
наизусть.
-- Пожалуй, действительно знаем! -- Алан был потрясен этой мыслью. --
Ведь там, в горах, нам нечего было делать, и мы...
-- Конечно, знаем! -- Сияя от радости, Анджела бросилась к двери и
распахнула ее. -- Дядюшка, можно я позову самых быстрых твоих переписчиков?
Мы успеем продиктовать им первые сцены еще до ужина.
Анджела оказалась права, и дело у них спорилось. Стихи Алексида были
удивительно легкими и выразительными, так что стоило прочесть строку, и она
прочно врезалась в память. Комедия была не очень длинной, как и большинство
афинских комедий, -- каких-нибудь полторы тысячи строк: во время
представления к ним добавлялись еще музыка, танцы и пантомима. Как правило,
действие разыгрывалось между двумя, реже тремя персонажами, и плавность
диалога не нарушалась.
Через полтора дня были уже закончены два аккуратных экземпляра "Овода"
-- за это время они, кроме того, успели обсудить все сомнительные места.
Кое-где Альд, большой знаток греческого языка и литературы, исправил
возможные погрешности их памяти, но, когда работа была завершена, ни
Анджела, ни Алан не сомневались, что записанный текст почти ничем не
отличается от того, который они читали в Далмации.
Было решено хранить все в строжайшей тайне, пока комедия не будет
напечатана. Альд под благовидным предлогом пригласил к себе домой трех своих
ученых друзей, членов основанной им академии, и дал им прочесть список. Все
трое пришли в восторг. Сомневаться не приходилось: долгие поиски принесли
достойные плоды. Из темниц Варны было спасено подлинное сокровище мировой
литературы.
-- Меня смущает только одно... -- сказал Альд.
-- Что именно? -- с тревогой посмотрел на него Алан. -- Ведь герцог не
может помешать тебе напечатать Алексида!
-- Нет. Но это может сделать цензор республики.
-- Я же объясняла тебе, -- вмешалась Анджела. -- У нас в Венеции есть
цензор греческих книг, который следит, чтобы книгопечатни не выпускали
подделок и не искажали текста.
-- И без его разрешения я не имею права опубликовывать Алексида.
-- Но мы его подучим, -- весело сказала Анджела, заметив тревогу на
лице Алана. -- Ведь должность цензора греческих книг занимает Марк Мусур --
первый дядин помощник и близкий друг всей нашей семьи.
-- Прекрасно! -- с облегчением сказал Алан. -- Значит, все будет
хорошо.
-- К сожалению, Марк сейчас в Риме, -- заметил Альд. -- Боюсь, нам
придется протомиться в неизвестности не меньше недели.
-- Ничего, -- возразила Анджела. -- Марк, конечно, поверит нам на слово
-- он ведь знает меня с пеленок! -- Она лукаво усмехнулась. -- А если он
вдруг заупрямится и начнет говорить про свой долг, я уж знаю, как к нему
подольститься.
-- В этом-то я не сомневаюсь, -- согласился Альд. -- Но как бы то ни
было, я пока приготовлю набор, чтобы комедию можно было сразу напечатать,
едва Марк вернется и даст нам разрешение.
Однако они ошиблись.
На этот раз и Анджела переоценила свои силы.
Они сидели вчетвером в кабинете книгопечатника -- Альд, Марк Мусур и
Алан с Анджелой. Критянин смотрел на них грустно, но с твердой решимостью.
-- Не настаивай больше, синьорина, прошу тебя. Мне очень тяжело
отказывать вам. Ведь твой дядя столько лет был мне заботливым и щедрым
другом...
-- Пусть это тебя не тревожит, -- спокойно перебил его Альд. -- Забудь
пока про нашу дружбу -- она останется прежней, Марк, какое бы решение ты
сегодня ни принял. Ты должен поступать так, как велят тебе долг и совесть.
Критянин благодарно наклонил голову.
-- Мне приходится представить себе, что я сказал бы, если бы ко мне
явились трое неизвестных людей и рассказали бы эту историю -- историю о
необыкновенных приключениях...
-- Пусть необыкновенных, но ведь возможных? -- перебила его неукротимая
Анджела.
-- Да, возможных, -- согласился он. -- Некоторые редкие рукописи были
найдены именно таким образом. И затерянный в глуши монастырь -- самое
вероятное место для подобных открытий. Хорошо известно и то, что герцог
Молфетта не слишком щепетилен в выборе средств для пополнения своей
библиотеки. Ну, а пираты и турки... -- Он пожал плечами. -- Любой человек,
путешествующий в наши неспокойные дни по Восточной Европе, должен ждать
подобных встреч. Я, конечно, верю каждому вашему слову. Но не знай я вас, я
все же усомнился бы.
Он был прав, и им оставалось только это признать.
-- Поставьте себя на мое место, -- умоляюще сказал Мусур. -- На место
венецианского цензора греческих книг. Вам рассказывают эту историю. Вы
спрашиваете: "Где же рукопись?" А вам отвечают: "Мы не можем предъявить
рукопись, она таинственно исчезла, но мы восстановили комедию по памяти". --
Он грустно улыбнулся. -- Сейчас греческие книги пользуются таким спросом по
всей Европе, что в ход пошли подделки. Долг цензора -- защищать читателей от
подобных мошенников, а также от небрежности переписчиков, искажений текста
при наборе... и ошибок памяти.
-- И это правильно, -- с горечью сказал Альд. -- Иначе Европа была бы
уже наводнена скверными греческими книгами, и мы не могли бы отличить
подделки от подлинника.
-- Но послушай же! -- Анджела чуть не плакала от злости. -- Ведь ты
знаешь, что мы не мошенники, ты знаешь, какая у меня хорошая память, и ты
знаешь дядю Альда. Неужели он согласился бы принять участие в подделке?
Посуди сам -- ты ведь так долго работал у него.
-- В том-то и беда, синьорина Анджела.
-- Я не понимаю.
-- Все скажут, что я сделал поблажку своему нанимателю. А это тоже не
так уж приятно.
Алан в первый раз вмешался в разговор:
-- А нельзя ли сохранить эти обстоятельства в тайне?
-- О нет! Публикация неизвестной греческой комедии вызовет огромный
интерес. Все ученые Европы захотят узнать, где и когда ее нашли. Они
потребуют предъявить рукопись оригинала, и наше объяснение их не
удовлетворит.
Альд тяжело вздохнул и поднялся на ноги, давая понять, что разговор
окончен.
-- Ты прав, -- сказал он. -- Я теперь вижу, что это невозможно. Пойдут
сплетни, и твое и мое доброе имя будет запачкано.
Анджела все-таки не заплакала. Наоборот, в ее глазах вновь загорелась
решимость.
-- Ну что ж! -- воскликнула она. -- Остается одно.
-- А именно, моя дорогая?
-- Я сама поговорю с Ястребом.
-- Это бесполезно, Анджела. Ты только зря потеряешь время.
-- Сначала выслушай, что я придумала.
Разумеется, им не грозила никакая опасность. Алан и Анджела вновь и
вновь повторяли это друг другу в течение тех нескольких дней, пока они
ожидали, чтобы печатники и переплетчики (поклявшиеся свято хранить тайну)
закончили, наконец, свою работу. Герцог Молфетта не посмеет и пальцем
тронуть дочь почтенного гражданина венецианской республики, которая среди
бела дня открыто придет к нему. Да и зачем ему это может понадобиться? Он
ведь торжествует победу, добившись своего: единственный сохранившийся в мире
экземпляр комедии Алексида надежно заперт в его библиотеке.
-- К тому же, -- заключила Анджела, -- Ястреб все-таки человек
благородный -- по нынешним итальянским понятиям.
Но несмотря на все эти рассуждения, поднимаясь вслед за ней по
мраморным ступеням к дверям, из которых в вечер карнавала ему удалось
вырваться лишь с таким трудом, Алан ощутил невольный трепет. Что ж, тогда он
все-таки заставил герцога уступить. Пусть Анджела попробует добиться того
же.
Они назвали свои имена, и вскоре слуга, вернувшись в великолепную
прихожую, сказал, что его светлость готов их принять. И снова Алан
вздрогнул, когда слуга повел их по длинным галереям, которые он помнил столь
живо. Его рука невольно легла на эфес шпаги.
Он был в новом костюме и при шпаге -- по ходатайству Альда городские
власти дали ему разрешение носить оружие. Анджела была блистательна. В
парчовом платье с зеленой отделкой она плыла по мраморному полу, словно
принцесса. Теперь никто не догадался бы, что эти золотисто-рыжие волосы от
природы были черными, но, к большой досаде девушки, с ее лица еще не сошел
немодный загар, напоминавший об их путешествии.
Ястреб сидел все в том же кресле с высокой спинкой. Как и в прошлый
раз, он не сразу прервал молчание. Алану даже показалось, что старик сидит
тут в этой позе с тех самых пор, как они расстались. На нем был тот же
костюм из коричневого бархата, а унизанные перстнями белые пальцы играли с
тем же драгоценным медальоном.
И только увидев за спиной герцога Чезаре Морелли, угрюмо и тревожно
посматривавшего на них, Алан избавился от о той иллюзии.
 -- Ну? -- как всегда вкрадчиво спросил, наконец, герцог. -- Ваше
посещение -- для меня большая честь, но, признаюсь, я не догадываюсь о его
цели.
-- Я принесла подарок твоей светлости, -- любезно сказала Анджела.
-- Рад это слышать. Я опасался, что услышу просьбу, на которую с
величайшим сожалением должен был бы ответить отказом.
Холодные глаза герцога смотрели на них с подозрением. Чезаре
подобрался, словно кот, готовящийся к прыжку, и, скользнув вокруг стола,
встал рядом с Анджелой.
Алан чуть не засмеялся. Уж не опасаются ли они отравленных кинжалов?
Ну, то, что их ждет, покажется им ненамного приятнее. Он протянул Анджеле
небольшой предмет, завернутый в шелк, и она положила сверток на стол перед
герцогом.
-- В знак уважения от моего дяди и моего отца, -- сказала она с легкой
улыбкой и, изящно поклонившись, отступила на шаг. -- Хотя ты и гнушаешься
плодами их трудов, быть может, твоя светлость соблаговолит принять этот
образчик их искусства.
Герцог развернул шелк и зло сощурился при виде новенькой книги,
аккуратно переплетенной в телячью кожу. Он открыл ее, взглянул на титульный
лист и испустил прерывистый вздох: заголовок над дельфином и якорем Альда
гласил:
"Овод", комедия Алексида".
Наверное, герцог побледнел бы, но его лицо и так всегда было
мраморно-бледным. Выражение его глаз тоже не изменилось, и только на виске,
словно голубая молния, задергалась жилка, а голос стал глухим от ярости,
когда он сказал:
-- Как ты это объяснишь, Чезаре?
Красивое лицо Морелли исказилось от ужаса и изумления. Он попытался
что-то ответить, но язык ему не повиновался. Герцог грозно ждал. Наконец
Чезаре пролепетал:
-- Это подделка! Я сказал твоей светлости правду... других экземпляров
рукописи не существует...
-- Лжец! -- Герцог говорил по-прежнему тихо, но это единственное слово
прозвучало как приговор.
Он начал перелистывать страницы книги, и хотя это длилось не больше
минуты, всем троим она показалась вечностью. Потом он снова заговорил:
-- Это слово в слово совпадает с тем экземпляром, который ты мне
доставил, поклявшись, что он -- единственный в мире.
-- Я... я не понимаю! Я...
-- Ты обманул мое доверие, -- неумолимо сказал герцог. -- Этого
достаточно.
-- Клянусь твоей светлости...
-- Ты больше у меня не служишь. Свою плату ты получил: как оказалось,
не по заслугам. Больше я тебя не желаю видеть.
Чезаре хотел было что-то сказать в свое оправдание, но, встретив взгляд
холодных глаз, понял, что это бесполезно, и покорно вышел из библиотеки.
Наступило молчание. Сдержанность герцога, его спокойный тон делали его гнев
еще более страшным.
"Не разразится ли буря сейчас?" -- подумал Алан. Удастся ли им добиться
того, ради чего они пришли сюда?
Герцог посмотрел на них и, к их большому изумлению, мрачно улыбнулся.
-- Итак, победа все-таки осталась за тобой, мессер Дрейтон.
-- Вернее будет сказать, что игра окончилась вничью. Ведь рукопись
находится у твоей светлости. Значит, лавры мы поделили пополам.
-- Это верно. -- Герцог пропустил между пальцами серебряную цепь и стал
вертеть медальон. -- Но как бы то ни было, тебе удалось провести Чезаре.
Умный противник нравится мне больше глупого слуги.
Анджела поспешила воспользоваться его последними словами.
-- Значит, ты не затаишь неприязни к нам?
-- Нет. Я попробую примириться с неизбежным, как подобает философу.
Он снова мрачно улыбнулся.
И тут Анджела решилась.
-- Я знаю, -- сказала она, -- что твоя светлость -- благородный человек
и истинный ценитель искусства и литературы.
Герцог слегка поклонился, словно благодаря ее за лестное мнение.
-- Тебе претит книгопечатание, но ведь невежество и искажения претят
тебе еще больше?
-- Разумеется.
-- Пока мы напечатали и переплели лишь несколько экземпляров этой
книги. Но ты не можешь помешать нам напечатать все издание.
-- Я хорошо это знаю, синьорина.
-- И я хочу обратиться к тебе с просьбой, в которой ты мне не откажешь,
если ты -- истинный любитель древней литературы и философии, а не тщеславный
собиратель редкостей. В нашей рукописи могут быть некоторые искажения. Если
их не исправить, эти ошибки попадут во все, университеты и библиотеки Европы
и будут подобны... подобны сорнякам в цветнике знания.
-- Ты очень красноречива, синьорина! Вот потому-то мне и не нравятся
печатные станки.
-- Но ведь комедия все равно будет напечатана! -- не моргнув глазом,
заверила его Анджела. -- И от тебя зависит, получит ли ее мир такой, какой
ее написал Алексид, или с ошибками, которые из века в век будут вводить
людей в заблуждение.
Ее дерзкая настойчивость, каралось, привела герцога в хорошее
настроение. Его голос снова стал вкрадчивым, а улыбка -- почти веселой.
-- Я понимаю, что ты имеешь в виду, синьорина. Но вряд ли ты думаешь,
что я отдам тебе варнскую рукопись, чтобы ты могла отнести ее своим
печатникам.
-- Ну конечно, нет. Мы просим только об одном: позволь сведущим людям
ознакомиться с рукописью в твоей библиотеке и сравнить ее с нашим
напечатанным экземпляром. Если хочешь, окружи их вооруженной стражей, но в
любом случае ты можешь ничего не опасаться.
Герцог задумался. Они ждали его ответа затаив дыхание. Белые пальцы
крутили медальон, драгоценные камни то вспыхивали, то гасли, и Алан
почувствовал, что эти переливы цветных огней словно завораживают его. Но тут
медальон упал на коричневый бархат и, качнувшись, замер. Герцог поднял
глаза.
-- Раз я не могу воспрепятствовать тому, чтобы эта комедия была
напечатана, -- сказал он, -- то пусть она будет напечатана без ошибок и
искажений. Пришли ко мне кого хочешь и когда хочешь. Я сам покажу им
рукопись.
Анджела поклонилась со всем изяществом, на какое только была способна.
-- Мой дядя поспешит сегодня же явиться к твоей светлости. Он приведет
с собой своего помощника Марка Мусура.
Наступила осень. Но солнце в Венеции все еще было жарким. На балконе, с
которого открывался вид на церковь Святого Августина, Анджела, застенчиво
склонив голову, выслушивала предложение -- результат искусных маневров,
занявших у нее все лето.
-- Ах, право же, Микеле, -- пролепетала она, потупив глаза, -- это так
неожиданно! Я никак не думала... и просто не знаю, что ответить.
-- Я, конечно, уже говорил с твоими отцом и матерью, -- сказал
флорентинец. -- Они согласны.
"Попробовали бы они не согласиться!" -- подумала Анджела, но
благоразумно не произнесла этого вслух, а только сказала:
-- Я всегда беспрекословно слушаюсь родителей! Ведь кому, как не им,
знать, что лучше для их дочери, не правда ли? -- Затем она мечтательно
добавила: -- Наверное, мне понравится Флоренция. Вести собственный дом... и
отдавать распоряжения. ..
Микеле смотрел на нее и со всей глупой доверчивостью влюбленного думал
о том, какая она кроткая и милая -- ну просто котенок. Ему еще предстояло
узнать, что из котят вырастают кошки...
А в этот час Алан, качаясь на свинцовых валах Па-де-Кале, тщетно
всматривался в ноябрьский туман, пытаясь различить берега Англии. Морская
болезнь не пощадила его и на этот раз, и он вновь и вновь радовался, что
перед возвращением на родину ему не придется блуждать по морям десять лет
подобно Одиссею.
Он опять извлек из потайного кармана своей куртки два талисмана,
которые ободряли его во время долгого и утомительного пути через Францию.
Одним талисманом было письмо Эразма из Кембриджа.
Тут все говорят о великой службе, которую ты сослужил миру, вернув ему
еще одно сокровище греческой литературы. Тот случай забыт. Я говорил с
главой твоего колледжа, и ты будешь радостно встречен здесь, если пожелаешь
вернуться.
Алан перечитал это письмо в сотый раз, а потом обратился к своему
второму талисману: комедии Алексида с латинским посвящением Альда. Самые
прославленные ученые Европы считали большой честью удостоиться посвящения
знаменитого книгопечатника, и вот оно, написанное красивым курсивом --
собственным изобретением Альда:
Алану Дрейтону, Другу греческих авторов и моему, который вместе со
своим товарищем Анджело спас Алексида из мрака темницы и вернул ею свету
дня.
"Со своим товарищем Анджело!.." Как жаль, что никто никогда не узнает
об участии Анджелы в этом предприятии!" -- в который раз сердито подумал
Алан. Но даже и не слишком чопорная Италия ужаснулась бы, узнав, что девушка
в мужском наряде путешествовала по самым глухим областям Европы.
И он дал себе клятву, что в будущем, когда разоблачение ее тайны уже не
будет грозить Анджеле неприятностями, он загладит причиненную ей
несправедливость. Она получит красивую книгу, в которой ничего не поймет,
потому что стихи в ней будут написаны по-английски. Ничего, кроме титульного
листа, который он переведет для нее на греческий: "Овод" Алексида
комедиографа; впервые переведен на английский язык Аланом Дрейтоном". А ниже
-- "Посвящается Анджеле д'Азола (впрочем, тогда она уже будет носить фамилию
этого бедняги, как бишь его?), без которой греческий оригинал был бы
навсегда утрачен для мира".
У него пальцы чесались поскорее взяться за перо. Он хотел немедленно
начать работу, чтобы изысканные и звучные греческие стихи скорее
превратились в английские, понятные всем его соотечественникам, радующие их
своей красотой. Но он знал, что этот труд требует времени и терпения. Он был
еще молод, и молод был сам английский язык, сталь его слов еще далеко не
закалилась. Сколько предстоит сделать! Придется заново создавать даже
стихотворные размеры!
Он был рад, что возвращается на родину. Жизнь в Англии обещала стать
еще более интересной, еще более кипучей. В пути он узнал о смерти Генриха
VII.
Теперь на английском троне сидел новый король: молодой, как он сам,
восемнадцатилетний силач и великан, искусный атлет и музыкант, знаток
древних языков, любитель книжной мудрости -- Генрих VIII.
Угрюмые серые дни остались позади.
Англия стояла на пороге зеленого великолепия своей тюдоровской весны.
Вцепившись в мокрый борт, Алан жадно всматривался в даль, словно
стараясь увидеть не только меловые дуврские утесы, но и грядущее. Однако
густая завеса тумана, повисшего над морем, была непроницаема.
Туман скрывал от глаз Алана его родину, где сэр Томас Мор уже обдумывал
свою "Утопию". Туман окутывал Кент, где вскоре в семье сапожника должен был
родиться Кит Марло, первый великий английский драматург. В хмуром тумане
нельзя было разглядеть страну, которой скоро суждено было прославиться
подвигами Дрейка и Рэлея, зазвенеть музыкой Бэрда и Тэллиса, стихами
Шекспира и Сиднея, Спенсера и Чэпмена, и еще многих, многих других...
Корабль с упрямой надеждой пробивался сквозь туман к Дувру; и с той же
упрямой надеждой Алан и Англия шли навстречу своему будущему.
Древние римляне говорили, что книги, как и люди, имеют свою судьбу.
Можно добавить: судьбы книг всегда переплетались с судьбами людей. Только
приключения человека ограничены годами его жизни, а "приключения" книги
могут развертываться на протяжении столетий. Как это и было с той книгой, о
которой рассказал английский писатель Джефри Триз в повести "Холмы Варны".
Пусть никого не огорчает, что герой повести Алан Дрейтон, да и сама
найденная им рукописная книга, произведение афинского драматурга Алексида,
-- плод вымысла писателя и что на карте Балканского полуострова, у берегов
Адриатики, не найти озера Варна (болгарский город, носящий это название,
расположен совсем в другом месте -- на берегу Черного моря). Истории,
подобные той, что рассказана в повести, как вы узнаете, прочитав эти
страницы, на самом деле случались не раз в те времена. Джефри Триз
достоверно передал главное: взгляды и стремления людей той эпохи и историю
того, как древние книги, прекрасные творения поэтов и прозаиков, ораторов и
мыслителей Древней Греции и Древнего Рима, забытые или полузабытые людьми
средневековья и веками пылившиеся в библиотеках монастырей, вновь стали
достоянием человечества, возродились к новой жизни. Это действительно
произошло благодаря неустанным поискам, длительным путешествиям, трудам и
открытиям людей, которые, как Алан и Анджела и их учителя и наставники --
знаменитый писатель Эразм Роттердамский и венецианский книгопечатник Альд
Мануций, носили славное имя гуманистов.
Каждый, кто любит книги и собирает их, кто подолгу простаивает у
прилавков книжных магазинов, перелистывая новые издания, или упорно
разыскивает полюбившуюся книгу в библиотеках, легко поймет Алана Дрейтона,
его благородное увлечение и самоотверженность в поисках. Но почему Алан и
Анджела и другие гуманисты так сильно тяготели к произведениям писателей
античности (под именем античной культуры мы объединяем культуру Древней
Греции и Древнего Рима)? Разве только потому, что это были старинные книги,
которые высоко ценились? Нет, вы заметили, что соображения наживы были им
чужды. И не о пополнении собственных библиотек, спрятанных от глаз людей,
пеклись они, как герцог Молфетта. Одной только любовью к книгам приключения
Алана и Анджелы не объяснишь. Чтобы лучше понять их, надо заглянуть в то
время, когда жили эти люди. Это время получило название Возрождения.
После разгрома германскими племенами Западной Римской империи и падения
"вечного города" Рима, казалось, навсегда угасла культура, созданная греками
и римлянами. Были разрушены дворцы и театры, погребены под землей прекрасные
статуи, в огне пожаров погибли многие выдающиеся творения мысли, заглохли
все науки.
Только в монастырях и соборах теплились огоньки образованности. Среди
монахов и священников находились люди, изучавшие латинский язык -- язык
древних римлян. На этом языке они читали библию и другие "священные" книги.
Кое-где в монастырях сохранялись рукописные свитки или кодексы -- листы,
сшитые в виде тетрадей и обтянутые кожаным переплетом, -- на которых были
записаны произведения великих писателей и ученых древности. Лишь к немногим
из них обращались монахи. Большинство древних книг они отвергали как
языческие, нехристианские: ведь в них упоминались языческие боги Юпитер,
Венера, Марс и т. д. Иногда монахи с превеликим терпением соскабливали
строки великих писателей античности, чтобы использовать дорогостоящий
пергамент для записи религиозных поучений и рассказов о "чудесах" и
"откровениях". Ученые средних веков -- богословы -- пренебрегали научными
знаниями, накопленными людьми древнего мира. Не человек и природа
интересовали их, а изречения "святых" и "пророков".
Даже через много веков после падения Римский империи, в 1337 году,
когда один из первых гуманистов, великий итальянский поэт Петрарка, приехал
в Рим, какую картину запустения и забвения он нашел здесь! Петрарка бродил
возле величественных развалин -- мимо дворцов, храмов, арок и колонн, и
никто не мог объяснить ему, как называются эти строения, кем и когда они
были воздвигнуты. Некоторые римляне всерьез утверждали, что это творения
злых духов.
Но жизнь шла вперед. Еще повсеместно возвышались грозные замки --
твердыни феодалов, а вокруг них на полях гнули спины, трудясь на своих
господ, забитые и бесправные крестьяне; еще Европа была раздроблена на
великое множество феодальных владений, и между князьями и королями бушевали
беспрестанные войны и междоусобицы, разорявшие трудовой народ; еще крепка
была вера в то, что этот порядок установлен богом; и народ с благоговением
взирал на своих светских и духовных владык, -- как медленно забрезжила заря
нового времени! Здесь и там стали расти города. За их крепкие стены
собирались беглые крестьяне, ремесленники, купцы -- энергичные,
свободолюбивые люди. Развивались ремесла и торговля, и благодаря им города
богатели, множилось их население. Искусные ремесленники, предприимчивые
купцы, смелые мореходы раньше других почувствовали обузу феодальных порядков
и власти церкви. Они боролись с феодалами и отвоевывали для своих городов
право на независимость. Они совершали путешествия и лучше узнавали жизнь
соседей и даже отдаленных стран. Жизнь учила их смелее думать, дерзать и
верить в свои силы, а не в силу молитв или в заступничество монахов перед
богом. Они не хотели подвергать себя лишениям и мукам ради счастья на том
свете. Добытые своими стараниями средства они хотели использовать для лучшей
жизни на земле. Так вместе с изменениями в общественной жизни складывались
новые взгляды на жизнь, на назначение человека.
Смиряться, терпеть, страдать и ожидать награды на том свете -- учила
церковь. Наслаждаться жизнью, творить, дерзать -- провозглашали новые люди.
Они называли себя гуманистами (от латинского слова "гуманус" --
человеческий, человечный).
Гуманисты выступили в тот период, когда феодальный строй дал только
первые трещины, религия еще властвовала над умами людей. Гуманисты не
призывали к ниспровержению феодальных порядков (для этого еще не наступило
время), они не были безбожниками -- атеистами, но своей критикой
бесчеловечных, диких феодальных нравов, своими насмешками над монахами и
вздорными религиозными суевериями, своим прославлением человека, его
могущества и счастья они помогли развеять мрак средневековья.
Писатели древности были далеки от христианства. В их произведениях
гуманисты нашли ту свободу мысли, тот радостный и светлый взгляд на жизнь,
глубокие и плодотворные мысли о природе, которые стали для них путеводной
нитью. Вспомните, с каким удивлением и восхищением говорил студент-гуманист
Дик из повести Триза о книге одного из великих греков: "Все в ней так ново,
столько замечательных мыслей и идей! Какие сокровища знаний... греки -- это
целый мир... это Америка духа!" Изучать античную культуру означало в то
время не уходить от самых больших и острых вопросов жизни, а вносить в нее
новую, свежую струю. Возрождалась античная культура, и одновременно
рождались новые взгляды на жизнь, на место в ней человека, новые научные
идеи. Поэтому-то это время и получило название Возрождения.
Новая культура раньше стала складываться в Италии. Уже с XIV века, за
двести лет до описанного в повести времени, в Италии начался расцвет
искусства, литературы, науки. И лишь позднее он охватил другие страны --
Германию, Францию, Англию. Недаром Алан, очутившись в Венеции, восклицал:
"Вы в Италии сделали так много! Какие у вас дома, картины, статуи,
библиотеки, театры, музыка..."
Петрарка был в Италии первым, кто стал разыскивать произведения
писателей и мыслителей древности. Завидев по дороге старинный монастырь, он
сворачивал с пути и начинал поиски. Он нашел несколько произведений
Цицерона, которого считали лучшим оратором Древнего Рима. "О, радость
находки!" -- делился с друзьями Петрарка.
За ним последовал его друг, великий итальянский писатель Боккаччо.
Однажды в поисках книг он заехал в отдаленный монастырь и спросил ключ от
библиотеки. Угрюмый монах (вероятно, похожий на отца Димитрия из нашей
повести) проворчал: "Ступай наверх, библиотека открыта". Боккаччо поднялся
по крутой лестнице. Дверь действительно не была заперта. Но какая картина
предстала перед его глазами! Книги были предоставлены ветру, грязи и
сырости. Из одних были вырваны Страницы, от других отрезаны целые куски. Кто
же эти варвары, безжалостные к сокровищам культуры? Когда Боккаччо спустился
вниз, монах невозмутимо поведал ему, что два брата ("братьями" монахи
называли друг друга) вырывали страницы -- прочный пергамент, -- для того
чтобы изготовлять из него обложки для молитвенников, которые они
переписывали и сбывали среди бедного люда.
Пример Петрарки и Боккаччо вызвал сотни и тысячи подражаний. Неутомимым
искателем древних книг стал гуманист Поджо Браччолини. Где он только не
побывал с этой целью -- в Швейцарии, Германии, Англии, Португалии! В 1415
году церковники собрались на собор в швейцарском городе Констанца. Сюда
приехал и Поджо, который добывал средства к жизни службой в канцелярии
римского папы. Церковники с пеной у рта спорили о разных тонкостях веры.
Поджо со снисходительной улыбкой выслушивал эти споры. Мысль у него была
одна: поскорей вырваться из города и попасть в отдаленные монастыри, где еще
не побывали гуманисты! По заснеженным альпийским дорогам Поджо и его друзья
добрались до заброшенного в горах монастыря. И вот они в библиотеке, среди
покрытых пылью и ржавчиной старинных свитков и кодексов. "В такую
отвратительную тюрьму не заключили бы и преступника!" -- осмотревшись
вокруг, восклицает Поджо. "Эта библиотека, если бы она имела дар слова,
сказала бы нам: люди, любящие латинский язык, не дайте мне погибнуть,
извлеките меня из этой тюрьмы!" -- вторит Поджо один из его спутников. И
гуманисты извлекают из "тюрьмы" неизвестные им книги писателей древности и
свиток с произведениями знаменитого римского мыслителя-безбожника Лукреция,
который с гордостью говорил о себе, что он "души не пятнал религией
гнусной". Написанное в стихах произведение Лукреция "О природе вещей" уже
известно гуманистам, но, кто знает, может быть, в этом списке найдутся новые
строфы, исправленные выражения?
К тому времени, когда Алан Дрейтон из далекой Англии, казавшейся
итальянцам варварской страной, попал в Венецию, гуманистическая
образованность распространилась среди довольно широкого круга людей.
Гуманисты свободно разговаривали по-латыни и по-гречески (знавших два
древних языка с уважением называли "двуязычными"). Уже были найдены или
восстановлены из забвения, переписаны заново или напечатаны почти все
известные tibm сейчас произведения древних римлян и греков.
Среди гуманистов выделялся Эразм Роттердамский. В начале XVI века
(когда происходит действие повести Триза) он был самым прославленным, самым
почитаемым из гуманистов. Родиной Эразма был голландский город Роттердам, но
в нем прошли лишь его детские годы. Эразм много странствовал, несколько лет
провел в Италии, где подружился с Альдом Мануцием, издававшим его
произведения; одно время преподавал греческий язык в Кембриджском
университете в Англии (здесь, согласно повести Триза, у него учился Алан
Дрейтон). Из многочисленных произведений Эразма одно читается с интересом
поныне. Это знаменитое "Похвальное слово Глупости"[1].
[1]"Ты читал мою последнюю книгу?" -- спрашивает Эразм у Алана в
повести Триза. "Похвалу Глупости"? Кто же в Европе не читал ее, учитель ?"
-- отвечает Алан.
Изображая прославленного гуманиста, Триз допустил хронологическую
неточность. Действие повести начинается в первые месяцы 1509 года. В это
время разговор между Аланом и Эразмом не мог состояться по той причине, что
Эразма не было в Англии и "Похвальное слово Глупости" еще не было написано.
Эразм приехал в Англию после смерти короля Генриха VII, то есть тогда, когда
и перед Аланом открылась возможность вернуться из Италии на родину. Джефри
Триза, по-видимому, ввела в заблуждение дата, которая стоит на первом
издании "Похвального слова", -- 1508 год. Исследователи установили, что это
типографская опечатка или преднамеренная ошибка. Произведение Эразма издано
в 1510 или 1511 году.
Похвальное слово произносит богиня Глупости. Она поднимается на кафедру
и обещает слушателям доказать в своей речи, что она, Глупость, правит миром,
что "в человеческом обществе все полно глупости, все делается дураками и
ради дураков". Читатель сразу замечает иронический смысл этого "похвального
слова". Конечно, не восхвалять глупость задумал Эразм, а показать, сколько
глупого, бессмысленного, безумного творится в мире. В самом деле, разве не
глупы люди, которые убеждены, что, прочитав молитву перед статуей некоего
святого, они воротятся целыми и невредимыми с поля боя, а поставив свечку
другому святому, они сделаются богачами? А сколько надо иметь глупости,
чтобы верить астрологам, предсказывающим судьбу по течению звезд, или
почитать монахов, которые "при помощи вздорных выдумок подчиняют смертных
своей тирании"? И что стоит мудрость тех, кто считает себя мудрейшими среди
людей, ученых-богословов, ведущих бесконечные споры о том, "может ли бог
превратиться в женщину, дьявола, осла, тыкву или камень? И если бы он
действительно превратился в тыкву, могла ли бы эта тыква проповедовать и
творить чудеса?"
Богиня Глупости разворачивает в своей речи панораму жизни тогдашнего
общества. В голосе ее все сильнее звучит гнев, страсть, издевка. Она
добирается до самых верхних ступеней феодальной лестницы и не щадит никого.
Дворяне, кичащиеся мнимым благородством своего происхождения, -- "родовитые
скоты". Придворные вельможи -- самые раболепные, пошлые и гнусные людишки на
свете. Епископы заботу о пастве возлагают на Христа, а сами пекутся лишь об
уловлении денег. Короли ежедневно измышляют все новые способы набивать свою
казну, отнимая у граждан их достояние. А сами верховные первосвященники --
римские папы... Они добиваются престола "посредством меча, яда и всяческого
насилия".
В век нескончаемых феодальных войн Эразм устами богини Глупости
поднимает свой голос в защиту мира: "Война есть дело до того жестокое, что
подобает скорее хищным зверям, нежели людям, до того безумное, что поэты
считают ее порождением фурий, до того зловредное, что разлагает нравы с
быстротой моровой язвы..." Однако папы, -- негодует Эразм, -- то и дело
затевают войны и "щедро проливают христианскую кровь".
В заключение своей гневной и язвительной речи богиня Глупости со
смелостью, которую в то время мог позволить себе только такой прославленный
человек/как Эразм, заявляет, что и христианская вера "сродни некоему виду
глупости". Хотя богиня тут же извиняется: "Если я сказала что-нибудь слишком
дерзновенное, то вспомните, что это сказано Глупостью", но церковники сразу
же обрушились на знаменитого гуманиста с обвинениями в безбожии. Эразм не
был еще атеистом, до полного отрицания бога и религии в его время не доходил
никто, но своей критикой религиозных суеверий, бесплодного мудрствования
богословов, позорных деяний католической церкви он прокладывал путь
свободомыслию и науке.
Сочинения Эразма расходились по всем странам Западной Европы. Разве мог
еще за несколько десятилетий до Эразма какой-нибудь ученый или писатель
мечтать о том, что его произведения прочтут за недолгий срок тысячи и
десятки тысяч людей? Это стало возможным только после того, как в середине
XV века немецкий мастер Иоганн Гутенберг изобрел книгопечатание.
Первые печатные книги были дешевле рукописных в пять -- десять раз. И
все-таки они стоили дорого. Как и рукописные, они имели большой формат, и на
них уходило много бумаги. Удешевить печатную книгу и сделать ее достоянием
массы людей скромного достатка удалось венецианскому книгопечатнику Альду
Манупию, с которым вы также познакомились в этой повести.
В 1494 году Альд Мануций создал свою типографию в Венеции,
просуществовавшую свыше девяноста лет (от Альда она перешла к его сыну, а
затем к внуку). Альд беззаветно любил античную литературу и цель свою видел
не в наживе путем торговли книгами (как многие другие типографы и
книготорговцы) , а в распространении книг и знаний. Альд мечтал о том, чтобы
каждый ученый или студент мог приобрести книгу и взять с собой в путешествие
любимые книги, сложив их в сумку у своего седла. Но как вместить в книгу
маленького формата большое литературное произведение, не увеличивая объем
книги до неудобного? Выход был один -- создать мелкий убористый шрифт. Один
из помощников Альда предложил такой шрифт. Он имел наклон вправо и напоминал
рукописный (говорят, что в качестве образца для него был взят почерк
Петрарки). Шрифт получил название курсива. (Курсивом мы пишем здесь это
слово.)
Книги Альда легко отличить от других старинных книг. На них имеется
особый типографский знак -- якорь, обвитый дельфином. Рисунок, как вы
знаете, символизировал римское изречение, избранное Альдом в качестве его
девиза: "фестина ленте", то есть поспешай без торопливости (якорь означал
стояние на месте, а дельфин -- быстроту движения). Книги, изданные в
типографии Альда, "адьдины" -- прекрасные произведения старинного
типографского искусства. Они составляют гордость обладающих ими библиотек.
Вокруг себя Альд собрал ученых, знатоков древнегреческой и
древнеримской литературы. Одни жили в его доме, другие собирались у него по
определенным дням. В старинных рукописях, которые много раз переписывались
(иногда малограмотными писцами), встречалось много ошибок, искажений текста.
Помощники Альда сравнивали тексты, выявляли ошибки и исправляли их. Альд
стремился восстановить во всей чистоте и красоте текст произведений
писателей и ученых Древней Греции и Древнего Рима. Рукописи истлевали,
терялись, а книги, изданные Альдом, донесли до нас немало произведений
великих писателей древности.
Таковы некоторые факты истории, которые нашли отражение в повести
Джефри Триза. Кое-что из рассказанного здесь напомнило вам сцены повести,
высказывания ее героев. Английский писатель действительно сохранил в
основном верность исторической правде, убедительно изобразил людей
Возрождения, их взгляды, дела и увлечения.
Джефри Триз пользуется заслуженной популярностью среди юных читателей
Англии. За тридцать с лишним лет литературной деятельности он написал много
произведений для детей и подростков. Исторические повести -- излюбленный
жанр Триза. Некоторые из них переведены на русский язык. В их числе повесть
"Фиалковый венец", о которой здесь надо сказать несколько слов.
Читатели этой книги, очевидно, с интересом узнают, что "Фиалковый
венец" является как бы введением к "Холмам Варны", а повесть о приключениях
Алана и Анджелы можно, если угодно, рассматривать как окончание "Фиалкового
венца". Между этими произведениями Триза своеобразная связь. У них нет общих
героев. Изображенные в них времена разделены веками. Если в "Холмах Варны"
действие развертывается в Англии и Италии в начале XVI столетия, то в
"Фиалковом венце" оно перенесено в древние Афины и приурочено к концу V века
до нашей эры. Но обе повести объединяет один мотив -- история комедии
Алексида. Вспомните, что говорится в "Холмах Варны" о найденной юными
гуманистами древнегреческой рукописи и ее авторе, которого Триз назвал
Алексидом. Мы узнаем, что комедия Алексида написана примерно за две тысячи
лет до похождений наших героев, что она называется "Овод" и написана
Алексидом в защиту его учителя, знаменитого афинского мудреца Сократа
(Сократ любил называть себя "Оводом"); комедия -- "замечательное
произведение", ради которого, по словам Анджелы, "стоило перенести все, что
мы перенесли"; наконец, по мнению Анджелы, первой прочитавшей рукопись,
автор комедии "был лишь немногим старше Алана в те дни, когда писал "Овода".
Вот, пожалуй, и все. У вдумчивого читателя возникает множество вопросов: кем
был Алексид и когда он жил? Как ему удалось в таком молодом возрасте
написать замечательное произведение? В каких условиях была создана комедия и
о чем в ней говорилось? От кого Алексиду понадобилось защищать Сократа? и т.
п. Эти вопросы могут быть обращены только к самому Джефри Тризу. История
древнегреческой литературы не знает Алексида, автора "Овода". И комедия и ее
создатель, афинский драматург, придуманы Тризом. На возникшие у вас вопросы
ответит повесть Триза "Фиалковый венец".
В этой повести рассказывается о том, как афинский юноша Алексид,
смелый, находчивый и одаренный поэтическим талантом, помог своим согражданам
разоблачить опасный для Афин заговор аристократов и написал комедию,
получившую приз на драматургических состязаниях в театре Диониса (в Древней
Греции драматурги, ставя свои произведения в театре, соревновались между
собой за первое место и награду, как и спортсмены на Олимпийских
состязаниях).
По прошествии двух тысяч лет комедия Алексида, забытая людьми, с
наступлением средних веков усилиями гуманистов была извлечена из "мрака
темницы" и возвращена "свету дня", как сказал о подвиге Алана и Анджелы Альд
Мануций. За связью двух повестей Джефри Триза с их придуманными персонажами
и приключениями стоит реальная связь двух великих эпох -- античности и
Возрождения, связь начальных и срединных звеньев той цепи, имя которой --
история мировой культуры.
Какие бы времена и эпохи истории ни изображал английский писатель,
героями своих исторических повестей он выбирает людей, близких народу,
мужественных и благородных, увлеченных не достижением личного успеха и
благополучия, а общественным делом, большим или малым, но всегда служащим
интересам правды и прогресса. Поэтому они и вызывают наши симпатии. Если вы
обратитесь к "Фиалковому венцу" или другим произведениям Джефри Триза,
изданным у нас под заглавием "Ключ к тайне", то они, надо полагать,
понравятся вам не меньше, чем только что прочитанная повесть.
Л.С.3авадье
Глава первая. Ссора
Глава вторая. Удивительное сокровище
Глава третья. Дом в Венеции
Глава четвертая. Тень Ястреба
Глава пятая. Путь открыт
Глава шестая. Тайный отъезд
Глава седьмая. Черная галера
Глава восьмая. "Дельфин" в беде
Глава девятая. Гибель корабля
Глава десятая. И от девушек тоже бывает польза
Глава одиннадцатая. Встреча в Рагузе
Глава двенадцатая. Сумрачные долины
Глава тринадцатая. Враг приходит на помощь
Глава четырнадцатая. Озеро
Глава пятнадцатая. У ворот монастыря
Глава шестнадцатая. Разоблачены
Глава семнадцатая. Черные глубины Варны
Глава восемнадцатая. Обратный путь
Глава девятнадцатая. Когти Ястреба
Глава двадцатая. Снова в Венеции
А.С.3авадье. Послесловие
Издательство просит отзывы об этой книге присылать по адресу:
Москва, А-47, ул. Горького, 43. Дом детской книги,
Для среднего школьного возраста
Дзкефри Триз
ХОЛМЫ ВАРНЫ
*****
Ответственный редактор Н. С. Дроздова. Художественный редактор С. И.
Нижняя. Технический редактор С. Г. Маркович. Корректоры Л. М. Короткина и Т.
П. Лейзерович. Сдано в набор 14/11 1966 г. Подписано к печати ll/IV1966r.
Формат 60х84 1/16. Печ. л. 12,5. Усл. печ. л. 11,66. (Уч.-изд. л. 10,16).
Тираж 50 000 экз. ТП 1966 .N5 510. Цена 43 коп. на бум. маш/мел.
Издательство "Детская литература". Москва, М. Черкасский пер., 1. Фабрика
"Детская книга" No 2 Росглавполиграфпрома Комитета noi печати при Совете
Министров РСФСР. Ленинград 2-я Советская, 7. Заказ No 753.
-- Ну? -- как всегда вкрадчиво спросил, наконец, герцог. -- Ваше
посещение -- для меня большая честь, но, признаюсь, я не догадываюсь о его
цели.
-- Я принесла подарок твоей светлости, -- любезно сказала Анджела.
-- Рад это слышать. Я опасался, что услышу просьбу, на которую с
величайшим сожалением должен был бы ответить отказом.
Холодные глаза герцога смотрели на них с подозрением. Чезаре
подобрался, словно кот, готовящийся к прыжку, и, скользнув вокруг стола,
встал рядом с Анджелой.
Алан чуть не засмеялся. Уж не опасаются ли они отравленных кинжалов?
Ну, то, что их ждет, покажется им ненамного приятнее. Он протянул Анджеле
небольшой предмет, завернутый в шелк, и она положила сверток на стол перед
герцогом.
-- В знак уважения от моего дяди и моего отца, -- сказала она с легкой
улыбкой и, изящно поклонившись, отступила на шаг. -- Хотя ты и гнушаешься
плодами их трудов, быть может, твоя светлость соблаговолит принять этот
образчик их искусства.
Герцог развернул шелк и зло сощурился при виде новенькой книги,
аккуратно переплетенной в телячью кожу. Он открыл ее, взглянул на титульный
лист и испустил прерывистый вздох: заголовок над дельфином и якорем Альда
гласил:
"Овод", комедия Алексида".
Наверное, герцог побледнел бы, но его лицо и так всегда было
мраморно-бледным. Выражение его глаз тоже не изменилось, и только на виске,
словно голубая молния, задергалась жилка, а голос стал глухим от ярости,
когда он сказал:
-- Как ты это объяснишь, Чезаре?
Красивое лицо Морелли исказилось от ужаса и изумления. Он попытался
что-то ответить, но язык ему не повиновался. Герцог грозно ждал. Наконец
Чезаре пролепетал:
-- Это подделка! Я сказал твоей светлости правду... других экземпляров
рукописи не существует...
-- Лжец! -- Герцог говорил по-прежнему тихо, но это единственное слово
прозвучало как приговор.
Он начал перелистывать страницы книги, и хотя это длилось не больше
минуты, всем троим она показалась вечностью. Потом он снова заговорил:
-- Это слово в слово совпадает с тем экземпляром, который ты мне
доставил, поклявшись, что он -- единственный в мире.
-- Я... я не понимаю! Я...
-- Ты обманул мое доверие, -- неумолимо сказал герцог. -- Этого
достаточно.
-- Клянусь твоей светлости...
-- Ты больше у меня не служишь. Свою плату ты получил: как оказалось,
не по заслугам. Больше я тебя не желаю видеть.
Чезаре хотел было что-то сказать в свое оправдание, но, встретив взгляд
холодных глаз, понял, что это бесполезно, и покорно вышел из библиотеки.
Наступило молчание. Сдержанность герцога, его спокойный тон делали его гнев
еще более страшным.
"Не разразится ли буря сейчас?" -- подумал Алан. Удастся ли им добиться
того, ради чего они пришли сюда?
Герцог посмотрел на них и, к их большому изумлению, мрачно улыбнулся.
-- Итак, победа все-таки осталась за тобой, мессер Дрейтон.
-- Вернее будет сказать, что игра окончилась вничью. Ведь рукопись
находится у твоей светлости. Значит, лавры мы поделили пополам.
-- Это верно. -- Герцог пропустил между пальцами серебряную цепь и стал
вертеть медальон. -- Но как бы то ни было, тебе удалось провести Чезаре.
Умный противник нравится мне больше глупого слуги.
Анджела поспешила воспользоваться его последними словами.
-- Значит, ты не затаишь неприязни к нам?
-- Нет. Я попробую примириться с неизбежным, как подобает философу.
Он снова мрачно улыбнулся.
И тут Анджела решилась.
-- Я знаю, -- сказала она, -- что твоя светлость -- благородный человек
и истинный ценитель искусства и литературы.
Герцог слегка поклонился, словно благодаря ее за лестное мнение.
-- Тебе претит книгопечатание, но ведь невежество и искажения претят
тебе еще больше?
-- Разумеется.
-- Пока мы напечатали и переплели лишь несколько экземпляров этой
книги. Но ты не можешь помешать нам напечатать все издание.
-- Я хорошо это знаю, синьорина.
-- И я хочу обратиться к тебе с просьбой, в которой ты мне не откажешь,
если ты -- истинный любитель древней литературы и философии, а не тщеславный
собиратель редкостей. В нашей рукописи могут быть некоторые искажения. Если
их не исправить, эти ошибки попадут во все, университеты и библиотеки Европы
и будут подобны... подобны сорнякам в цветнике знания.
-- Ты очень красноречива, синьорина! Вот потому-то мне и не нравятся
печатные станки.
-- Но ведь комедия все равно будет напечатана! -- не моргнув глазом,
заверила его Анджела. -- И от тебя зависит, получит ли ее мир такой, какой
ее написал Алексид, или с ошибками, которые из века в век будут вводить
людей в заблуждение.
Ее дерзкая настойчивость, каралось, привела герцога в хорошее
настроение. Его голос снова стал вкрадчивым, а улыбка -- почти веселой.
-- Я понимаю, что ты имеешь в виду, синьорина. Но вряд ли ты думаешь,
что я отдам тебе варнскую рукопись, чтобы ты могла отнести ее своим
печатникам.
-- Ну конечно, нет. Мы просим только об одном: позволь сведущим людям
ознакомиться с рукописью в твоей библиотеке и сравнить ее с нашим
напечатанным экземпляром. Если хочешь, окружи их вооруженной стражей, но в
любом случае ты можешь ничего не опасаться.
Герцог задумался. Они ждали его ответа затаив дыхание. Белые пальцы
крутили медальон, драгоценные камни то вспыхивали, то гасли, и Алан
почувствовал, что эти переливы цветных огней словно завораживают его. Но тут
медальон упал на коричневый бархат и, качнувшись, замер. Герцог поднял
глаза.
-- Раз я не могу воспрепятствовать тому, чтобы эта комедия была
напечатана, -- сказал он, -- то пусть она будет напечатана без ошибок и
искажений. Пришли ко мне кого хочешь и когда хочешь. Я сам покажу им
рукопись.
Анджела поклонилась со всем изяществом, на какое только была способна.
-- Мой дядя поспешит сегодня же явиться к твоей светлости. Он приведет
с собой своего помощника Марка Мусура.
Наступила осень. Но солнце в Венеции все еще было жарким. На балконе, с
которого открывался вид на церковь Святого Августина, Анджела, застенчиво
склонив голову, выслушивала предложение -- результат искусных маневров,
занявших у нее все лето.
-- Ах, право же, Микеле, -- пролепетала она, потупив глаза, -- это так
неожиданно! Я никак не думала... и просто не знаю, что ответить.
-- Я, конечно, уже говорил с твоими отцом и матерью, -- сказал
флорентинец. -- Они согласны.
"Попробовали бы они не согласиться!" -- подумала Анджела, но
благоразумно не произнесла этого вслух, а только сказала:
-- Я всегда беспрекословно слушаюсь родителей! Ведь кому, как не им,
знать, что лучше для их дочери, не правда ли? -- Затем она мечтательно
добавила: -- Наверное, мне понравится Флоренция. Вести собственный дом... и
отдавать распоряжения. ..
Микеле смотрел на нее и со всей глупой доверчивостью влюбленного думал
о том, какая она кроткая и милая -- ну просто котенок. Ему еще предстояло
узнать, что из котят вырастают кошки...
А в этот час Алан, качаясь на свинцовых валах Па-де-Кале, тщетно
всматривался в ноябрьский туман, пытаясь различить берега Англии. Морская
болезнь не пощадила его и на этот раз, и он вновь и вновь радовался, что
перед возвращением на родину ему не придется блуждать по морям десять лет
подобно Одиссею.
Он опять извлек из потайного кармана своей куртки два талисмана,
которые ободряли его во время долгого и утомительного пути через Францию.
Одним талисманом было письмо Эразма из Кембриджа.
Тут все говорят о великой службе, которую ты сослужил миру, вернув ему
еще одно сокровище греческой литературы. Тот случай забыт. Я говорил с
главой твоего колледжа, и ты будешь радостно встречен здесь, если пожелаешь
вернуться.
Алан перечитал это письмо в сотый раз, а потом обратился к своему
второму талисману: комедии Алексида с латинским посвящением Альда. Самые
прославленные ученые Европы считали большой честью удостоиться посвящения
знаменитого книгопечатника, и вот оно, написанное красивым курсивом --
собственным изобретением Альда:
Алану Дрейтону, Другу греческих авторов и моему, который вместе со
своим товарищем Анджело спас Алексида из мрака темницы и вернул ею свету
дня.
"Со своим товарищем Анджело!.." Как жаль, что никто никогда не узнает
об участии Анджелы в этом предприятии!" -- в который раз сердито подумал
Алан. Но даже и не слишком чопорная Италия ужаснулась бы, узнав, что девушка
в мужском наряде путешествовала по самым глухим областям Европы.
И он дал себе клятву, что в будущем, когда разоблачение ее тайны уже не
будет грозить Анджеле неприятностями, он загладит причиненную ей
несправедливость. Она получит красивую книгу, в которой ничего не поймет,
потому что стихи в ней будут написаны по-английски. Ничего, кроме титульного
листа, который он переведет для нее на греческий: "Овод" Алексида
комедиографа; впервые переведен на английский язык Аланом Дрейтоном". А ниже
-- "Посвящается Анджеле д'Азола (впрочем, тогда она уже будет носить фамилию
этого бедняги, как бишь его?), без которой греческий оригинал был бы
навсегда утрачен для мира".
У него пальцы чесались поскорее взяться за перо. Он хотел немедленно
начать работу, чтобы изысканные и звучные греческие стихи скорее
превратились в английские, понятные всем его соотечественникам, радующие их
своей красотой. Но он знал, что этот труд требует времени и терпения. Он был
еще молод, и молод был сам английский язык, сталь его слов еще далеко не
закалилась. Сколько предстоит сделать! Придется заново создавать даже
стихотворные размеры!
Он был рад, что возвращается на родину. Жизнь в Англии обещала стать
еще более интересной, еще более кипучей. В пути он узнал о смерти Генриха
VII.
Теперь на английском троне сидел новый король: молодой, как он сам,
восемнадцатилетний силач и великан, искусный атлет и музыкант, знаток
древних языков, любитель книжной мудрости -- Генрих VIII.
Угрюмые серые дни остались позади.
Англия стояла на пороге зеленого великолепия своей тюдоровской весны.
Вцепившись в мокрый борт, Алан жадно всматривался в даль, словно
стараясь увидеть не только меловые дуврские утесы, но и грядущее. Однако
густая завеса тумана, повисшего над морем, была непроницаема.
Туман скрывал от глаз Алана его родину, где сэр Томас Мор уже обдумывал
свою "Утопию". Туман окутывал Кент, где вскоре в семье сапожника должен был
родиться Кит Марло, первый великий английский драматург. В хмуром тумане
нельзя было разглядеть страну, которой скоро суждено было прославиться
подвигами Дрейка и Рэлея, зазвенеть музыкой Бэрда и Тэллиса, стихами
Шекспира и Сиднея, Спенсера и Чэпмена, и еще многих, многих других...
Корабль с упрямой надеждой пробивался сквозь туман к Дувру; и с той же
упрямой надеждой Алан и Англия шли навстречу своему будущему.
Древние римляне говорили, что книги, как и люди, имеют свою судьбу.
Можно добавить: судьбы книг всегда переплетались с судьбами людей. Только
приключения человека ограничены годами его жизни, а "приключения" книги
могут развертываться на протяжении столетий. Как это и было с той книгой, о
которой рассказал английский писатель Джефри Триз в повести "Холмы Варны".
Пусть никого не огорчает, что герой повести Алан Дрейтон, да и сама
найденная им рукописная книга, произведение афинского драматурга Алексида,
-- плод вымысла писателя и что на карте Балканского полуострова, у берегов
Адриатики, не найти озера Варна (болгарский город, носящий это название,
расположен совсем в другом месте -- на берегу Черного моря). Истории,
подобные той, что рассказана в повести, как вы узнаете, прочитав эти
страницы, на самом деле случались не раз в те времена. Джефри Триз
достоверно передал главное: взгляды и стремления людей той эпохи и историю
того, как древние книги, прекрасные творения поэтов и прозаиков, ораторов и
мыслителей Древней Греции и Древнего Рима, забытые или полузабытые людьми
средневековья и веками пылившиеся в библиотеках монастырей, вновь стали
достоянием человечества, возродились к новой жизни. Это действительно
произошло благодаря неустанным поискам, длительным путешествиям, трудам и
открытиям людей, которые, как Алан и Анджела и их учителя и наставники --
знаменитый писатель Эразм Роттердамский и венецианский книгопечатник Альд
Мануций, носили славное имя гуманистов.
Каждый, кто любит книги и собирает их, кто подолгу простаивает у
прилавков книжных магазинов, перелистывая новые издания, или упорно
разыскивает полюбившуюся книгу в библиотеках, легко поймет Алана Дрейтона,
его благородное увлечение и самоотверженность в поисках. Но почему Алан и
Анджела и другие гуманисты так сильно тяготели к произведениям писателей
античности (под именем античной культуры мы объединяем культуру Древней
Греции и Древнего Рима)? Разве только потому, что это были старинные книги,
которые высоко ценились? Нет, вы заметили, что соображения наживы были им
чужды. И не о пополнении собственных библиотек, спрятанных от глаз людей,
пеклись они, как герцог Молфетта. Одной только любовью к книгам приключения
Алана и Анджелы не объяснишь. Чтобы лучше понять их, надо заглянуть в то
время, когда жили эти люди. Это время получило название Возрождения.
После разгрома германскими племенами Западной Римской империи и падения
"вечного города" Рима, казалось, навсегда угасла культура, созданная греками
и римлянами. Были разрушены дворцы и театры, погребены под землей прекрасные
статуи, в огне пожаров погибли многие выдающиеся творения мысли, заглохли
все науки.
Только в монастырях и соборах теплились огоньки образованности. Среди
монахов и священников находились люди, изучавшие латинский язык -- язык
древних римлян. На этом языке они читали библию и другие "священные" книги.
Кое-где в монастырях сохранялись рукописные свитки или кодексы -- листы,
сшитые в виде тетрадей и обтянутые кожаным переплетом, -- на которых были
записаны произведения великих писателей и ученых древности. Лишь к немногим
из них обращались монахи. Большинство древних книг они отвергали как
языческие, нехристианские: ведь в них упоминались языческие боги Юпитер,
Венера, Марс и т. д. Иногда монахи с превеликим терпением соскабливали
строки великих писателей античности, чтобы использовать дорогостоящий
пергамент для записи религиозных поучений и рассказов о "чудесах" и
"откровениях". Ученые средних веков -- богословы -- пренебрегали научными
знаниями, накопленными людьми древнего мира. Не человек и природа
интересовали их, а изречения "святых" и "пророков".
Даже через много веков после падения Римский империи, в 1337 году,
когда один из первых гуманистов, великий итальянский поэт Петрарка, приехал
в Рим, какую картину запустения и забвения он нашел здесь! Петрарка бродил
возле величественных развалин -- мимо дворцов, храмов, арок и колонн, и
никто не мог объяснить ему, как называются эти строения, кем и когда они
были воздвигнуты. Некоторые римляне всерьез утверждали, что это творения
злых духов.
Но жизнь шла вперед. Еще повсеместно возвышались грозные замки --
твердыни феодалов, а вокруг них на полях гнули спины, трудясь на своих
господ, забитые и бесправные крестьяне; еще Европа была раздроблена на
великое множество феодальных владений, и между князьями и королями бушевали
беспрестанные войны и междоусобицы, разорявшие трудовой народ; еще крепка
была вера в то, что этот порядок установлен богом; и народ с благоговением
взирал на своих светских и духовных владык, -- как медленно забрезжила заря
нового времени! Здесь и там стали расти города. За их крепкие стены
собирались беглые крестьяне, ремесленники, купцы -- энергичные,
свободолюбивые люди. Развивались ремесла и торговля, и благодаря им города
богатели, множилось их население. Искусные ремесленники, предприимчивые
купцы, смелые мореходы раньше других почувствовали обузу феодальных порядков
и власти церкви. Они боролись с феодалами и отвоевывали для своих городов
право на независимость. Они совершали путешествия и лучше узнавали жизнь
соседей и даже отдаленных стран. Жизнь учила их смелее думать, дерзать и
верить в свои силы, а не в силу молитв или в заступничество монахов перед
богом. Они не хотели подвергать себя лишениям и мукам ради счастья на том
свете. Добытые своими стараниями средства они хотели использовать для лучшей
жизни на земле. Так вместе с изменениями в общественной жизни складывались
новые взгляды на жизнь, на назначение человека.
Смиряться, терпеть, страдать и ожидать награды на том свете -- учила
церковь. Наслаждаться жизнью, творить, дерзать -- провозглашали новые люди.
Они называли себя гуманистами (от латинского слова "гуманус" --
человеческий, человечный).
Гуманисты выступили в тот период, когда феодальный строй дал только
первые трещины, религия еще властвовала над умами людей. Гуманисты не
призывали к ниспровержению феодальных порядков (для этого еще не наступило
время), они не были безбожниками -- атеистами, но своей критикой
бесчеловечных, диких феодальных нравов, своими насмешками над монахами и
вздорными религиозными суевериями, своим прославлением человека, его
могущества и счастья они помогли развеять мрак средневековья.
Писатели древности были далеки от христианства. В их произведениях
гуманисты нашли ту свободу мысли, тот радостный и светлый взгляд на жизнь,
глубокие и плодотворные мысли о природе, которые стали для них путеводной
нитью. Вспомните, с каким удивлением и восхищением говорил студент-гуманист
Дик из повести Триза о книге одного из великих греков: "Все в ней так ново,
столько замечательных мыслей и идей! Какие сокровища знаний... греки -- это
целый мир... это Америка духа!" Изучать античную культуру означало в то
время не уходить от самых больших и острых вопросов жизни, а вносить в нее
новую, свежую струю. Возрождалась античная культура, и одновременно
рождались новые взгляды на жизнь, на место в ней человека, новые научные
идеи. Поэтому-то это время и получило название Возрождения.
Новая культура раньше стала складываться в Италии. Уже с XIV века, за
двести лет до описанного в повести времени, в Италии начался расцвет
искусства, литературы, науки. И лишь позднее он охватил другие страны --
Германию, Францию, Англию. Недаром Алан, очутившись в Венеции, восклицал:
"Вы в Италии сделали так много! Какие у вас дома, картины, статуи,
библиотеки, театры, музыка..."
Петрарка был в Италии первым, кто стал разыскивать произведения
писателей и мыслителей древности. Завидев по дороге старинный монастырь, он
сворачивал с пути и начинал поиски. Он нашел несколько произведений
Цицерона, которого считали лучшим оратором Древнего Рима. "О, радость
находки!" -- делился с друзьями Петрарка.
За ним последовал его друг, великий итальянский писатель Боккаччо.
Однажды в поисках книг он заехал в отдаленный монастырь и спросил ключ от
библиотеки. Угрюмый монах (вероятно, похожий на отца Димитрия из нашей
повести) проворчал: "Ступай наверх, библиотека открыта". Боккаччо поднялся
по крутой лестнице. Дверь действительно не была заперта. Но какая картина
предстала перед его глазами! Книги были предоставлены ветру, грязи и
сырости. Из одних были вырваны Страницы, от других отрезаны целые куски. Кто
же эти варвары, безжалостные к сокровищам культуры? Когда Боккаччо спустился
вниз, монах невозмутимо поведал ему, что два брата ("братьями" монахи
называли друг друга) вырывали страницы -- прочный пергамент, -- для того
чтобы изготовлять из него обложки для молитвенников, которые они
переписывали и сбывали среди бедного люда.
Пример Петрарки и Боккаччо вызвал сотни и тысячи подражаний. Неутомимым
искателем древних книг стал гуманист Поджо Браччолини. Где он только не
побывал с этой целью -- в Швейцарии, Германии, Англии, Португалии! В 1415
году церковники собрались на собор в швейцарском городе Констанца. Сюда
приехал и Поджо, который добывал средства к жизни службой в канцелярии
римского папы. Церковники с пеной у рта спорили о разных тонкостях веры.
Поджо со снисходительной улыбкой выслушивал эти споры. Мысль у него была
одна: поскорей вырваться из города и попасть в отдаленные монастыри, где еще
не побывали гуманисты! По заснеженным альпийским дорогам Поджо и его друзья
добрались до заброшенного в горах монастыря. И вот они в библиотеке, среди
покрытых пылью и ржавчиной старинных свитков и кодексов. "В такую
отвратительную тюрьму не заключили бы и преступника!" -- осмотревшись
вокруг, восклицает Поджо. "Эта библиотека, если бы она имела дар слова,
сказала бы нам: люди, любящие латинский язык, не дайте мне погибнуть,
извлеките меня из этой тюрьмы!" -- вторит Поджо один из его спутников. И
гуманисты извлекают из "тюрьмы" неизвестные им книги писателей древности и
свиток с произведениями знаменитого римского мыслителя-безбожника Лукреция,
который с гордостью говорил о себе, что он "души не пятнал религией
гнусной". Написанное в стихах произведение Лукреция "О природе вещей" уже
известно гуманистам, но, кто знает, может быть, в этом списке найдутся новые
строфы, исправленные выражения?
К тому времени, когда Алан Дрейтон из далекой Англии, казавшейся
итальянцам варварской страной, попал в Венецию, гуманистическая
образованность распространилась среди довольно широкого круга людей.
Гуманисты свободно разговаривали по-латыни и по-гречески (знавших два
древних языка с уважением называли "двуязычными"). Уже были найдены или
восстановлены из забвения, переписаны заново или напечатаны почти все
известные tibm сейчас произведения древних римлян и греков.
Среди гуманистов выделялся Эразм Роттердамский. В начале XVI века
(когда происходит действие повести Триза) он был самым прославленным, самым
почитаемым из гуманистов. Родиной Эразма был голландский город Роттердам, но
в нем прошли лишь его детские годы. Эразм много странствовал, несколько лет
провел в Италии, где подружился с Альдом Мануцием, издававшим его
произведения; одно время преподавал греческий язык в Кембриджском
университете в Англии (здесь, согласно повести Триза, у него учился Алан
Дрейтон). Из многочисленных произведений Эразма одно читается с интересом
поныне. Это знаменитое "Похвальное слово Глупости"[1].
[1]"Ты читал мою последнюю книгу?" -- спрашивает Эразм у Алана в
повести Триза. "Похвалу Глупости"? Кто же в Европе не читал ее, учитель ?"
-- отвечает Алан.
Изображая прославленного гуманиста, Триз допустил хронологическую
неточность. Действие повести начинается в первые месяцы 1509 года. В это
время разговор между Аланом и Эразмом не мог состояться по той причине, что
Эразма не было в Англии и "Похвальное слово Глупости" еще не было написано.
Эразм приехал в Англию после смерти короля Генриха VII, то есть тогда, когда
и перед Аланом открылась возможность вернуться из Италии на родину. Джефри
Триза, по-видимому, ввела в заблуждение дата, которая стоит на первом
издании "Похвального слова", -- 1508 год. Исследователи установили, что это
типографская опечатка или преднамеренная ошибка. Произведение Эразма издано
в 1510 или 1511 году.
Похвальное слово произносит богиня Глупости. Она поднимается на кафедру
и обещает слушателям доказать в своей речи, что она, Глупость, правит миром,
что "в человеческом обществе все полно глупости, все делается дураками и
ради дураков". Читатель сразу замечает иронический смысл этого "похвального
слова". Конечно, не восхвалять глупость задумал Эразм, а показать, сколько
глупого, бессмысленного, безумного творится в мире. В самом деле, разве не
глупы люди, которые убеждены, что, прочитав молитву перед статуей некоего
святого, они воротятся целыми и невредимыми с поля боя, а поставив свечку
другому святому, они сделаются богачами? А сколько надо иметь глупости,
чтобы верить астрологам, предсказывающим судьбу по течению звезд, или
почитать монахов, которые "при помощи вздорных выдумок подчиняют смертных
своей тирании"? И что стоит мудрость тех, кто считает себя мудрейшими среди
людей, ученых-богословов, ведущих бесконечные споры о том, "может ли бог
превратиться в женщину, дьявола, осла, тыкву или камень? И если бы он
действительно превратился в тыкву, могла ли бы эта тыква проповедовать и
творить чудеса?"
Богиня Глупости разворачивает в своей речи панораму жизни тогдашнего
общества. В голосе ее все сильнее звучит гнев, страсть, издевка. Она
добирается до самых верхних ступеней феодальной лестницы и не щадит никого.
Дворяне, кичащиеся мнимым благородством своего происхождения, -- "родовитые
скоты". Придворные вельможи -- самые раболепные, пошлые и гнусные людишки на
свете. Епископы заботу о пастве возлагают на Христа, а сами пекутся лишь об
уловлении денег. Короли ежедневно измышляют все новые способы набивать свою
казну, отнимая у граждан их достояние. А сами верховные первосвященники --
римские папы... Они добиваются престола "посредством меча, яда и всяческого
насилия".
В век нескончаемых феодальных войн Эразм устами богини Глупости
поднимает свой голос в защиту мира: "Война есть дело до того жестокое, что
подобает скорее хищным зверям, нежели людям, до того безумное, что поэты
считают ее порождением фурий, до того зловредное, что разлагает нравы с
быстротой моровой язвы..." Однако папы, -- негодует Эразм, -- то и дело
затевают войны и "щедро проливают христианскую кровь".
В заключение своей гневной и язвительной речи богиня Глупости со
смелостью, которую в то время мог позволить себе только такой прославленный
человек/как Эразм, заявляет, что и христианская вера "сродни некоему виду
глупости". Хотя богиня тут же извиняется: "Если я сказала что-нибудь слишком
дерзновенное, то вспомните, что это сказано Глупостью", но церковники сразу
же обрушились на знаменитого гуманиста с обвинениями в безбожии. Эразм не
был еще атеистом, до полного отрицания бога и религии в его время не доходил
никто, но своей критикой религиозных суеверий, бесплодного мудрствования
богословов, позорных деяний католической церкви он прокладывал путь
свободомыслию и науке.
Сочинения Эразма расходились по всем странам Западной Европы. Разве мог
еще за несколько десятилетий до Эразма какой-нибудь ученый или писатель
мечтать о том, что его произведения прочтут за недолгий срок тысячи и
десятки тысяч людей? Это стало возможным только после того, как в середине
XV века немецкий мастер Иоганн Гутенберг изобрел книгопечатание.
Первые печатные книги были дешевле рукописных в пять -- десять раз. И
все-таки они стоили дорого. Как и рукописные, они имели большой формат, и на
них уходило много бумаги. Удешевить печатную книгу и сделать ее достоянием
массы людей скромного достатка удалось венецианскому книгопечатнику Альду
Манупию, с которым вы также познакомились в этой повести.
В 1494 году Альд Мануций создал свою типографию в Венеции,
просуществовавшую свыше девяноста лет (от Альда она перешла к его сыну, а
затем к внуку). Альд беззаветно любил античную литературу и цель свою видел
не в наживе путем торговли книгами (как многие другие типографы и
книготорговцы) , а в распространении книг и знаний. Альд мечтал о том, чтобы
каждый ученый или студент мог приобрести книгу и взять с собой в путешествие
любимые книги, сложив их в сумку у своего седла. Но как вместить в книгу
маленького формата большое литературное произведение, не увеличивая объем
книги до неудобного? Выход был один -- создать мелкий убористый шрифт. Один
из помощников Альда предложил такой шрифт. Он имел наклон вправо и напоминал
рукописный (говорят, что в качестве образца для него был взят почерк
Петрарки). Шрифт получил название курсива. (Курсивом мы пишем здесь это
слово.)
Книги Альда легко отличить от других старинных книг. На них имеется
особый типографский знак -- якорь, обвитый дельфином. Рисунок, как вы
знаете, символизировал римское изречение, избранное Альдом в качестве его
девиза: "фестина ленте", то есть поспешай без торопливости (якорь означал
стояние на месте, а дельфин -- быстроту движения). Книги, изданные в
типографии Альда, "адьдины" -- прекрасные произведения старинного
типографского искусства. Они составляют гордость обладающих ими библиотек.
Вокруг себя Альд собрал ученых, знатоков древнегреческой и
древнеримской литературы. Одни жили в его доме, другие собирались у него по
определенным дням. В старинных рукописях, которые много раз переписывались
(иногда малограмотными писцами), встречалось много ошибок, искажений текста.
Помощники Альда сравнивали тексты, выявляли ошибки и исправляли их. Альд
стремился восстановить во всей чистоте и красоте текст произведений
писателей и ученых Древней Греции и Древнего Рима. Рукописи истлевали,
терялись, а книги, изданные Альдом, донесли до нас немало произведений
великих писателей древности.
Таковы некоторые факты истории, которые нашли отражение в повести
Джефри Триза. Кое-что из рассказанного здесь напомнило вам сцены повести,
высказывания ее героев. Английский писатель действительно сохранил в
основном верность исторической правде, убедительно изобразил людей
Возрождения, их взгляды, дела и увлечения.
Джефри Триз пользуется заслуженной популярностью среди юных читателей
Англии. За тридцать с лишним лет литературной деятельности он написал много
произведений для детей и подростков. Исторические повести -- излюбленный
жанр Триза. Некоторые из них переведены на русский язык. В их числе повесть
"Фиалковый венец", о которой здесь надо сказать несколько слов.
Читатели этой книги, очевидно, с интересом узнают, что "Фиалковый
венец" является как бы введением к "Холмам Варны", а повесть о приключениях
Алана и Анджелы можно, если угодно, рассматривать как окончание "Фиалкового
венца". Между этими произведениями Триза своеобразная связь. У них нет общих
героев. Изображенные в них времена разделены веками. Если в "Холмах Варны"
действие развертывается в Англии и Италии в начале XVI столетия, то в
"Фиалковом венце" оно перенесено в древние Афины и приурочено к концу V века
до нашей эры. Но обе повести объединяет один мотив -- история комедии
Алексида. Вспомните, что говорится в "Холмах Варны" о найденной юными
гуманистами древнегреческой рукописи и ее авторе, которого Триз назвал
Алексидом. Мы узнаем, что комедия Алексида написана примерно за две тысячи
лет до похождений наших героев, что она называется "Овод" и написана
Алексидом в защиту его учителя, знаменитого афинского мудреца Сократа
(Сократ любил называть себя "Оводом"); комедия -- "замечательное
произведение", ради которого, по словам Анджелы, "стоило перенести все, что
мы перенесли"; наконец, по мнению Анджелы, первой прочитавшей рукопись,
автор комедии "был лишь немногим старше Алана в те дни, когда писал "Овода".
Вот, пожалуй, и все. У вдумчивого читателя возникает множество вопросов: кем
был Алексид и когда он жил? Как ему удалось в таком молодом возрасте
написать замечательное произведение? В каких условиях была создана комедия и
о чем в ней говорилось? От кого Алексиду понадобилось защищать Сократа? и т.
п. Эти вопросы могут быть обращены только к самому Джефри Тризу. История
древнегреческой литературы не знает Алексида, автора "Овода". И комедия и ее
создатель, афинский драматург, придуманы Тризом. На возникшие у вас вопросы
ответит повесть Триза "Фиалковый венец".
В этой повести рассказывается о том, как афинский юноша Алексид,
смелый, находчивый и одаренный поэтическим талантом, помог своим согражданам
разоблачить опасный для Афин заговор аристократов и написал комедию,
получившую приз на драматургических состязаниях в театре Диониса (в Древней
Греции драматурги, ставя свои произведения в театре, соревновались между
собой за первое место и награду, как и спортсмены на Олимпийских
состязаниях).
По прошествии двух тысяч лет комедия Алексида, забытая людьми, с
наступлением средних веков усилиями гуманистов была извлечена из "мрака
темницы" и возвращена "свету дня", как сказал о подвиге Алана и Анджелы Альд
Мануций. За связью двух повестей Джефри Триза с их придуманными персонажами
и приключениями стоит реальная связь двух великих эпох -- античности и
Возрождения, связь начальных и срединных звеньев той цепи, имя которой --
история мировой культуры.
Какие бы времена и эпохи истории ни изображал английский писатель,
героями своих исторических повестей он выбирает людей, близких народу,
мужественных и благородных, увлеченных не достижением личного успеха и
благополучия, а общественным делом, большим или малым, но всегда служащим
интересам правды и прогресса. Поэтому они и вызывают наши симпатии. Если вы
обратитесь к "Фиалковому венцу" или другим произведениям Джефри Триза,
изданным у нас под заглавием "Ключ к тайне", то они, надо полагать,
понравятся вам не меньше, чем только что прочитанная повесть.
Л.С.3авадье
Глава первая. Ссора
Глава вторая. Удивительное сокровище
Глава третья. Дом в Венеции
Глава четвертая. Тень Ястреба
Глава пятая. Путь открыт
Глава шестая. Тайный отъезд
Глава седьмая. Черная галера
Глава восьмая. "Дельфин" в беде
Глава девятая. Гибель корабля
Глава десятая. И от девушек тоже бывает польза
Глава одиннадцатая. Встреча в Рагузе
Глава двенадцатая. Сумрачные долины
Глава тринадцатая. Враг приходит на помощь
Глава четырнадцатая. Озеро
Глава пятнадцатая. У ворот монастыря
Глава шестнадцатая. Разоблачены
Глава семнадцатая. Черные глубины Варны
Глава восемнадцатая. Обратный путь
Глава девятнадцатая. Когти Ястреба
Глава двадцатая. Снова в Венеции
А.С.3авадье. Послесловие
Издательство просит отзывы об этой книге присылать по адресу:
Москва, А-47, ул. Горького, 43. Дом детской книги,
Для среднего школьного возраста
Дзкефри Триз
ХОЛМЫ ВАРНЫ
*****
Ответственный редактор Н. С. Дроздова. Художественный редактор С. И.
Нижняя. Технический редактор С. Г. Маркович. Корректоры Л. М. Короткина и Т.
П. Лейзерович. Сдано в набор 14/11 1966 г. Подписано к печати ll/IV1966r.
Формат 60х84 1/16. Печ. л. 12,5. Усл. печ. л. 11,66. (Уч.-изд. л. 10,16).
Тираж 50 000 экз. ТП 1966 .N5 510. Цена 43 коп. на бум. маш/мел.
Издательство "Детская литература". Москва, М. Черкасский пер., 1. Фабрика
"Детская книга" No 2 Росглавполиграфпрома Комитета noi печати при Совете
Министров РСФСР. Ленинград 2-я Советская, 7. Заказ No 753.
Популярность: 1, Last-modified: Sun, 15 Dec 2002 23:06:45 GmT

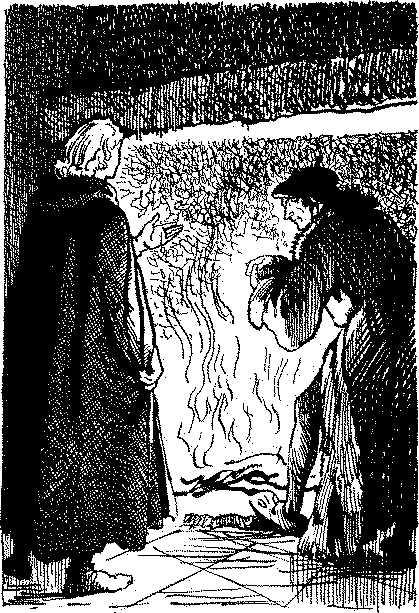
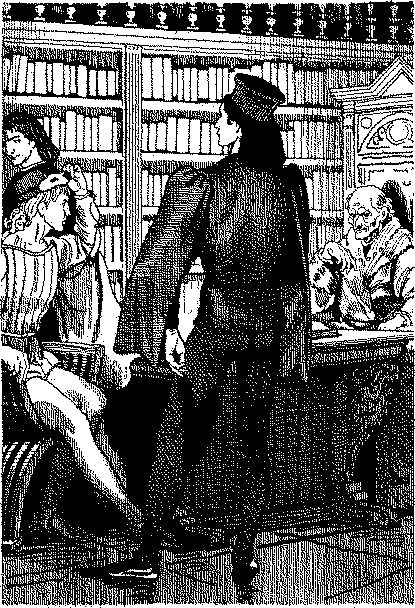 Они очутились в огромной библиотеке, где полки уходили под самый
потолок и к верхним можно было добраться только по узкой галерейке,
опоясывавшей комнату на половине ее высоты. Однако сейчас эта галерея была
погружена в полумрак. В комнате были зажжены только две массивные серебряные
лампы, стоявшие на столе в дальнем ее конце. Там сидел невысокий щуплый
человек, который в этом огромном зале казался еще более щуплым и маленьким.
Алана подвели почти к самому столу, заваленному старыми пергаментами.
-- Не снять ли нам маски? -- изысканно вежливым тоном спросил человек
за столом. -- Ведь по сравнению со мной ты находишься в более выгодном
положении, мессер Дрейтон.
Провожатые Алана сняли маски, и он последовал их примеру. Человек за
столом устремил на его лицо пытливый взгляд. Алан, в свою очередь,
внимательно его рассматривал. Перед ним сидел сгорбленный старик с
прекрасным лбом мыслителя, почти лысый, если не считать серебристого пушка
над ушами. В холодных беспощадных глазах чувствовалась та же твердая
решимость, что и в квадратной нижней челюсти, очертаний которой не смягчил
даже клинышек бороды. На нем был строгий, но очень дорогой костюм из
коричневого бархата, а на груди, на золотой цепи, висел усеянный
драгоценными камнями медальон. Он то и дело касался его длинными белыми
пальцами, которые на фоне темного бархата казались холодными серебристыми
рыбками. Они были унизаны перстнями -- на некоторых сверкало даже по три
драгоценных камня.
Первым прервал молчание Алан.
-- Это ты находишься в более выгодном положении по сравнению со мной,
синьор, -- сказал он резко. -- Ведь тебе известно мое имя, а мне твое --
нет. И я не знаю, почему меня насильно привели сюда, хотя тебе, вероятно,
известно и это.
-- О да... Чезаре, предложи нашему юному гостю стул. Бернардо, ты нам
пока не нужен.
-- Как угодно его светлости. -- И, поклонившись, тот, кого назвали
Бернардо, ушел.
Алан повернулся, чтобы взять стул у второго своего похитителя, и тут
впервые увидел его лицо. Оно показалось ему страшным, хотя Чезаре был молод
и очень красив нежной, почти девичьей красотой. Но в нем не чувствовалось
девичьей кротости, а глаза его были жестокими, как глаза кошки.
-- Что касается моего имени, -- сказал человек за столом все тем же
вкрадчивым тоном, -- то мы пока не будем его называть, но я могу тебя
заверить, что это славное имя. Кроме того, я очень богат. Конечно,
упоминание об этом скорее пристало бы простолюдину, но оно оправдывается
обстоятельствами. Я хотел бы предложить тебе выгодную сделку, и лучше, чтобы
ты с самого начала знал, что я могу и готов щедро заплатить тебе.
Алан слегка поклонился.
-- Я не сомневаюсь, что вижу перед собой знатного вельможу, хотя мне и
не дозволено узнать твое имя.
Он уже догадался, что его собеседник был герцогом -- об этом
свидетельствовали и золоченый герб на спинке кресла, и то, что слуга назвал
его "светлостью". Но раз он скрыл свое имя, Алан не собирался оказывать ему
почтение, на которое давал право этот титул.
-- Однако, -- продолжал он, -- я всего лишь бедный английский студент,
и у меня нет ничего ценного.
-- Ты ошибаешься, юноша. У тебя есть рукопись греческого комедиографа
Алексида.
Алан в непритворном изумлении широко раскрыл глаза.
-- Ах, если бы это было так! -- сказал он совершенно искренне.
-- Во всяком случае, ты знаешь, где она находится.
-- Ах, если бы это было так! -- повторил Алан, который начал о многом
догадываться. -- Это шутка, синьор? Такая библиотека свидетельствует о твоей
большой учености, и ты лучше меня должен знать, что до наших дней не
сохранилось ни одной комедии Алексида. Почему ты вообразил, что я могу
хранить подобное сокровище? Да ведь если бы такая рукопись существовала, она
стоила бы...
-- Она существует, -- перебил его герцог, -- и стоит... почти любую
цену, которую ты назначишь.
-- Если это не шутка, синьор, то твои люди просто ошиблись и привели к
тебе не того человека. Я только что приехал из Англии, меня зовут...
-- Мне все это известно. -- Герцог взмахнул белой рукой и наклонился
вперед. Над его лысой головой на высокой спинке кресла распростерлись резные
крылья золоченого ястреба. Алан вспомнил, что этот же герб он видел на
ливрее привратника. -- Тебя зовут Алан Дрейтон, и ты живешь у Мануция. Ты
собираешься достать для него рукопись Алексида. Может быть, мы кончим играть
в прятки, мой милый?
Алан поперхнулся.
-- Хорошо, предположим, это правда. Так что же тебе нужно?
-- Рукопись. Ты привезешь ее мне, а не Мануцию. -- Перехватив взгляд
Алана, он тонко улыбнулся. -- Если тебе нужны деньги, то здравый смысл
подскажет тебе, что я могу заплатить куда больше, чем этот книгопечатник. Но
если, как мне кажется, ты действуешь из более достойных побуждений и ценишь
сокровища знания, то погляди на эту библиотеку. Согласись, что это -- более
достойное хранилище для Алексида, чем дом Мануция.
-- Да, это прекрасный зал, -- осторожно ответил Алан, оглядываясь по
сторонам.
-- Позволь, я покажу тебе мою библиотеку. -- Герцог с неожиданной
легкостью поднялся на ноги, зажег две свечи от лампы на столе и, высоко
подняв подсвечник, повел Алана за собой.
-- Здесь хранятся две тысячи книг, но среди них не найдется ни одной
печатной страницы. Я не могу слышать о печатном станке! Мерзкое новомодное
изобретение, имеющее только одну цель -- метать бисер учености перед свиным
стадом простолюдинов.
Алан с трудом сдержал свое возмущение. Библиотека, безусловно, была
великолепна, и этот ночной осмотр невольно увлек его, хотя он ни на минуту
не забывал об опасном положении, в которое попал, и о зловещем Чезаре,
неслышно следовавшем за ними по пятам.
-- Я собирал книги всю свою жизнь, -- продолжал герцог, -- и потратил
на них более двадцати тысяч дукатов. Так что суди сам, какую цену я готов
заплатить.
Алан поднял свечу повыше, и она озарила редкую рукопись сочинений
Платона, которую герцог тут же с гордостью протянул ему.
-- Эта библиотека -- подлинная сокровищница, -- сказал юноша искренне.
-- Каким образом тебе удалось найти все это?
Герцог самодовольно улыбнулся.
-- Видишь ли, есть люди, которые сделали это своим ремеслом. Богатые
купцы, особенно флорентийские, которые рассылают своих приказчиков по всей
Европе и даже в Малую Азию, всегда поручают им высматривать интересные
рукописи. Беда в том, что они, естественно, продают свои находки тому, кто
предложит больше. А с владетельным князем или его святейшеством папой даже я
не всегда могу соперничать. Поэтому я предпочитаю пользоваться услугами моих
собственных доверенных лиц -- во главе их стоит Чезаре, с которым ты уже
знаком. Я сообщаю Чезаре, что именно мне нужно, и он никогда не обманывает
моих ожиданий.
Тут герцог усмехнулся, и от этой усмешки Алан похолодел. Чезаре,
услышав, что его хвалят, подошел поближе, но его красивое лицо по-прежнему
оставалось хмурым и настороженным.
-- Погляди-ка на этого Гомера, -- продолжал герцог, протягивая Алану
другую книгу в прекрасном переплете из позолоченной кожи. -- Это, пожалуй,
самая большая драгоценность в моем собрании. А, Чезаре?
-- Она обошлась в две человеческие жизни, -- ответил молодой человек.
-- Ну и что?
-- Действительно, ну и что? -- повторил его господин. -- То, что нам
нужно, мы берем. Это наш девиз. Не так ли, Чезаре?
-- И очень хороший девиз. Мессеру Дрейтону будет полезно его запомнить.
Перелистывая страницы Гомера, Алан лихорадочно обдумывал положение. С
Альдом его связывает дружба, но не деловые обязательства. Если он согласится
служить герцогу, его поступок могут назвать не слишком красивым, но отнюдь
не бесчестным. Ведь в конце-то концов это ему предстоит совершить опасное
путешествие в Варну. А герцог заплатит щедро, и он будет обеспечен на всю
жизнь...
Но и рассуждая так, Алан отлично понимал, что никогда не предаст Альда,
не обманет доверия Эразма, открывшего ему свою тайну. К тому же им рукопись
была нужна для того, чтобы напечатать ее и подарить комедию Алексида всему
миру, герцог же собирался, как скупец, скрыть ее ото всех в своей
библиотеке, чтобы потом хвастать, что ни у кого больше нет второго такого
сокровища.
Какой же смысл спасать Алексида из его темницы в Варне только для того,
чтобы вновь заключить его в венецианскую тюрьму, пусть и более роскошную?
Ну, а пока что делать? Герцог, несмотря на всю свою любовь к книгам, не
производил впечатления человека чести. Алан решил, что он дорожит своими
рукописями не потому, что они хранят сокровища знаний, а просто как
собранием редкостей. Ну, а красивый, как Аполлон, Чезаре, его доверенный,
был, судя по всему, опасен, как ядовитая змея.
-- Час уже поздний, синьор, -- сказал он наконец, -- и поскольку ты
убедился, что я не могу быть тебе полезен, надеюсь, мне разрешено будет
удалиться?
Герцог резко повернулся к нему.
-- Продолжаем играть в прятки? -- спросил он невозмутимо. -- Разве я не
сумел убедить тебя, что ты не прогадаешь, если согласишься выполнить мое
поручение?
-- Это прекрасная библиотека, но... я уже связан словом с другими.
-- Быть может, я выразил свою мысль недостаточно ясно. -- Герцог
говорил размеренно и зловеще. -- Хотя ты и отрицаешь это, я знаю, что тебе
известно, где находится рукопись Алексида. Она будет принадлежать мне. Мне
-- и никому другому! Я не уступлю ее даже Джованни Медичи! Ты продашь мне
свои сведения прежде, чем покинешь этот дом. А то, что нам не продают, мы
берем.
-- Но каким образом вы можете "взять" сведения? -- Почему-то, попадая в
опасное положение, Алан всегда начинал говорить насмешливо.
-- Это уж дело Чезаре. Не правда ли, Чезаре?
Молодой человек оскалил зубы.
-- Твоя светлость может на меня положиться. Мы с Бернардо сумеем
развязать ему язык. Завтра утром тебе будет известно все, что он знает.
Алан переводил взгляд с одного на другого, оценивая положение. У него
не было оружия, не было ничего, кроме книги и подсвечника. Руки его заняты,
и ему не удастся выхватить кинжал у кого-нибудь из них. Да и поможет ли это?
Предположим, он даже сумеет справиться с ними обоими. Они, несомненно,
успеют поднять тревогу, и из дворца ему все равно не выбраться.
Может быть, попробовать что-нибудь другое? Как-нибудь осторожно, не
вызывая подозрений, избавиться от книги и подсвечника, освободить обе руки,
а потом внезапно броситься на герцога, выхватить из драгоценных ножен на его
поясе кинжал и прижать острие к груди старика прежде, чем Чезаре успеет
вмешаться? Быть может, такой заложник обеспечит ему свободный выход? И, ведя
герцога под руку, прижимая кинжал к его боку, он покинет дворец и окажется
на свободе?
Но это слишком рискованно. Да и герцог, вероятно, носит под бархатом
кольчугу. А что делать тогда?
"Какой же я дурак!" -- внезапно подумал Алан. Он вдруг сообразил, что
именно те предметы, от которых он так хотел избавиться, и могут открыть ему
путь к свободе.
-- Назад, Чезаре! -- сказал он. -- Или твой господин никогда тебе не
простит!
Они очутились в огромной библиотеке, где полки уходили под самый
потолок и к верхним можно было добраться только по узкой галерейке,
опоясывавшей комнату на половине ее высоты. Однако сейчас эта галерея была
погружена в полумрак. В комнате были зажжены только две массивные серебряные
лампы, стоявшие на столе в дальнем ее конце. Там сидел невысокий щуплый
человек, который в этом огромном зале казался еще более щуплым и маленьким.
Алана подвели почти к самому столу, заваленному старыми пергаментами.
-- Не снять ли нам маски? -- изысканно вежливым тоном спросил человек
за столом. -- Ведь по сравнению со мной ты находишься в более выгодном
положении, мессер Дрейтон.
Провожатые Алана сняли маски, и он последовал их примеру. Человек за
столом устремил на его лицо пытливый взгляд. Алан, в свою очередь,
внимательно его рассматривал. Перед ним сидел сгорбленный старик с
прекрасным лбом мыслителя, почти лысый, если не считать серебристого пушка
над ушами. В холодных беспощадных глазах чувствовалась та же твердая
решимость, что и в квадратной нижней челюсти, очертаний которой не смягчил
даже клинышек бороды. На нем был строгий, но очень дорогой костюм из
коричневого бархата, а на груди, на золотой цепи, висел усеянный
драгоценными камнями медальон. Он то и дело касался его длинными белыми
пальцами, которые на фоне темного бархата казались холодными серебристыми
рыбками. Они были унизаны перстнями -- на некоторых сверкало даже по три
драгоценных камня.
Первым прервал молчание Алан.
-- Это ты находишься в более выгодном положении по сравнению со мной,
синьор, -- сказал он резко. -- Ведь тебе известно мое имя, а мне твое --
нет. И я не знаю, почему меня насильно привели сюда, хотя тебе, вероятно,
известно и это.
-- О да... Чезаре, предложи нашему юному гостю стул. Бернардо, ты нам
пока не нужен.
-- Как угодно его светлости. -- И, поклонившись, тот, кого назвали
Бернардо, ушел.
Алан повернулся, чтобы взять стул у второго своего похитителя, и тут
впервые увидел его лицо. Оно показалось ему страшным, хотя Чезаре был молод
и очень красив нежной, почти девичьей красотой. Но в нем не чувствовалось
девичьей кротости, а глаза его были жестокими, как глаза кошки.
-- Что касается моего имени, -- сказал человек за столом все тем же
вкрадчивым тоном, -- то мы пока не будем его называть, но я могу тебя
заверить, что это славное имя. Кроме того, я очень богат. Конечно,
упоминание об этом скорее пристало бы простолюдину, но оно оправдывается
обстоятельствами. Я хотел бы предложить тебе выгодную сделку, и лучше, чтобы
ты с самого начала знал, что я могу и готов щедро заплатить тебе.
Алан слегка поклонился.
-- Я не сомневаюсь, что вижу перед собой знатного вельможу, хотя мне и
не дозволено узнать твое имя.
Он уже догадался, что его собеседник был герцогом -- об этом
свидетельствовали и золоченый герб на спинке кресла, и то, что слуга назвал
его "светлостью". Но раз он скрыл свое имя, Алан не собирался оказывать ему
почтение, на которое давал право этот титул.
-- Однако, -- продолжал он, -- я всего лишь бедный английский студент,
и у меня нет ничего ценного.
-- Ты ошибаешься, юноша. У тебя есть рукопись греческого комедиографа
Алексида.
Алан в непритворном изумлении широко раскрыл глаза.
-- Ах, если бы это было так! -- сказал он совершенно искренне.
-- Во всяком случае, ты знаешь, где она находится.
-- Ах, если бы это было так! -- повторил Алан, который начал о многом
догадываться. -- Это шутка, синьор? Такая библиотека свидетельствует о твоей
большой учености, и ты лучше меня должен знать, что до наших дней не
сохранилось ни одной комедии Алексида. Почему ты вообразил, что я могу
хранить подобное сокровище? Да ведь если бы такая рукопись существовала, она
стоила бы...
-- Она существует, -- перебил его герцог, -- и стоит... почти любую
цену, которую ты назначишь.
-- Если это не шутка, синьор, то твои люди просто ошиблись и привели к
тебе не того человека. Я только что приехал из Англии, меня зовут...
-- Мне все это известно. -- Герцог взмахнул белой рукой и наклонился
вперед. Над его лысой головой на высокой спинке кресла распростерлись резные
крылья золоченого ястреба. Алан вспомнил, что этот же герб он видел на
ливрее привратника. -- Тебя зовут Алан Дрейтон, и ты живешь у Мануция. Ты
собираешься достать для него рукопись Алексида. Может быть, мы кончим играть
в прятки, мой милый?
Алан поперхнулся.
-- Хорошо, предположим, это правда. Так что же тебе нужно?
-- Рукопись. Ты привезешь ее мне, а не Мануцию. -- Перехватив взгляд
Алана, он тонко улыбнулся. -- Если тебе нужны деньги, то здравый смысл
подскажет тебе, что я могу заплатить куда больше, чем этот книгопечатник. Но
если, как мне кажется, ты действуешь из более достойных побуждений и ценишь
сокровища знания, то погляди на эту библиотеку. Согласись, что это -- более
достойное хранилище для Алексида, чем дом Мануция.
-- Да, это прекрасный зал, -- осторожно ответил Алан, оглядываясь по
сторонам.
-- Позволь, я покажу тебе мою библиотеку. -- Герцог с неожиданной
легкостью поднялся на ноги, зажег две свечи от лампы на столе и, высоко
подняв подсвечник, повел Алана за собой.
-- Здесь хранятся две тысячи книг, но среди них не найдется ни одной
печатной страницы. Я не могу слышать о печатном станке! Мерзкое новомодное
изобретение, имеющее только одну цель -- метать бисер учености перед свиным
стадом простолюдинов.
Алан с трудом сдержал свое возмущение. Библиотека, безусловно, была
великолепна, и этот ночной осмотр невольно увлек его, хотя он ни на минуту
не забывал об опасном положении, в которое попал, и о зловещем Чезаре,
неслышно следовавшем за ними по пятам.
-- Я собирал книги всю свою жизнь, -- продолжал герцог, -- и потратил
на них более двадцати тысяч дукатов. Так что суди сам, какую цену я готов
заплатить.
Алан поднял свечу повыше, и она озарила редкую рукопись сочинений
Платона, которую герцог тут же с гордостью протянул ему.
-- Эта библиотека -- подлинная сокровищница, -- сказал юноша искренне.
-- Каким образом тебе удалось найти все это?
Герцог самодовольно улыбнулся.
-- Видишь ли, есть люди, которые сделали это своим ремеслом. Богатые
купцы, особенно флорентийские, которые рассылают своих приказчиков по всей
Европе и даже в Малую Азию, всегда поручают им высматривать интересные
рукописи. Беда в том, что они, естественно, продают свои находки тому, кто
предложит больше. А с владетельным князем или его святейшеством папой даже я
не всегда могу соперничать. Поэтому я предпочитаю пользоваться услугами моих
собственных доверенных лиц -- во главе их стоит Чезаре, с которым ты уже
знаком. Я сообщаю Чезаре, что именно мне нужно, и он никогда не обманывает
моих ожиданий.
Тут герцог усмехнулся, и от этой усмешки Алан похолодел. Чезаре,
услышав, что его хвалят, подошел поближе, но его красивое лицо по-прежнему
оставалось хмурым и настороженным.
-- Погляди-ка на этого Гомера, -- продолжал герцог, протягивая Алану
другую книгу в прекрасном переплете из позолоченной кожи. -- Это, пожалуй,
самая большая драгоценность в моем собрании. А, Чезаре?
-- Она обошлась в две человеческие жизни, -- ответил молодой человек.
-- Ну и что?
-- Действительно, ну и что? -- повторил его господин. -- То, что нам
нужно, мы берем. Это наш девиз. Не так ли, Чезаре?
-- И очень хороший девиз. Мессеру Дрейтону будет полезно его запомнить.
Перелистывая страницы Гомера, Алан лихорадочно обдумывал положение. С
Альдом его связывает дружба, но не деловые обязательства. Если он согласится
служить герцогу, его поступок могут назвать не слишком красивым, но отнюдь
не бесчестным. Ведь в конце-то концов это ему предстоит совершить опасное
путешествие в Варну. А герцог заплатит щедро, и он будет обеспечен на всю
жизнь...
Но и рассуждая так, Алан отлично понимал, что никогда не предаст Альда,
не обманет доверия Эразма, открывшего ему свою тайну. К тому же им рукопись
была нужна для того, чтобы напечатать ее и подарить комедию Алексида всему
миру, герцог же собирался, как скупец, скрыть ее ото всех в своей
библиотеке, чтобы потом хвастать, что ни у кого больше нет второго такого
сокровища.
Какой же смысл спасать Алексида из его темницы в Варне только для того,
чтобы вновь заключить его в венецианскую тюрьму, пусть и более роскошную?
Ну, а пока что делать? Герцог, несмотря на всю свою любовь к книгам, не
производил впечатления человека чести. Алан решил, что он дорожит своими
рукописями не потому, что они хранят сокровища знаний, а просто как
собранием редкостей. Ну, а красивый, как Аполлон, Чезаре, его доверенный,
был, судя по всему, опасен, как ядовитая змея.
-- Час уже поздний, синьор, -- сказал он наконец, -- и поскольку ты
убедился, что я не могу быть тебе полезен, надеюсь, мне разрешено будет
удалиться?
Герцог резко повернулся к нему.
-- Продолжаем играть в прятки? -- спросил он невозмутимо. -- Разве я не
сумел убедить тебя, что ты не прогадаешь, если согласишься выполнить мое
поручение?
-- Это прекрасная библиотека, но... я уже связан словом с другими.
-- Быть может, я выразил свою мысль недостаточно ясно. -- Герцог
говорил размеренно и зловеще. -- Хотя ты и отрицаешь это, я знаю, что тебе
известно, где находится рукопись Алексида. Она будет принадлежать мне. Мне
-- и никому другому! Я не уступлю ее даже Джованни Медичи! Ты продашь мне
свои сведения прежде, чем покинешь этот дом. А то, что нам не продают, мы
берем.
-- Но каким образом вы можете "взять" сведения? -- Почему-то, попадая в
опасное положение, Алан всегда начинал говорить насмешливо.
-- Это уж дело Чезаре. Не правда ли, Чезаре?
Молодой человек оскалил зубы.
-- Твоя светлость может на меня положиться. Мы с Бернардо сумеем
развязать ему язык. Завтра утром тебе будет известно все, что он знает.
Алан переводил взгляд с одного на другого, оценивая положение. У него
не было оружия, не было ничего, кроме книги и подсвечника. Руки его заняты,
и ему не удастся выхватить кинжал у кого-нибудь из них. Да и поможет ли это?
Предположим, он даже сумеет справиться с ними обоими. Они, несомненно,
успеют поднять тревогу, и из дворца ему все равно не выбраться.
Может быть, попробовать что-нибудь другое? Как-нибудь осторожно, не
вызывая подозрений, избавиться от книги и подсвечника, освободить обе руки,
а потом внезапно броситься на герцога, выхватить из драгоценных ножен на его
поясе кинжал и прижать острие к груди старика прежде, чем Чезаре успеет
вмешаться? Быть может, такой заложник обеспечит ему свободный выход? И, ведя
герцога под руку, прижимая кинжал к его боку, он покинет дворец и окажется
на свободе?
Но это слишком рискованно. Да и герцог, вероятно, носит под бархатом
кольчугу. А что делать тогда?
"Какой же я дурак!" -- внезапно подумал Алан. Он вдруг сообразил, что
именно те предметы, от которых он так хотел избавиться, и могут открыть ему
путь к свободе.
-- Назад, Чезаре! -- сказал он. -- Или твой господин никогда тебе не
простит!
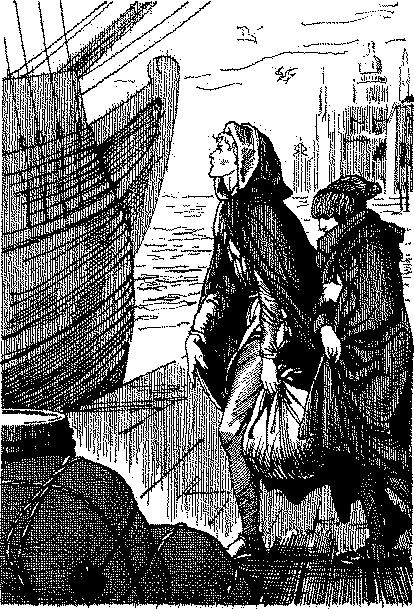 Заря еще не занялась, а факелов у них не было, но юнга тем не менее
уверенно шел по темным улицам, громко стуча по мостовой тяжелыми деревянными
башмаками. Вскоре они уже оказались на пристани, возле которой стоял
"Дельфин". На корабле, готовясь к отплытию, суетились матросы. У сходен
стоял какой-то тощий человек и тревожно постукивал пальцем по украшенному
резьбой борту.
Алан ни за что не догадался бы, что перед ним капитан корабля, если бы
юнга, прежде чем удалиться на корму, не ткнул в ту сторону пальцем.
-- Капитан Монтано? -- вполголоса спросил Алан.
Тот оглядел его в неверном свете фонаря.
-- От мессера Мануция? -- спросил он унылым голосом. -- Ладно. Я тебя и
жду. Твои вещи уже здесь. Завтракать будем, когда отплывем. Я спущусь к
тебе, как только мы выйдем из гавани,
Алан считал, что оставаться на палубе до отплытия опасно, и поспешил
спуститься в каюту. "Дельфин" показался ему старой лоханью (днем это
впечатление вполне подтвердилось), и он мысленно поздравил себя с тем, что
плыть им предстоит по тихому Адриатическому морю, а не по бурным водам
Ла-Манша.
В каюте было душно, стоял тяжелый запах, и Алан с большой радостью
услышал шум на палубе: значит, они отчалили и теперь медленно выходят на
веслах в открытое море. Надвинув шляпу на глаза, чтобы остаться неузнанным в
случае, если на берегу вдруг окажется соглядатай, он поднялся на палубу.
Он на всю жизнь запомнил этот час перед завтраком, когда небо на
востоке над морем побледнело, а потом стало золотым, и из отступающего
сумрака стали постепенно возникать купола и башни Венеции. Опершись о борт,
Алан смотрел на великолепный город, теснившийся среди лагун на сотнях
островов, и следил, как первые лучи солнца, словно стрелы, падали на крыши
самых высоких зданий. Богатейший порт мира, думал он, не имеющий соперников;
Алан и не подозревал, что расцвет Венеции уже позади, что он сам еще доживет
до того дня, когда ее затмят западные города, стоящие на новых океанских
путях в Америку и Индию.
Капитан Монтано уныло следил, как его матросы подымают латинский
парус[1]. По-прежнему прямо им в корму дул северозападный ветер, самый
попутный из всех возможных. Но даже и это как будто не радовало хмурого
моряка.
[1]Треугольные паруса особого типа, появившиеся в средние века на
судах, плававших по Средиземному морю между "латинскими странами" (Италия,
Франция и другие).
Они уже вышли в море, и город, расположенный на низких островах,
скрылся из виду.
-- Пожалуй, пойдем позавтракаем, -- сказал капитан мрачно. -- Хоть мне
от еды никакой радости нет.
-- Ну так я могу съесть твою долю, -- раздался веселый голос, и вслед
за ними по трапу скользнул темно-рыжий юнга.
Но Алан, вздрогнув, понял, что перед ним не юноша. Несмотря на сапоги и
панталоны, он узнал Анджелу д'Азола.
Заря еще не занялась, а факелов у них не было, но юнга тем не менее
уверенно шел по темным улицам, громко стуча по мостовой тяжелыми деревянными
башмаками. Вскоре они уже оказались на пристани, возле которой стоял
"Дельфин". На корабле, готовясь к отплытию, суетились матросы. У сходен
стоял какой-то тощий человек и тревожно постукивал пальцем по украшенному
резьбой борту.
Алан ни за что не догадался бы, что перед ним капитан корабля, если бы
юнга, прежде чем удалиться на корму, не ткнул в ту сторону пальцем.
-- Капитан Монтано? -- вполголоса спросил Алан.
Тот оглядел его в неверном свете фонаря.
-- От мессера Мануция? -- спросил он унылым голосом. -- Ладно. Я тебя и
жду. Твои вещи уже здесь. Завтракать будем, когда отплывем. Я спущусь к
тебе, как только мы выйдем из гавани,
Алан считал, что оставаться на палубе до отплытия опасно, и поспешил
спуститься в каюту. "Дельфин" показался ему старой лоханью (днем это
впечатление вполне подтвердилось), и он мысленно поздравил себя с тем, что
плыть им предстоит по тихому Адриатическому морю, а не по бурным водам
Ла-Манша.
В каюте было душно, стоял тяжелый запах, и Алан с большой радостью
услышал шум на палубе: значит, они отчалили и теперь медленно выходят на
веслах в открытое море. Надвинув шляпу на глаза, чтобы остаться неузнанным в
случае, если на берегу вдруг окажется соглядатай, он поднялся на палубу.
Он на всю жизнь запомнил этот час перед завтраком, когда небо на
востоке над морем побледнело, а потом стало золотым, и из отступающего
сумрака стали постепенно возникать купола и башни Венеции. Опершись о борт,
Алан смотрел на великолепный город, теснившийся среди лагун на сотнях
островов, и следил, как первые лучи солнца, словно стрелы, падали на крыши
самых высоких зданий. Богатейший порт мира, думал он, не имеющий соперников;
Алан и не подозревал, что расцвет Венеции уже позади, что он сам еще доживет
до того дня, когда ее затмят западные города, стоящие на новых океанских
путях в Америку и Индию.
Капитан Монтано уныло следил, как его матросы подымают латинский
парус[1]. По-прежнему прямо им в корму дул северозападный ветер, самый
попутный из всех возможных. Но даже и это как будто не радовало хмурого
моряка.
[1]Треугольные паруса особого типа, появившиеся в средние века на
судах, плававших по Средиземному морю между "латинскими странами" (Италия,
Франция и другие).
Они уже вышли в море, и город, расположенный на низких островах,
скрылся из виду.
-- Пожалуй, пойдем позавтракаем, -- сказал капитан мрачно. -- Хоть мне
от еды никакой радости нет.
-- Ну так я могу съесть твою долю, -- раздался веселый голос, и вслед
за ними по трапу скользнул темно-рыжий юнга.
Но Алан, вздрогнув, понял, что перед ним не юноша. Несмотря на сапоги и
панталоны, он узнал Анджелу д'Азола.
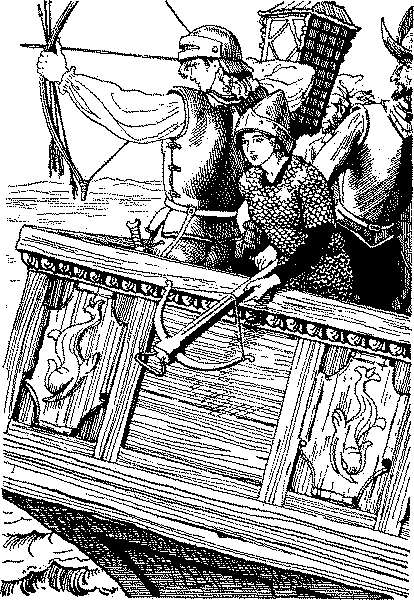 Алан оглянулся. Она старательно натягивала тетиву арбалета, готовясь к
новому выстрелу. Но будет ли для него время? Галера почти поравнялась с
ними, и ни мореходное искусство, ни меткая стрельба уже не могли отогнать
ее. Вот острый таран прошел сбоку под высоким ютом "Дельфина". На вантах,
готовясь к прыжку, висели загорелые бородачи. Алан натянул лук и высматривал
вожака, горько жалея, что рядом не лежит полный колчан и он не может
воспользоваться уроками старого Эндрью и выпускать стрелу за стрелой без
остановки. У него оставалась одна-единственная стрела. Он выбрал мишень и
спустил тетиву. Пират упал с мачты, словно спелая слива, и с громким
всплеском исчез под водой в узком промежутке между кораблями. Алан бросил
лук и схватил саблю.
Гребцы на галере убрали весла. В воздухе, словно змеи, замелькали
веревки с крючьями. Длинные багры жадно царапали борт "Дельфина", стараясь
вцепиться в него. Вот корабли столкнулись, разошлись, снова столкнулись -- и
уже больше не расходились. На палубу "Дельфина", словно град, посыпались
босоногие пираты. Монтано собрал свою команду на юте, готовясь к последней
схватке, -- людей было слишком мало, и он не мог построить их у борта, чтобы
не пустить пиратов на корабль. Но сейчас у них было одно преимущество: ют
поднимался над кишевшей врагами палубой, словно крохотная крепость, и
взобраться на него можно было только по двум лестницам на правом и левом
борту, почти таким же крутым, как трапы, хотя они и были снабжены перилами.
Монтано встал у одной из лестниц. На его худом нахмуренном лице нельзя
было заметить никаких признаков страха. Почетный пост у второй лестницы,
казалось, никого не привлекал, и туда направился Алан.
Пираты без промедления кинулась штурмовать ют. Они дрались со свирепым
упорством, не обращая внимания на раны. "Странно, -- думал Алан, нанося и
отражая удары, -- странно. Ведь они дерутся только ради наживы, а не за
бога, за короля или за какое-нибудь великое дело. Мертвому пирату добыча с
"Дельфина" не принесет никакой радости, да и раненому она вряд ли послужит
большим утешением".
Как странно устроен мир! Всего лишь несколько месяцев назад он дрался в
кембриджской харчевне со студентами своего же университета, а сейчас должен
сражаться не на жизнь, а на смерть с далматскими пиратами, и снова в руках у
него чужое оружие! "Если я уцелею, -- подумал он со слабой улыбкой, -- мне
все-таки надо будет обзавестись собственной шпагой".
Ага! Этот тоже не был знаком с любимым приемом старого Эндрью! Убитый
пират покатился по лестнице, сбивая тех, кто лез вслед за ним.
Но это продолжалось недолго. Кому-то, видимо, удалось одолеть Монтано
-- во всяком случае, несколько пиратов взобрались на ют, и вокруг уже кипела
схватка. Еще одна-две минуты -- и все будет кончено. Несколько матросов с
"Дельфина" прыгнули в море, другие, упав на колени, молили о пощаде, а
Монтано неподвижно лежал возле лестницы.
Рядом с Аланом очутилась Анджела -- целая и невредимая, она энергично
размахивала пикой.
-- В каюту! -- скомандовал он, -- Это наша единственная возможность
спастись.
Сам он не слишком-то верил, что они найдут там спасение -- разве что
продлят свою жизнь на пять минут.
-- А как мы туда попадем?
-- Прыгай на палубу, я за тобой.
Анджелу никак нельзя было упрекнуть в нерешительности. Она без
колебаний перекинула ноги через перила и спрыгнула на палубу. Никто этого не
заметил. Те пираты, которым еще не надоело драться, лезли на ют по боковым
лестницам. Но большая часть их товарищей уже разбежалась по кораблю и
занялась грабежом. Алан сделал выпад. Его новый противник отступил, и юноша,
спрыгнув на палубу, очутился возле Анджелы.
-- Быстрей! -- шепнул он.
Они бросились вниз по трапу.
-- Только не в капитанскую каюту! -- сказала Анджела. -- Они сразу
кинутся туда искать деньги.
-- Ничего... Я придумал план. Он первым вбежал в каюту.
-- Почему ты не задвинул засов? -- изумленно спросила Анджела.
-- Не стоит. Вот посмотри...
Он подбежал к окну.
Это кормовое окно было гордостью Монтано -- прекрасное окно с мелким
переплетом и даже с цветными стеклами. Алан выглянул наружу и облегченно
вздохнул.
-- Я так и надеялся. Ты боишься высоты, Анджела?
-- Не слишком.
-- Отлично. Ну так лезь первая.
-- Лезть? Куда?
-- В окно.
-- Но... но я не доплыву отсюда до берега,,
-- Будем надеяться, что тебе совсем не придется плавать. Если не
разожмешь руки, то и не придется.
Алан оглянулся. Она старательно натягивала тетиву арбалета, готовясь к
новому выстрелу. Но будет ли для него время? Галера почти поравнялась с
ними, и ни мореходное искусство, ни меткая стрельба уже не могли отогнать
ее. Вот острый таран прошел сбоку под высоким ютом "Дельфина". На вантах,
готовясь к прыжку, висели загорелые бородачи. Алан натянул лук и высматривал
вожака, горько жалея, что рядом не лежит полный колчан и он не может
воспользоваться уроками старого Эндрью и выпускать стрелу за стрелой без
остановки. У него оставалась одна-единственная стрела. Он выбрал мишень и
спустил тетиву. Пират упал с мачты, словно спелая слива, и с громким
всплеском исчез под водой в узком промежутке между кораблями. Алан бросил
лук и схватил саблю.
Гребцы на галере убрали весла. В воздухе, словно змеи, замелькали
веревки с крючьями. Длинные багры жадно царапали борт "Дельфина", стараясь
вцепиться в него. Вот корабли столкнулись, разошлись, снова столкнулись -- и
уже больше не расходились. На палубу "Дельфина", словно град, посыпались
босоногие пираты. Монтано собрал свою команду на юте, готовясь к последней
схватке, -- людей было слишком мало, и он не мог построить их у борта, чтобы
не пустить пиратов на корабль. Но сейчас у них было одно преимущество: ют
поднимался над кишевшей врагами палубой, словно крохотная крепость, и
взобраться на него можно было только по двум лестницам на правом и левом
борту, почти таким же крутым, как трапы, хотя они и были снабжены перилами.
Монтано встал у одной из лестниц. На его худом нахмуренном лице нельзя
было заметить никаких признаков страха. Почетный пост у второй лестницы,
казалось, никого не привлекал, и туда направился Алан.
Пираты без промедления кинулась штурмовать ют. Они дрались со свирепым
упорством, не обращая внимания на раны. "Странно, -- думал Алан, нанося и
отражая удары, -- странно. Ведь они дерутся только ради наживы, а не за
бога, за короля или за какое-нибудь великое дело. Мертвому пирату добыча с
"Дельфина" не принесет никакой радости, да и раненому она вряд ли послужит
большим утешением".
Как странно устроен мир! Всего лишь несколько месяцев назад он дрался в
кембриджской харчевне со студентами своего же университета, а сейчас должен
сражаться не на жизнь, а на смерть с далматскими пиратами, и снова в руках у
него чужое оружие! "Если я уцелею, -- подумал он со слабой улыбкой, -- мне
все-таки надо будет обзавестись собственной шпагой".
Ага! Этот тоже не был знаком с любимым приемом старого Эндрью! Убитый
пират покатился по лестнице, сбивая тех, кто лез вслед за ним.
Но это продолжалось недолго. Кому-то, видимо, удалось одолеть Монтано
-- во всяком случае, несколько пиратов взобрались на ют, и вокруг уже кипела
схватка. Еще одна-две минуты -- и все будет кончено. Несколько матросов с
"Дельфина" прыгнули в море, другие, упав на колени, молили о пощаде, а
Монтано неподвижно лежал возле лестницы.
Рядом с Аланом очутилась Анджела -- целая и невредимая, она энергично
размахивала пикой.
-- В каюту! -- скомандовал он, -- Это наша единственная возможность
спастись.
Сам он не слишком-то верил, что они найдут там спасение -- разве что
продлят свою жизнь на пять минут.
-- А как мы туда попадем?
-- Прыгай на палубу, я за тобой.
Анджелу никак нельзя было упрекнуть в нерешительности. Она без
колебаний перекинула ноги через перила и спрыгнула на палубу. Никто этого не
заметил. Те пираты, которым еще не надоело драться, лезли на ют по боковым
лестницам. Но большая часть их товарищей уже разбежалась по кораблю и
занялась грабежом. Алан сделал выпад. Его новый противник отступил, и юноша,
спрыгнув на палубу, очутился возле Анджелы.
-- Быстрей! -- шепнул он.
Они бросились вниз по трапу.
-- Только не в капитанскую каюту! -- сказала Анджела. -- Они сразу
кинутся туда искать деньги.
-- Ничего... Я придумал план. Он первым вбежал в каюту.
-- Почему ты не задвинул засов? -- изумленно спросила Анджела.
-- Не стоит. Вот посмотри...
Он подбежал к окну.
Это кормовое окно было гордостью Монтано -- прекрасное окно с мелким
переплетом и даже с цветными стеклами. Алан выглянул наружу и облегченно
вздохнул.
-- Я так и надеялся. Ты боишься высоты, Анджела?
-- Не слишком.
-- Отлично. Ну так лезь первая.
-- Лезть? Куда?
-- В окно.
-- Но... но я не доплыву отсюда до берега,,
-- Будем надеяться, что тебе совсем не придется плавать. Если не
разожмешь руки, то и не придется.
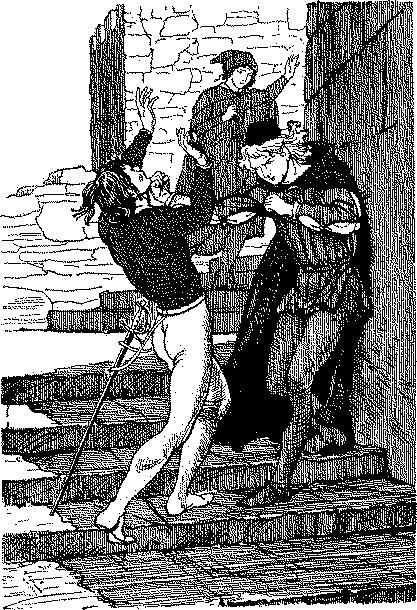 Алан догнал девушку на верхней площадке лестницы.
-- Быстрей! -- еле выговорил он. -- Надо поскорее затеряться в толпе.
Алан догнал девушку на верхней площадке лестницы.
-- Быстрей! -- еле выговорил он. -- Надо поскорее затеряться в толпе.
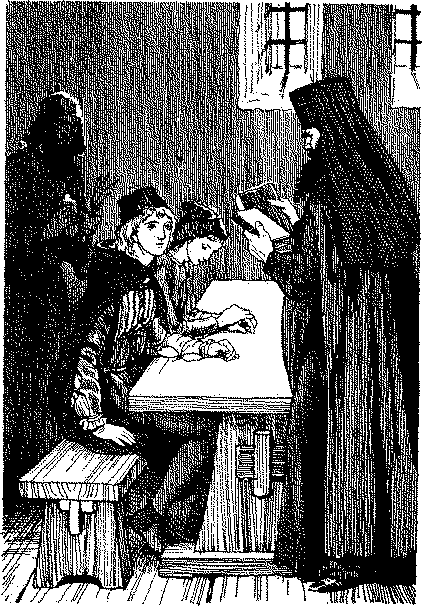 -- Прошу прощения, отец, -- сказал он робко, -- но разве не жаль
подчищать эти старые книги?
-- Жаль? -- крикнул монах, и темные сумрачные глаза под густыми бровями
внезапно вспыхнули гневным огнем. -- Эти книги полны языческой гнусности, в
них прославляются суетные мирские радости и дьяволы и дьяволицы, которых они
называли богами!
-- Это так, отец, и все-таки... -- нерешительно начал Алан, чувствуя,
что он все же должен сначала попытаться честно купить рукопись Алексида,
если только монахи согласятся ее продать. Но ни в коем случае нельзя
показывать, как она ему нужна. -- В Венеции есть много людей, которые охотно
заплатили бы за эти книги большие деньги. И на них ты купил бы втрое больше
пергамента, совсем нового и чистого...
Он не договорил. Монах ужа не мог больше сдерживать свое бешенство.
-- Мерзостные мысли! Позволить языческой нечисти отравлять людские
души! В Варне эти книги хоть не приносят вреда. Будь моя воля, они завтра же
пошли бы на растопку. Но старик настоятель трясется над всяким хламом.
-- Да, он очень стар, -- задумчиво произнесла Анджела.
-- Очень! -- Монах повернулся к ней, и гнев в его глазах сменился
злобной радостью. -- Ему уже недолго жить. А когда он умрет и будет избран
его преемник, в Варне многое переменится. И для начала вся эта языческая
мерзость полетит в кухонную печь. -- Он указал на полки, но вдруг
спохватился, что наговорил лишнего, и, сухо объяснив им, что они должны
делать, вышел из библиотеки. Они услышали, как в замке повернулся ключ. Их
заперли!
-- Давай искать, -- взволнованно шепнула Анджела. Вне себя от
радостного возбуждения, они бросились к полкам, на которых была небрежно
навалена "языческая мерзость". Там царил полный хаос. Очень скверная копия
"Илиады" соседствовала с посредственными греческими и латинскими авторами,
которые жили через несколько столетий после конца золотого века античной
литературы. Было нетрудно догадаться, что все книги, кроме тех, которые
имели отношение к христианской религии, здесь просто свалили в кучу, как
языческие и нечестивые. Анджела, выросшая в доме книгопечатника, знала все
эти произведения. Среди них не было ни одной редкой или ценной книги. Все
они уже были известны в Венеции. Многие были напечатаны, а гораздо лучшие
копии остальных имелись в разных библиотеках Европы.
-- Ее тут нет. -- Анджела чуть не плакала от горького разочарования.
-- Погоди-ка, а это что?
Алан пошарил в глубине полки, куда завалилось несколько книг поменьше.
Одну за другой он извлекал их на свет -- покрытые паутиной, в пятнах
плесени.
-- Смотри! -- Он лишь с трупом удержался от ликующего вопля, который
был бы услышан и за этими толстыми стенами.
Вместе они прочли вслух заголовок, начертанный тонкими выцветшими
линиями: "Овод" Алексида, сына Леона"...
Это была упоительная минута. Они держали в руках маленький,
переплетенный в кожу пергаментный томик, ради которого Алан пересек Европу.
В этой книге, тоже насчитывавшей несколько веков, жило неувядаемое творение
Алексида -- комедия, которая вызвала смех и рукоплескания двадцати тысяч
зрителей, некогда заполнивших обширный афинский амфитеатр, и получила первую
награду на весеннем театральном состязании за четыреста лет до нашей эры.
Почти две тысячи лет прошло с тех пор, как сам Алексид превратился в
прах. Из всех его творений сохранился лишь этот единственный список одной
комедии.
Анджела посмотрела на Алана, прочла ответ в его глазах и кивнула. Они
должны увезти эту книгу из Варны. Во что бы то ни стало.
Теперь уже ясно, что монахи не подарят им этой рукописи, не продадут ее
и даже не позволят переписать. Эта веселая насмешливая комедия казалась им
греховной и кощунственной.
Пока настоятель Иоанн жив, рукопись будет лежать в библиотеке, если
только ее страницы не выскребут.
Когда же настоятель умрет -- а он очень дряхл и может умереть в любой
день, -- его преемником, несомненно, станет отец Димитрий, и тогда Алексид
вместе со всеми другими древними авторами будет предан огню.
-- Нам придется украсть рукопись, -- сказал Алан.
-- Это не кража. Воры не мы, а монахи. Они хотят ограбить мир, лишить
его замечательной книги.
-- И ограбить Алексида, лишить его славы и бессмертия, которые он
заслужил.
Успокоив свою совесть такими рассуждениями, они уселись друг против
друга за пыльным столом и принялись переписывать жития святых, обсуждая свои
дальнейшие планы. Работа была скучная, но нетрудная и не требовала
сосредоточенности.
Они решили, что уйти немедленно нельзя. Это могло вызвать подозрения, и
тогда за ними послали бы погоню. Да и отдых им не повредит -- ноги Анджелы
заживут, а кроме того, можно будет накопить немножко припасов на дорогу,
съедая не весь хлеб, который им дают.
Им очень не хотелось оставлять Алексида в библиотеке. Они, конечно,
понимали, что за один день ничего с ним не случится, и все-таки чего-то
опасались.
-- А кроме того, -- сказала Анджела, -- раз нам не доверили ключ от
библиотеки, кто знает, удастся ли нам сюда проникнуть, когда настанет время
забрать рукопись.
-- Но если мы возьмем ее сейчас, нам некуда будет ее спрятать. Весьма
возможно, что кто-нибудь из монахов решит заглянуть в наши сумки.
-- Придумала! -- Анджела указала на окно. -- Если я влезу к тебе на
плечи, то смогу дотянуться до окошка и сунуть книгу в нишу. Стекла тут нет,
и мы сможем забрать ее с той стороны, когда во дворе никого не будет.
-- Прекрасно. Так и сделаем.
С этими словами Алан уперся руками в стену, и девушка не без труда
взобралась к нему на плечи.
-- Ну вот, -- сказала она шепотом, спрыгивая на пол и вытирая
запачканные руки. -- А теперь давай скорее переписывать, чтобы нам было что
показать.
Часа два они усердно работали, а затем раздался унылый звон колокола.
-- Будем надеяться, что он созывает монахов к обеду, -- заметил Алан.
-- Слышишь -- кто-то отпирает дверь.
Однако заглянувший в библиотеку монах пришел позвать их в часовню. На
этой службе, объяснил он, обязательно должны присутствовать и монахи и гости
монастыря.
-- Все пропало! -- вдруг растерянно прошептала Анджела, когда они
подошли к часовне.
-- Что случилось? -- с тревогой спросил Алан.
-- Мои волосы! Ведь в часовне мне придется снять шляпу!
-- Авось в полутьме никто не заметит. Да и у монахов они тоже по самые
плечи.
Но, хотя в часовне царил полумрак, а волосы монахов были достаточно
длинны, все же рядом с короткими белокурыми кудрями англичанина рыжая грива
Анджелы сразу бросалась в глаза.
Когда служба кончилась, у дверей часовни их остановил отец Димитрий.
-- Ты носишь волосы длинными, словно женщина, -- сказал он грубо.
Анджела спокойно посмотрела ему прямо в глаза.
-- Я дал обет, -- сказала она, -- не стричься, пока не вернусь из
своего паломничества.
Хмурые морщины на лбу монаха разгладились.
-- Ну, если это не суетность, мальчик, то ничего, -- сказал он почти
ласково.
Однако когда они пошли к трапезной, он продолжал задумчиво смотреть им
вслед.
После обеда им пришлось опять работать в библиотеке до самой темноты.
Только после ужина и вечерни они, наконец, получили возможность побродить по
монастырю.
-- И все-таки это кража, -- сказал Алан, которого вновь начала мучить
совесть. -- Может быть, попробуем задержаться здесь подольше и переписать
комедию?
Анджела решительно мотнула головой.
-- Это не годится. Нам нужна сама рукопись. Иначе могут сказать, что мы
подделали комедию, что ее сочинил вовсе не Алексид, а мы сами.
Алан иронически усмехнулся.
-- Эх, если бы я и правда умел писать вот так!
Они успели только наскоро перелистать страницы, но и этого было
достаточно, чтобы убедиться, что перед ними настоящий шедевр, достойный
сравнения с лучшими комедиями Аристофана.
-- И все-таки рукописи подделываются, -- объяснила Анджела. -- Поэтому
венецианское правительство поручило особому цензору наблюдать за печатанием
латинских и греческих книг.
Разговаривая, они спустились к озеру, чтобы насладиться прохладным
ветерком, дувшим с гор. Догорел еще один великолепный закат, и сгустились
сумерки. Кругом царила глубокая тишина, и каждый звук далеко разносился в
горном воздухе. Вот почему им удалось расслышать беседу отца Димитрия с
другим монахом, которые остановились у парапета высоко, над ними. Они как
раз подошли к вырубленным в скале ступенькам, когда до них донесся знакомый
грубый голос отца эконома:
-- Я и сам так подумал сегодня утром, брат Григорий. Но как ты
догадался?
-- Я подслушивал у дверей библиотеки, брат...
Алан вздрогнул и схватил Анджелу за локоть. Окаменев, они затаили
дыхание.
-- И о чем же они разговаривали?
-- Я не разобрал. Дверь ведь толстая, а они шептались и только иногда
говорили громче. Но один называл другого "Анджела".
. -- А ты не ослышался? "Анджело"... "Анджела"... Почти никакой
разницы.
-- Но ведь он ставил слова в женском роде! Тут ошибки быть не может:
один из них на самом деле девушка, и мы допустили в стены монастыря женщину!
Да если настоятель об этом узнает, он умрет от ужаса!
Отец Димитрий позволил себе хихикнуть.
-- Ну так постараемся, чтобы он об этом узнал. Место в раю, уготованное
нашему достопочтенному настоятелю, уже заждалось его.
Несколько секунд они молчали, а потом второй монах сказал:
-- Когда ты будешь настоятелем, ты... ты вспомнишь про мою дружбу?
-- Я не забуду никого из моих друзей. И из моих врагов.
-- А что сделать с этой девчонкой?
-- Сегодня ничего. Запомни -- никому ни слова! А утром проводи их не в
библиотеку, а к настоятелю. Я обличу их в его присутствии. Если старик
выдержит и такое волнение, значит, на него вообще смерти нет!
-- Ты очень умен, Димитрий. А как ты поступишь со школярами?
-- Как? Прикажу выдрать этих бродяжек плетьми и вышвырнуть их за
ворота.
Необходимо было действовать решительно.
Как только монахи отошли от парапета, Анджела и Алан бросились в свою
каморку за сумками и сунули в них несколько кусков хлеба, который сумели
спрятать за обедом и ужином. Затем они крадучись пробрались к наружной стене
библиотеки -- к этому времени уже совсем стемнело и можно было не опасаться,
что их заметят.
Высоко над их головами смутно чернели три маленьких окна.
-- Она в среднем, -- шепнула Анджела.
Алан, твердо упершись ногами в землю, пригнулся и, когда она взобралась
к нему на плечи, стал медленно выпрямляться.
Анджела испуганно ахнула.
-- Что случилось? -- шепнул он.
-- С этой стороны стена гораздо выше!
-- Попробуй дотянуться.
-- Сейчас.
Алан закусил губу, потому что нога Анджелы больно нажала на его плечо.
-- Побыстрей, -- умоляюще проговорил он. -- Я тебя долго не удержу.
-- Я ее трогаю пальцами... Вот... Ай!
С приглушенным стоном она сорвалась на землю. Алан, потеряв равновесие,
тоже упал, и оба больно ушиблись. При этом они наделали довольно много шума,
но во двор никто не вышел. Анджела первая вскочила на ноги и помогла встать
юноше.
-- Все в порядке! -- воскликнула она с торжеством. -- Рукопись у меня.
Алан так обрадовался, что совсем забыл про ушибы. Он сунул книгу за
пазуху, ощутив приятный холодок кожаного переплета, и они, прячась в тени,
направились к воротам.
Однако привратник, который накануне так неохотно впустил молодых людей
в монастырь, на этот раз не проявил никакого желания выпустить их.
-- Час уже поздний, -- проворчал он. -- Монастырские правила запрещают.
-- Но ведь еще не совсем стемнело! -- в отчаянии попробовал убедить его
Алан.
-- Какая разница! Еще и десяти минут не прошло, как мне передали приказ
настоятеля никого из монастыря не выпускать.
Итак, отец Димитрий принял меры предосторожности! Алан взглянул на
старика привратника, на ключи, болтавшиеся у его пояса... Но из сторожки
доносились голоса: значит, сегодня он не один. К нему на помощь сразу
бросятся по меньшей мере двое. А ведь далеко не все монахи -- дряхлые
старики.
-- Ну что ж, -- сказал он, пожав плечами.
И они вновь направились к монастырю по извилистой тропе, тщательно
выбирая, куда поставить ногу, потому что оба хорошо помнили пропасти,
которые видели здесь днем.
-- Мы пропали, -- сказала Анджела. -- Этот монастырь -- неприступная
крепость. С такого обрыва не спустишься, разве что... Послушай, а не
попробовать ли нам поискать веревку и...
-- Для этого потребуется очень длинная веревка, да и не одна -- ведь их
же придется привязывать.
-- А если отрезать веревку от колокола в часовне?
-- Они запирают часовню.
-- Но ведь у них же есть колодец, а уж там наверняка найдется
веревка...
-- Нет, они носят воду из озера в бурдюках.
Следовательно, не было никакой надежды раздобыть веревку достаточной
длины, чтобы спуститься хотя бы до первого уступа. Да и во всяком случае,
как заметил Алан, предпринять подобный спуск в темноте было равносильно
самоубийству. -- Мы пропали, -- в отчаянии повторила Анджела. Они вернулись
в свою темную каморку и сидели там, переговариваясь шепотом. Положение
казалось безвыходным.
-- Прошу прощения, отец, -- сказал он робко, -- но разве не жаль
подчищать эти старые книги?
-- Жаль? -- крикнул монах, и темные сумрачные глаза под густыми бровями
внезапно вспыхнули гневным огнем. -- Эти книги полны языческой гнусности, в
них прославляются суетные мирские радости и дьяволы и дьяволицы, которых они
называли богами!
-- Это так, отец, и все-таки... -- нерешительно начал Алан, чувствуя,
что он все же должен сначала попытаться честно купить рукопись Алексида,
если только монахи согласятся ее продать. Но ни в коем случае нельзя
показывать, как она ему нужна. -- В Венеции есть много людей, которые охотно
заплатили бы за эти книги большие деньги. И на них ты купил бы втрое больше
пергамента, совсем нового и чистого...
Он не договорил. Монах ужа не мог больше сдерживать свое бешенство.
-- Мерзостные мысли! Позволить языческой нечисти отравлять людские
души! В Варне эти книги хоть не приносят вреда. Будь моя воля, они завтра же
пошли бы на растопку. Но старик настоятель трясется над всяким хламом.
-- Да, он очень стар, -- задумчиво произнесла Анджела.
-- Очень! -- Монах повернулся к ней, и гнев в его глазах сменился
злобной радостью. -- Ему уже недолго жить. А когда он умрет и будет избран
его преемник, в Варне многое переменится. И для начала вся эта языческая
мерзость полетит в кухонную печь. -- Он указал на полки, но вдруг
спохватился, что наговорил лишнего, и, сухо объяснив им, что они должны
делать, вышел из библиотеки. Они услышали, как в замке повернулся ключ. Их
заперли!
-- Давай искать, -- взволнованно шепнула Анджела. Вне себя от
радостного возбуждения, они бросились к полкам, на которых была небрежно
навалена "языческая мерзость". Там царил полный хаос. Очень скверная копия
"Илиады" соседствовала с посредственными греческими и латинскими авторами,
которые жили через несколько столетий после конца золотого века античной
литературы. Было нетрудно догадаться, что все книги, кроме тех, которые
имели отношение к христианской религии, здесь просто свалили в кучу, как
языческие и нечестивые. Анджела, выросшая в доме книгопечатника, знала все
эти произведения. Среди них не было ни одной редкой или ценной книги. Все
они уже были известны в Венеции. Многие были напечатаны, а гораздо лучшие
копии остальных имелись в разных библиотеках Европы.
-- Ее тут нет. -- Анджела чуть не плакала от горького разочарования.
-- Погоди-ка, а это что?
Алан пошарил в глубине полки, куда завалилось несколько книг поменьше.
Одну за другой он извлекал их на свет -- покрытые паутиной, в пятнах
плесени.
-- Смотри! -- Он лишь с трупом удержался от ликующего вопля, который
был бы услышан и за этими толстыми стенами.
Вместе они прочли вслух заголовок, начертанный тонкими выцветшими
линиями: "Овод" Алексида, сына Леона"...
Это была упоительная минута. Они держали в руках маленький,
переплетенный в кожу пергаментный томик, ради которого Алан пересек Европу.
В этой книге, тоже насчитывавшей несколько веков, жило неувядаемое творение
Алексида -- комедия, которая вызвала смех и рукоплескания двадцати тысяч
зрителей, некогда заполнивших обширный афинский амфитеатр, и получила первую
награду на весеннем театральном состязании за четыреста лет до нашей эры.
Почти две тысячи лет прошло с тех пор, как сам Алексид превратился в
прах. Из всех его творений сохранился лишь этот единственный список одной
комедии.
Анджела посмотрела на Алана, прочла ответ в его глазах и кивнула. Они
должны увезти эту книгу из Варны. Во что бы то ни стало.
Теперь уже ясно, что монахи не подарят им этой рукописи, не продадут ее
и даже не позволят переписать. Эта веселая насмешливая комедия казалась им
греховной и кощунственной.
Пока настоятель Иоанн жив, рукопись будет лежать в библиотеке, если
только ее страницы не выскребут.
Когда же настоятель умрет -- а он очень дряхл и может умереть в любой
день, -- его преемником, несомненно, станет отец Димитрий, и тогда Алексид
вместе со всеми другими древними авторами будет предан огню.
-- Нам придется украсть рукопись, -- сказал Алан.
-- Это не кража. Воры не мы, а монахи. Они хотят ограбить мир, лишить
его замечательной книги.
-- И ограбить Алексида, лишить его славы и бессмертия, которые он
заслужил.
Успокоив свою совесть такими рассуждениями, они уселись друг против
друга за пыльным столом и принялись переписывать жития святых, обсуждая свои
дальнейшие планы. Работа была скучная, но нетрудная и не требовала
сосредоточенности.
Они решили, что уйти немедленно нельзя. Это могло вызвать подозрения, и
тогда за ними послали бы погоню. Да и отдых им не повредит -- ноги Анджелы
заживут, а кроме того, можно будет накопить немножко припасов на дорогу,
съедая не весь хлеб, который им дают.
Им очень не хотелось оставлять Алексида в библиотеке. Они, конечно,
понимали, что за один день ничего с ним не случится, и все-таки чего-то
опасались.
-- А кроме того, -- сказала Анджела, -- раз нам не доверили ключ от
библиотеки, кто знает, удастся ли нам сюда проникнуть, когда настанет время
забрать рукопись.
-- Но если мы возьмем ее сейчас, нам некуда будет ее спрятать. Весьма
возможно, что кто-нибудь из монахов решит заглянуть в наши сумки.
-- Придумала! -- Анджела указала на окно. -- Если я влезу к тебе на
плечи, то смогу дотянуться до окошка и сунуть книгу в нишу. Стекла тут нет,
и мы сможем забрать ее с той стороны, когда во дворе никого не будет.
-- Прекрасно. Так и сделаем.
С этими словами Алан уперся руками в стену, и девушка не без труда
взобралась к нему на плечи.
-- Ну вот, -- сказала она шепотом, спрыгивая на пол и вытирая
запачканные руки. -- А теперь давай скорее переписывать, чтобы нам было что
показать.
Часа два они усердно работали, а затем раздался унылый звон колокола.
-- Будем надеяться, что он созывает монахов к обеду, -- заметил Алан.
-- Слышишь -- кто-то отпирает дверь.
Однако заглянувший в библиотеку монах пришел позвать их в часовню. На
этой службе, объяснил он, обязательно должны присутствовать и монахи и гости
монастыря.
-- Все пропало! -- вдруг растерянно прошептала Анджела, когда они
подошли к часовне.
-- Что случилось? -- с тревогой спросил Алан.
-- Мои волосы! Ведь в часовне мне придется снять шляпу!
-- Авось в полутьме никто не заметит. Да и у монахов они тоже по самые
плечи.
Но, хотя в часовне царил полумрак, а волосы монахов были достаточно
длинны, все же рядом с короткими белокурыми кудрями англичанина рыжая грива
Анджелы сразу бросалась в глаза.
Когда служба кончилась, у дверей часовни их остановил отец Димитрий.
-- Ты носишь волосы длинными, словно женщина, -- сказал он грубо.
Анджела спокойно посмотрела ему прямо в глаза.
-- Я дал обет, -- сказала она, -- не стричься, пока не вернусь из
своего паломничества.
Хмурые морщины на лбу монаха разгладились.
-- Ну, если это не суетность, мальчик, то ничего, -- сказал он почти
ласково.
Однако когда они пошли к трапезной, он продолжал задумчиво смотреть им
вслед.
После обеда им пришлось опять работать в библиотеке до самой темноты.
Только после ужина и вечерни они, наконец, получили возможность побродить по
монастырю.
-- И все-таки это кража, -- сказал Алан, которого вновь начала мучить
совесть. -- Может быть, попробуем задержаться здесь подольше и переписать
комедию?
Анджела решительно мотнула головой.
-- Это не годится. Нам нужна сама рукопись. Иначе могут сказать, что мы
подделали комедию, что ее сочинил вовсе не Алексид, а мы сами.
Алан иронически усмехнулся.
-- Эх, если бы я и правда умел писать вот так!
Они успели только наскоро перелистать страницы, но и этого было
достаточно, чтобы убедиться, что перед ними настоящий шедевр, достойный
сравнения с лучшими комедиями Аристофана.
-- И все-таки рукописи подделываются, -- объяснила Анджела. -- Поэтому
венецианское правительство поручило особому цензору наблюдать за печатанием
латинских и греческих книг.
Разговаривая, они спустились к озеру, чтобы насладиться прохладным
ветерком, дувшим с гор. Догорел еще один великолепный закат, и сгустились
сумерки. Кругом царила глубокая тишина, и каждый звук далеко разносился в
горном воздухе. Вот почему им удалось расслышать беседу отца Димитрия с
другим монахом, которые остановились у парапета высоко, над ними. Они как
раз подошли к вырубленным в скале ступенькам, когда до них донесся знакомый
грубый голос отца эконома:
-- Я и сам так подумал сегодня утром, брат Григорий. Но как ты
догадался?
-- Я подслушивал у дверей библиотеки, брат...
Алан вздрогнул и схватил Анджелу за локоть. Окаменев, они затаили
дыхание.
-- И о чем же они разговаривали?
-- Я не разобрал. Дверь ведь толстая, а они шептались и только иногда
говорили громче. Но один называл другого "Анджела".
. -- А ты не ослышался? "Анджело"... "Анджела"... Почти никакой
разницы.
-- Но ведь он ставил слова в женском роде! Тут ошибки быть не может:
один из них на самом деле девушка, и мы допустили в стены монастыря женщину!
Да если настоятель об этом узнает, он умрет от ужаса!
Отец Димитрий позволил себе хихикнуть.
-- Ну так постараемся, чтобы он об этом узнал. Место в раю, уготованное
нашему достопочтенному настоятелю, уже заждалось его.
Несколько секунд они молчали, а потом второй монах сказал:
-- Когда ты будешь настоятелем, ты... ты вспомнишь про мою дружбу?
-- Я не забуду никого из моих друзей. И из моих врагов.
-- А что сделать с этой девчонкой?
-- Сегодня ничего. Запомни -- никому ни слова! А утром проводи их не в
библиотеку, а к настоятелю. Я обличу их в его присутствии. Если старик
выдержит и такое волнение, значит, на него вообще смерти нет!
-- Ты очень умен, Димитрий. А как ты поступишь со школярами?
-- Как? Прикажу выдрать этих бродяжек плетьми и вышвырнуть их за
ворота.
Необходимо было действовать решительно.
Как только монахи отошли от парапета, Анджела и Алан бросились в свою
каморку за сумками и сунули в них несколько кусков хлеба, который сумели
спрятать за обедом и ужином. Затем они крадучись пробрались к наружной стене
библиотеки -- к этому времени уже совсем стемнело и можно было не опасаться,
что их заметят.
Высоко над их головами смутно чернели три маленьких окна.
-- Она в среднем, -- шепнула Анджела.
Алан, твердо упершись ногами в землю, пригнулся и, когда она взобралась
к нему на плечи, стал медленно выпрямляться.
Анджела испуганно ахнула.
-- Что случилось? -- шепнул он.
-- С этой стороны стена гораздо выше!
-- Попробуй дотянуться.
-- Сейчас.
Алан закусил губу, потому что нога Анджелы больно нажала на его плечо.
-- Побыстрей, -- умоляюще проговорил он. -- Я тебя долго не удержу.
-- Я ее трогаю пальцами... Вот... Ай!
С приглушенным стоном она сорвалась на землю. Алан, потеряв равновесие,
тоже упал, и оба больно ушиблись. При этом они наделали довольно много шума,
но во двор никто не вышел. Анджела первая вскочила на ноги и помогла встать
юноше.
-- Все в порядке! -- воскликнула она с торжеством. -- Рукопись у меня.
Алан так обрадовался, что совсем забыл про ушибы. Он сунул книгу за
пазуху, ощутив приятный холодок кожаного переплета, и они, прячась в тени,
направились к воротам.
Однако привратник, который накануне так неохотно впустил молодых людей
в монастырь, на этот раз не проявил никакого желания выпустить их.
-- Час уже поздний, -- проворчал он. -- Монастырские правила запрещают.
-- Но ведь еще не совсем стемнело! -- в отчаянии попробовал убедить его
Алан.
-- Какая разница! Еще и десяти минут не прошло, как мне передали приказ
настоятеля никого из монастыря не выпускать.
Итак, отец Димитрий принял меры предосторожности! Алан взглянул на
старика привратника, на ключи, болтавшиеся у его пояса... Но из сторожки
доносились голоса: значит, сегодня он не один. К нему на помощь сразу
бросятся по меньшей мере двое. А ведь далеко не все монахи -- дряхлые
старики.
-- Ну что ж, -- сказал он, пожав плечами.
И они вновь направились к монастырю по извилистой тропе, тщательно
выбирая, куда поставить ногу, потому что оба хорошо помнили пропасти,
которые видели здесь днем.
-- Мы пропали, -- сказала Анджела. -- Этот монастырь -- неприступная
крепость. С такого обрыва не спустишься, разве что... Послушай, а не
попробовать ли нам поискать веревку и...
-- Для этого потребуется очень длинная веревка, да и не одна -- ведь их
же придется привязывать.
-- А если отрезать веревку от колокола в часовне?
-- Они запирают часовню.
-- Но ведь у них же есть колодец, а уж там наверняка найдется
веревка...
-- Нет, они носят воду из озера в бурдюках.
Следовательно, не было никакой надежды раздобыть веревку достаточной
длины, чтобы спуститься хотя бы до первого уступа. Да и во всяком случае,
как заметил Алан, предпринять подобный спуск в темноте было равносильно
самоубийству. -- Мы пропали, -- в отчаянии повторила Анджела. Они вернулись
в свою темную каморку и сидели там, переговариваясь шепотом. Положение
казалось безвыходным.
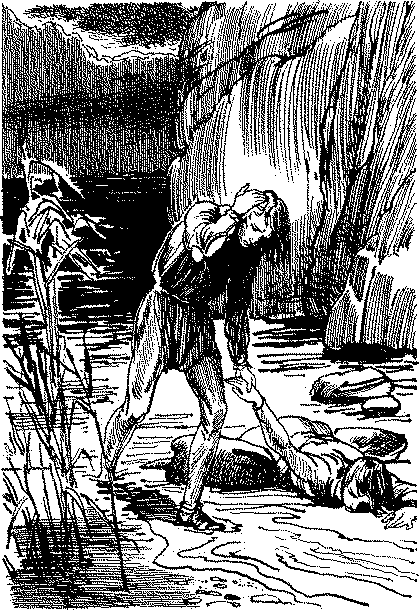
 -- Ну? -- как всегда вкрадчиво спросил, наконец, герцог. -- Ваше
посещение -- для меня большая честь, но, признаюсь, я не догадываюсь о его
цели.
-- Я принесла подарок твоей светлости, -- любезно сказала Анджела.
-- Рад это слышать. Я опасался, что услышу просьбу, на которую с
величайшим сожалением должен был бы ответить отказом.
Холодные глаза герцога смотрели на них с подозрением. Чезаре
подобрался, словно кот, готовящийся к прыжку, и, скользнув вокруг стола,
встал рядом с Анджелой.
Алан чуть не засмеялся. Уж не опасаются ли они отравленных кинжалов?
Ну, то, что их ждет, покажется им ненамного приятнее. Он протянул Анджеле
небольшой предмет, завернутый в шелк, и она положила сверток на стол перед
герцогом.
-- В знак уважения от моего дяди и моего отца, -- сказала она с легкой
улыбкой и, изящно поклонившись, отступила на шаг. -- Хотя ты и гнушаешься
плодами их трудов, быть может, твоя светлость соблаговолит принять этот
образчик их искусства.
Герцог развернул шелк и зло сощурился при виде новенькой книги,
аккуратно переплетенной в телячью кожу. Он открыл ее, взглянул на титульный
лист и испустил прерывистый вздох: заголовок над дельфином и якорем Альда
гласил:
"Овод", комедия Алексида".
Наверное, герцог побледнел бы, но его лицо и так всегда было
мраморно-бледным. Выражение его глаз тоже не изменилось, и только на виске,
словно голубая молния, задергалась жилка, а голос стал глухим от ярости,
когда он сказал:
-- Как ты это объяснишь, Чезаре?
Красивое лицо Морелли исказилось от ужаса и изумления. Он попытался
что-то ответить, но язык ему не повиновался. Герцог грозно ждал. Наконец
Чезаре пролепетал:
-- Это подделка! Я сказал твоей светлости правду... других экземпляров
рукописи не существует...
-- Лжец! -- Герцог говорил по-прежнему тихо, но это единственное слово
прозвучало как приговор.
Он начал перелистывать страницы книги, и хотя это длилось не больше
минуты, всем троим она показалась вечностью. Потом он снова заговорил:
-- Это слово в слово совпадает с тем экземпляром, который ты мне
доставил, поклявшись, что он -- единственный в мире.
-- Я... я не понимаю! Я...
-- Ты обманул мое доверие, -- неумолимо сказал герцог. -- Этого
достаточно.
-- Клянусь твоей светлости...
-- Ты больше у меня не служишь. Свою плату ты получил: как оказалось,
не по заслугам. Больше я тебя не желаю видеть.
Чезаре хотел было что-то сказать в свое оправдание, но, встретив взгляд
холодных глаз, понял, что это бесполезно, и покорно вышел из библиотеки.
Наступило молчание. Сдержанность герцога, его спокойный тон делали его гнев
еще более страшным.
"Не разразится ли буря сейчас?" -- подумал Алан. Удастся ли им добиться
того, ради чего они пришли сюда?
Герцог посмотрел на них и, к их большому изумлению, мрачно улыбнулся.
-- Итак, победа все-таки осталась за тобой, мессер Дрейтон.
-- Вернее будет сказать, что игра окончилась вничью. Ведь рукопись
находится у твоей светлости. Значит, лавры мы поделили пополам.
-- Это верно. -- Герцог пропустил между пальцами серебряную цепь и стал
вертеть медальон. -- Но как бы то ни было, тебе удалось провести Чезаре.
Умный противник нравится мне больше глупого слуги.
Анджела поспешила воспользоваться его последними словами.
-- Значит, ты не затаишь неприязни к нам?
-- Нет. Я попробую примириться с неизбежным, как подобает философу.
Он снова мрачно улыбнулся.
И тут Анджела решилась.
-- Я знаю, -- сказала она, -- что твоя светлость -- благородный человек
и истинный ценитель искусства и литературы.
Герцог слегка поклонился, словно благодаря ее за лестное мнение.
-- Тебе претит книгопечатание, но ведь невежество и искажения претят
тебе еще больше?
-- Разумеется.
-- Пока мы напечатали и переплели лишь несколько экземпляров этой
книги. Но ты не можешь помешать нам напечатать все издание.
-- Я хорошо это знаю, синьорина.
-- И я хочу обратиться к тебе с просьбой, в которой ты мне не откажешь,
если ты -- истинный любитель древней литературы и философии, а не тщеславный
собиратель редкостей. В нашей рукописи могут быть некоторые искажения. Если
их не исправить, эти ошибки попадут во все, университеты и библиотеки Европы
и будут подобны... подобны сорнякам в цветнике знания.
-- Ты очень красноречива, синьорина! Вот потому-то мне и не нравятся
печатные станки.
-- Но ведь комедия все равно будет напечатана! -- не моргнув глазом,
заверила его Анджела. -- И от тебя зависит, получит ли ее мир такой, какой
ее написал Алексид, или с ошибками, которые из века в век будут вводить
людей в заблуждение.
Ее дерзкая настойчивость, каралось, привела герцога в хорошее
настроение. Его голос снова стал вкрадчивым, а улыбка -- почти веселой.
-- Я понимаю, что ты имеешь в виду, синьорина. Но вряд ли ты думаешь,
что я отдам тебе варнскую рукопись, чтобы ты могла отнести ее своим
печатникам.
-- Ну конечно, нет. Мы просим только об одном: позволь сведущим людям
ознакомиться с рукописью в твоей библиотеке и сравнить ее с нашим
напечатанным экземпляром. Если хочешь, окружи их вооруженной стражей, но в
любом случае ты можешь ничего не опасаться.
Герцог задумался. Они ждали его ответа затаив дыхание. Белые пальцы
крутили медальон, драгоценные камни то вспыхивали, то гасли, и Алан
почувствовал, что эти переливы цветных огней словно завораживают его. Но тут
медальон упал на коричневый бархат и, качнувшись, замер. Герцог поднял
глаза.
-- Раз я не могу воспрепятствовать тому, чтобы эта комедия была
напечатана, -- сказал он, -- то пусть она будет напечатана без ошибок и
искажений. Пришли ко мне кого хочешь и когда хочешь. Я сам покажу им
рукопись.
Анджела поклонилась со всем изяществом, на какое только была способна.
-- Мой дядя поспешит сегодня же явиться к твоей светлости. Он приведет
с собой своего помощника Марка Мусура.
Наступила осень. Но солнце в Венеции все еще было жарким. На балконе, с
которого открывался вид на церковь Святого Августина, Анджела, застенчиво
склонив голову, выслушивала предложение -- результат искусных маневров,
занявших у нее все лето.
-- Ах, право же, Микеле, -- пролепетала она, потупив глаза, -- это так
неожиданно! Я никак не думала... и просто не знаю, что ответить.
-- Я, конечно, уже говорил с твоими отцом и матерью, -- сказал
флорентинец. -- Они согласны.
"Попробовали бы они не согласиться!" -- подумала Анджела, но
благоразумно не произнесла этого вслух, а только сказала:
-- Я всегда беспрекословно слушаюсь родителей! Ведь кому, как не им,
знать, что лучше для их дочери, не правда ли? -- Затем она мечтательно
добавила: -- Наверное, мне понравится Флоренция. Вести собственный дом... и
отдавать распоряжения. ..
Микеле смотрел на нее и со всей глупой доверчивостью влюбленного думал
о том, какая она кроткая и милая -- ну просто котенок. Ему еще предстояло
узнать, что из котят вырастают кошки...
А в этот час Алан, качаясь на свинцовых валах Па-де-Кале, тщетно
всматривался в ноябрьский туман, пытаясь различить берега Англии. Морская
болезнь не пощадила его и на этот раз, и он вновь и вновь радовался, что
перед возвращением на родину ему не придется блуждать по морям десять лет
подобно Одиссею.
Он опять извлек из потайного кармана своей куртки два талисмана,
которые ободряли его во время долгого и утомительного пути через Францию.
Одним талисманом было письмо Эразма из Кембриджа.
Тут все говорят о великой службе, которую ты сослужил миру, вернув ему
еще одно сокровище греческой литературы. Тот случай забыт. Я говорил с
главой твоего колледжа, и ты будешь радостно встречен здесь, если пожелаешь
вернуться.
Алан перечитал это письмо в сотый раз, а потом обратился к своему
второму талисману: комедии Алексида с латинским посвящением Альда. Самые
прославленные ученые Европы считали большой честью удостоиться посвящения
знаменитого книгопечатника, и вот оно, написанное красивым курсивом --
собственным изобретением Альда:
Алану Дрейтону, Другу греческих авторов и моему, который вместе со
своим товарищем Анджело спас Алексида из мрака темницы и вернул ею свету
дня.
"Со своим товарищем Анджело!.." Как жаль, что никто никогда не узнает
об участии Анджелы в этом предприятии!" -- в который раз сердито подумал
Алан. Но даже и не слишком чопорная Италия ужаснулась бы, узнав, что девушка
в мужском наряде путешествовала по самым глухим областям Европы.
И он дал себе клятву, что в будущем, когда разоблачение ее тайны уже не
будет грозить Анджеле неприятностями, он загладит причиненную ей
несправедливость. Она получит красивую книгу, в которой ничего не поймет,
потому что стихи в ней будут написаны по-английски. Ничего, кроме титульного
листа, который он переведет для нее на греческий: "Овод" Алексида
комедиографа; впервые переведен на английский язык Аланом Дрейтоном". А ниже
-- "Посвящается Анджеле д'Азола (впрочем, тогда она уже будет носить фамилию
этого бедняги, как бишь его?), без которой греческий оригинал был бы
навсегда утрачен для мира".
У него пальцы чесались поскорее взяться за перо. Он хотел немедленно
начать работу, чтобы изысканные и звучные греческие стихи скорее
превратились в английские, понятные всем его соотечественникам, радующие их
своей красотой. Но он знал, что этот труд требует времени и терпения. Он был
еще молод, и молод был сам английский язык, сталь его слов еще далеко не
закалилась. Сколько предстоит сделать! Придется заново создавать даже
стихотворные размеры!
Он был рад, что возвращается на родину. Жизнь в Англии обещала стать
еще более интересной, еще более кипучей. В пути он узнал о смерти Генриха
VII.
Теперь на английском троне сидел новый король: молодой, как он сам,
восемнадцатилетний силач и великан, искусный атлет и музыкант, знаток
древних языков, любитель книжной мудрости -- Генрих VIII.
Угрюмые серые дни остались позади.
Англия стояла на пороге зеленого великолепия своей тюдоровской весны.
Вцепившись в мокрый борт, Алан жадно всматривался в даль, словно
стараясь увидеть не только меловые дуврские утесы, но и грядущее. Однако
густая завеса тумана, повисшего над морем, была непроницаема.
Туман скрывал от глаз Алана его родину, где сэр Томас Мор уже обдумывал
свою "Утопию". Туман окутывал Кент, где вскоре в семье сапожника должен был
родиться Кит Марло, первый великий английский драматург. В хмуром тумане
нельзя было разглядеть страну, которой скоро суждено было прославиться
подвигами Дрейка и Рэлея, зазвенеть музыкой Бэрда и Тэллиса, стихами
Шекспира и Сиднея, Спенсера и Чэпмена, и еще многих, многих других...
Корабль с упрямой надеждой пробивался сквозь туман к Дувру; и с той же
упрямой надеждой Алан и Англия шли навстречу своему будущему.
-- Ну? -- как всегда вкрадчиво спросил, наконец, герцог. -- Ваше
посещение -- для меня большая честь, но, признаюсь, я не догадываюсь о его
цели.
-- Я принесла подарок твоей светлости, -- любезно сказала Анджела.
-- Рад это слышать. Я опасался, что услышу просьбу, на которую с
величайшим сожалением должен был бы ответить отказом.
Холодные глаза герцога смотрели на них с подозрением. Чезаре
подобрался, словно кот, готовящийся к прыжку, и, скользнув вокруг стола,
встал рядом с Анджелой.
Алан чуть не засмеялся. Уж не опасаются ли они отравленных кинжалов?
Ну, то, что их ждет, покажется им ненамного приятнее. Он протянул Анджеле
небольшой предмет, завернутый в шелк, и она положила сверток на стол перед
герцогом.
-- В знак уважения от моего дяди и моего отца, -- сказала она с легкой
улыбкой и, изящно поклонившись, отступила на шаг. -- Хотя ты и гнушаешься
плодами их трудов, быть может, твоя светлость соблаговолит принять этот
образчик их искусства.
Герцог развернул шелк и зло сощурился при виде новенькой книги,
аккуратно переплетенной в телячью кожу. Он открыл ее, взглянул на титульный
лист и испустил прерывистый вздох: заголовок над дельфином и якорем Альда
гласил:
"Овод", комедия Алексида".
Наверное, герцог побледнел бы, но его лицо и так всегда было
мраморно-бледным. Выражение его глаз тоже не изменилось, и только на виске,
словно голубая молния, задергалась жилка, а голос стал глухим от ярости,
когда он сказал:
-- Как ты это объяснишь, Чезаре?
Красивое лицо Морелли исказилось от ужаса и изумления. Он попытался
что-то ответить, но язык ему не повиновался. Герцог грозно ждал. Наконец
Чезаре пролепетал:
-- Это подделка! Я сказал твоей светлости правду... других экземпляров
рукописи не существует...
-- Лжец! -- Герцог говорил по-прежнему тихо, но это единственное слово
прозвучало как приговор.
Он начал перелистывать страницы книги, и хотя это длилось не больше
минуты, всем троим она показалась вечностью. Потом он снова заговорил:
-- Это слово в слово совпадает с тем экземпляром, который ты мне
доставил, поклявшись, что он -- единственный в мире.
-- Я... я не понимаю! Я...
-- Ты обманул мое доверие, -- неумолимо сказал герцог. -- Этого
достаточно.
-- Клянусь твоей светлости...
-- Ты больше у меня не служишь. Свою плату ты получил: как оказалось,
не по заслугам. Больше я тебя не желаю видеть.
Чезаре хотел было что-то сказать в свое оправдание, но, встретив взгляд
холодных глаз, понял, что это бесполезно, и покорно вышел из библиотеки.
Наступило молчание. Сдержанность герцога, его спокойный тон делали его гнев
еще более страшным.
"Не разразится ли буря сейчас?" -- подумал Алан. Удастся ли им добиться
того, ради чего они пришли сюда?
Герцог посмотрел на них и, к их большому изумлению, мрачно улыбнулся.
-- Итак, победа все-таки осталась за тобой, мессер Дрейтон.
-- Вернее будет сказать, что игра окончилась вничью. Ведь рукопись
находится у твоей светлости. Значит, лавры мы поделили пополам.
-- Это верно. -- Герцог пропустил между пальцами серебряную цепь и стал
вертеть медальон. -- Но как бы то ни было, тебе удалось провести Чезаре.
Умный противник нравится мне больше глупого слуги.
Анджела поспешила воспользоваться его последними словами.
-- Значит, ты не затаишь неприязни к нам?
-- Нет. Я попробую примириться с неизбежным, как подобает философу.
Он снова мрачно улыбнулся.
И тут Анджела решилась.
-- Я знаю, -- сказала она, -- что твоя светлость -- благородный человек
и истинный ценитель искусства и литературы.
Герцог слегка поклонился, словно благодаря ее за лестное мнение.
-- Тебе претит книгопечатание, но ведь невежество и искажения претят
тебе еще больше?
-- Разумеется.
-- Пока мы напечатали и переплели лишь несколько экземпляров этой
книги. Но ты не можешь помешать нам напечатать все издание.
-- Я хорошо это знаю, синьорина.
-- И я хочу обратиться к тебе с просьбой, в которой ты мне не откажешь,
если ты -- истинный любитель древней литературы и философии, а не тщеславный
собиратель редкостей. В нашей рукописи могут быть некоторые искажения. Если
их не исправить, эти ошибки попадут во все, университеты и библиотеки Европы
и будут подобны... подобны сорнякам в цветнике знания.
-- Ты очень красноречива, синьорина! Вот потому-то мне и не нравятся
печатные станки.
-- Но ведь комедия все равно будет напечатана! -- не моргнув глазом,
заверила его Анджела. -- И от тебя зависит, получит ли ее мир такой, какой
ее написал Алексид, или с ошибками, которые из века в век будут вводить
людей в заблуждение.
Ее дерзкая настойчивость, каралось, привела герцога в хорошее
настроение. Его голос снова стал вкрадчивым, а улыбка -- почти веселой.
-- Я понимаю, что ты имеешь в виду, синьорина. Но вряд ли ты думаешь,
что я отдам тебе варнскую рукопись, чтобы ты могла отнести ее своим
печатникам.
-- Ну конечно, нет. Мы просим только об одном: позволь сведущим людям
ознакомиться с рукописью в твоей библиотеке и сравнить ее с нашим
напечатанным экземпляром. Если хочешь, окружи их вооруженной стражей, но в
любом случае ты можешь ничего не опасаться.
Герцог задумался. Они ждали его ответа затаив дыхание. Белые пальцы
крутили медальон, драгоценные камни то вспыхивали, то гасли, и Алан
почувствовал, что эти переливы цветных огней словно завораживают его. Но тут
медальон упал на коричневый бархат и, качнувшись, замер. Герцог поднял
глаза.
-- Раз я не могу воспрепятствовать тому, чтобы эта комедия была
напечатана, -- сказал он, -- то пусть она будет напечатана без ошибок и
искажений. Пришли ко мне кого хочешь и когда хочешь. Я сам покажу им
рукопись.
Анджела поклонилась со всем изяществом, на какое только была способна.
-- Мой дядя поспешит сегодня же явиться к твоей светлости. Он приведет
с собой своего помощника Марка Мусура.
Наступила осень. Но солнце в Венеции все еще было жарким. На балконе, с
которого открывался вид на церковь Святого Августина, Анджела, застенчиво
склонив голову, выслушивала предложение -- результат искусных маневров,
занявших у нее все лето.
-- Ах, право же, Микеле, -- пролепетала она, потупив глаза, -- это так
неожиданно! Я никак не думала... и просто не знаю, что ответить.
-- Я, конечно, уже говорил с твоими отцом и матерью, -- сказал
флорентинец. -- Они согласны.
"Попробовали бы они не согласиться!" -- подумала Анджела, но
благоразумно не произнесла этого вслух, а только сказала:
-- Я всегда беспрекословно слушаюсь родителей! Ведь кому, как не им,
знать, что лучше для их дочери, не правда ли? -- Затем она мечтательно
добавила: -- Наверное, мне понравится Флоренция. Вести собственный дом... и
отдавать распоряжения. ..
Микеле смотрел на нее и со всей глупой доверчивостью влюбленного думал
о том, какая она кроткая и милая -- ну просто котенок. Ему еще предстояло
узнать, что из котят вырастают кошки...
А в этот час Алан, качаясь на свинцовых валах Па-де-Кале, тщетно
всматривался в ноябрьский туман, пытаясь различить берега Англии. Морская
болезнь не пощадила его и на этот раз, и он вновь и вновь радовался, что
перед возвращением на родину ему не придется блуждать по морям десять лет
подобно Одиссею.
Он опять извлек из потайного кармана своей куртки два талисмана,
которые ободряли его во время долгого и утомительного пути через Францию.
Одним талисманом было письмо Эразма из Кембриджа.
Тут все говорят о великой службе, которую ты сослужил миру, вернув ему
еще одно сокровище греческой литературы. Тот случай забыт. Я говорил с
главой твоего колледжа, и ты будешь радостно встречен здесь, если пожелаешь
вернуться.
Алан перечитал это письмо в сотый раз, а потом обратился к своему
второму талисману: комедии Алексида с латинским посвящением Альда. Самые
прославленные ученые Европы считали большой честью удостоиться посвящения
знаменитого книгопечатника, и вот оно, написанное красивым курсивом --
собственным изобретением Альда:
Алану Дрейтону, Другу греческих авторов и моему, который вместе со
своим товарищем Анджело спас Алексида из мрака темницы и вернул ею свету
дня.
"Со своим товарищем Анджело!.." Как жаль, что никто никогда не узнает
об участии Анджелы в этом предприятии!" -- в который раз сердито подумал
Алан. Но даже и не слишком чопорная Италия ужаснулась бы, узнав, что девушка
в мужском наряде путешествовала по самым глухим областям Европы.
И он дал себе клятву, что в будущем, когда разоблачение ее тайны уже не
будет грозить Анджеле неприятностями, он загладит причиненную ей
несправедливость. Она получит красивую книгу, в которой ничего не поймет,
потому что стихи в ней будут написаны по-английски. Ничего, кроме титульного
листа, который он переведет для нее на греческий: "Овод" Алексида
комедиографа; впервые переведен на английский язык Аланом Дрейтоном". А ниже
-- "Посвящается Анджеле д'Азола (впрочем, тогда она уже будет носить фамилию
этого бедняги, как бишь его?), без которой греческий оригинал был бы
навсегда утрачен для мира".
У него пальцы чесались поскорее взяться за перо. Он хотел немедленно
начать работу, чтобы изысканные и звучные греческие стихи скорее
превратились в английские, понятные всем его соотечественникам, радующие их
своей красотой. Но он знал, что этот труд требует времени и терпения. Он был
еще молод, и молод был сам английский язык, сталь его слов еще далеко не
закалилась. Сколько предстоит сделать! Придется заново создавать даже
стихотворные размеры!
Он был рад, что возвращается на родину. Жизнь в Англии обещала стать
еще более интересной, еще более кипучей. В пути он узнал о смерти Генриха
VII.
Теперь на английском троне сидел новый король: молодой, как он сам,
восемнадцатилетний силач и великан, искусный атлет и музыкант, знаток
древних языков, любитель книжной мудрости -- Генрих VIII.
Угрюмые серые дни остались позади.
Англия стояла на пороге зеленого великолепия своей тюдоровской весны.
Вцепившись в мокрый борт, Алан жадно всматривался в даль, словно
стараясь увидеть не только меловые дуврские утесы, но и грядущее. Однако
густая завеса тумана, повисшего над морем, была непроницаема.
Туман скрывал от глаз Алана его родину, где сэр Томас Мор уже обдумывал
свою "Утопию". Туман окутывал Кент, где вскоре в семье сапожника должен был
родиться Кит Марло, первый великий английский драматург. В хмуром тумане
нельзя было разглядеть страну, которой скоро суждено было прославиться
подвигами Дрейка и Рэлея, зазвенеть музыкой Бэрда и Тэллиса, стихами
Шекспира и Сиднея, Спенсера и Чэпмена, и еще многих, многих других...
Корабль с упрямой надеждой пробивался сквозь туман к Дувру; и с той же
упрямой надеждой Алан и Англия шли навстречу своему будущему.