---------------------------------------------------------------
Перевод И. Тыняновой
РОМАН, МОСКВА, ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПРЕССА", 1992
OCR: Андрей из Архангельска
---------------------------------------------------------------
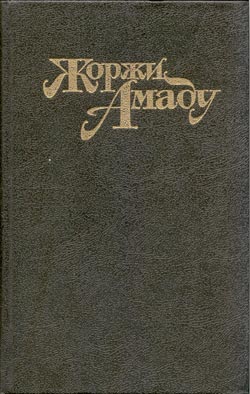 Я хочу поведать вам сегодня истории, что сказываются и поются на
баиянских пристанях. Старые моряки, латающие утлые паруса, капитаны
парусных шхун, негры с татуированной кожей, бродяги и мошенники знают
наизусть эти истории и эти песни. Я не раз слушал их лунною ночью на
баиянской набережной против рынка, во время ярмарок, у причалов малых
гаваней побережья, возле огромных шведских судов в Ильеусском порту.
Людям моря есть что порассказать.
Послушайте же эти истории и эти песни. Послушайте историю Гумы и
Ливии. Это история жизни у моря; это история любви у моря. А ежели она
покажется вам недостаточно прекрасной, то вина в этом не тех простых,
суровых людей, что сложили ее. Просто сегодня вы услышите ее из уст
человека с суши, а человеку с суши трудно понять сердце моряка. Даже
тогда, когда он любит эти истории и эти песни, когда ходит на все
праздники в честь богини моря Иеманжи, или доны Жанаины, как ее еще
называют, - даже тогда не знает он всех секретов моря. Ибо море - это
великая тайна, постичь которую не могут даже старые моряки.
Я хочу поведать вам сегодня истории, что сказываются и поются на
баиянских пристанях. Старые моряки, латающие утлые паруса, капитаны
парусных шхун, негры с татуированной кожей, бродяги и мошенники знают
наизусть эти истории и эти песни. Я не раз слушал их лунною ночью на
баиянской набережной против рынка, во время ярмарок, у причалов малых
гаваней побережья, возле огромных шведских судов в Ильеусском порту.
Людям моря есть что порассказать.
Послушайте же эти истории и эти песни. Послушайте историю Гумы и
Ливии. Это история жизни у моря; это история любви у моря. А ежели она
покажется вам недостаточно прекрасной, то вина в этом не тех простых,
суровых людей, что сложили ее. Просто сегодня вы услышите ее из уст
человека с суши, а человеку с суши трудно понять сердце моряка. Даже
тогда, когда он любит эти истории и эти песни, когда ходит на все
праздники в честь богини моря Иеманжи, или доны Жанаины, как ее еще
называют, - даже тогда не знает он всех секретов моря. Ибо море - это
великая тайна, постичь которую не могут даже старые моряки.
ИЕМАНЖА-ХОЗЯЙКА ВСЕХ МОРЕЙ И ВСЕХ ПАРУСОВ
Ночь поторопилась. Люди еще не ждали ее, когда она обрушилась на
город тяжкими грозовыми тучами. На пристани еще не зажигались огни, в
таверне "Звездный маяк" тусклый свет керосиновых ламп еще не падал на
стаканы с водкой, и множество шхун еще бороздили волны, когда ветер
внезапно пригнал эту, в черных тучах, ночь.
Люди переглянулись, будто спрашивая о чем-то друг друга. И
глядели на морскую синь, ища и у нее ответа - откуда вдруг эта ночь
прежде времени? Час еще не пробил для ночи. А она вот пришла,
нагруженная тучами, предводимая холодным ветром сумерек, поглотив
солнце, словно наступил конец света.
Ночь пришла на сей раз не встреченная музыкой. Не прозвенел эхом
по городу в ее честь ясный голос вечерних колоколов. Ни один
юноша-негр не тронул для нее струну своей гитары на песчаном
прибрежье. Ни одна гармоника не послала ей своих вздохов с кормы
качающейся на волнах шхуны. По склонам холмов не прокатился глухой,
монотонный перестук макумбы и кандомбле. Почему ж тогда пришла она,
ночь, не дождавшись музыки, не дождавшись, покуда колокола возвестят о
ее прибытии, не дождавшись размеренных переливов гитар и гармоник,
таинственной барабанной дроби обрядовых инструментов? Почему пришла
так вдруг, прежде часу своего, без времени? (Макумба, кандомбле -
негритянская ритуальная церемония.)
Эта ночь была отличной от всех других - отличной и тягостной. Да,
именно тягостной, ибо вид у людей на пристани был растерянный и
беспокойный, и моряк, одиноко тянувший тростниковую водку в пустой
таверне, вдруг сорвался с места и побежал к своей шхуне, словно желая
уберечь ее от какой-то неизбежной и непоправимой беды. А смуглая
женщина, что на молу против рынка ждала шхуну, на которой недавно еще
уходила в море ее любовь, вдруг принялась дрожать не от холодного
ветра, не от холодного дождя, а от холода, каким наполнила любящее ее
сердце эта так внезапно и быстро раскинувшаяся вокруг ночь.
Ибо они - одинокий моряк и смуглая женщина - были этому морю
близкие знакомцы и хорошо знали, что, если ночь настала раньше срока,
много людей погибнет в море, многие корабли остановлены будут на пути
своем и многие вдовы будут плакать неутешно, прижимая к груди головы
малых детей. Ибо они знали: ночь настоящая, ночь лунная и звездная,
ночь музыки и любви, не пришла. Она приходит только лишь в час свой,
когда звонят колокола и какой-нибудь юноша-негр поет себе, перебирая
струны гитары, где-то на песчаном берегу долгую, тоскливую песню. А
та, что пришла сейчас, - нагруженная тучами, предводимая ветром, -
была вовсе и не ночь, а буря. Буря, что топит корабли и убивает людей.
Буря, что притворяется ночью.
Дождь упал на землю в ярости и омыл берег, перемесил песок,
закачал стоящие на причале суда, заставил разбежаться всех, кто ожидал
на берегу прибытия трансатлантического парохода. Один из грузчиков
сказал товарищу, что будет буря. Подъемный кран, как сказочное
чудовище, рассек дождь и ветер, опустив свой груз. Дождь безжалостно
хлестал черные спины грузчиков. Ветер летел быстрый, бешеный, со
свистом, сваливая на пути все, что попадалось, напугав женщин. Дождь
падал сплошной лавиной, застилая глаза. Только черные краны продолжали
свое размеренное движение. На море перевернулась шхуна, и в воду упали
двое. Один - молодой и сильный. Быть может, он произнес чье-то имя в
этот прощальный час. Во всяком случае, то, что он произнес, не было
проклятием, ибо голос его прозвучал сквозь бурю печально и нежно.
Ветер сорвал парус с затонувшей шхуны и понес его к берегу, как
трагическую весть. Чрево моря вздыбилось, волны ударили с силой в
прибрежные камни. Лодки в порту Ленья закачались неистово, и лодочники
решили не ворочаться нынче ночью в маленькие городки побережья. Парус
с затонувшей шхуны занесло куда-то на волнолом, и тогда погасли фонари
на всех других шхунах, и женщины забормотали поминальную молитву, а
глаза мужчин устремились куда-то далеко в море.
Негр Руфино, сидя за стаканом водки, уж не улыбался больше. В
такую бурю Эсмералда, конечно же, не придет.
Огни зажглись наконец. Но были они сегодня тусклые и мерцающие.
Людям, ожидавшим прибытия трансатлантика, так ничего и не удалось
разглядеть. Они укрылись от дождя в портовых складах и лишь смутно
могли различить оттуда подъемные краны и силуэты грузчиков,
пересекавших, согнувшись, лавину дождя. Но они не видели долгожданного
большого корабля, на котором должны приехать друзья, отцы и братья,
невесты, может быть. Они не видели и человека, плакавшего в каюте
третьего класса. Дождь вперемежку со слезами стекал по лицу человека,
что прибыл морскими дорогами на пристававшем в двадцати портах
корабле, и память об огоньках родного селения мешалась с мутным светом
огней незнакомого города, объятого бурей.
Шкипер Мануэл, опытный моряк, лучше всех знающий нрав своего
моря, решил не выходить нынче ночью на промысел. В бурные ночи любовь
слаще и тело Марии Клары пахнет морскою волной.
Огни старого форта не зажигались сегодня. На шхунах тоже было
темно. В городе не было света. Даже подъемные краны остановились, и
грузчики попрятались по складам. Гума со своего шлюпа "Смелый" видел,
как погасли огни, и испугался. Он держал руку на руле, "Смелый"
кренился на сторону... Те, что ждали на пристани трансатлантика, уже
разошлись. Лишь один остался стоять, чтоб пожать руку другому,
спускающемуся по трапу с прибывшего наконец парохода:
- Все в порядке?
- Ну да, - улыбнулся другой.
Тот, что ждал, подозвал машину, и оба молча отъехали. Их уже
заждались, верно.
Человек, прибывший в каюте третьего класса, медленно обвел
взглядом город, в котором говорят на другом языке, где царят другие
нравы. Потом нащупал на груди полупустой бумажник и поспешил со своим
саквояжем по первому попавшемуся переулку. Набережная опустела.
Одна только Ливия, худая, с прилипшими к лицу тонкими мокрыми
волосами, осталась на берегу, возле стоявших у причала шхун,
всматриваясь в даль моря. Она слышала любовные стоны Марии Клары на
палубе шхуны шкипера Мануэла. Но мысли ее были не здесь. Ветер качал
ее, как тростинку, дождь хлестал ее по лицу, по ногам. Но она все
стояла недвижно, подавшись всем телом вперед, вперив взгляд во тьму,
ожидая, не мелькнет ли фонарик "Смелого", пересекая бурю, осветив эту
ночь без единой звезды, возвестив прибытие Гумы.
Внезапно, как и пришла, буря удалилась к другим морям, топить
другие корабли. Ливия явственно слышала теперь любовные стоны Марии
Клары. Это не были уже, однако, резкие вскрики наслаждения и боли,
вскрики раненого зверя, недавно еще рассекающие бурю с каким-то тайным
вызовом. Теперь, когда по городу, по набережным и по морю растекалась
настоящая ночь, лунная, звездная, ночь для любви и музыки, любовь на
шхуне шкипера Мануэла сделалась тихой и успокоительной. Стоны Марии
Клары уподобились теперь радостным всхлипываниям, глухой тихой песне.
Скоро уже приедет Гума, скоро "Смелый" рассечет волну бухты, и она
обнимет мужа худыми и смуглыми руками, и они оба тоже будут стонать от
любви. Теперь буря прошла, теперь Ливии не страшно. Она скоро увидит
красный фонарик "Смелого" в темноте ночи на море. Мелкие волны били в
прибрежные камни, и шхуны на причале тихо покачивались. Вдалеке на
мокром асфальте города отражались огни. Группы людей, которые уже
успокоились и не спешили, направлялись к подъемной дороге. Ливия снова
повернулась взглянуть на море. Вот уже восемь дней, как нет Гумы. Она
осталась в старом домишке на берегу. На сей раз она не отправилась
вместе с ним в путешествие, каждый раз новое и полное приключений, по
заливу и по спокойной реке. Если б она была на борту, когда
разыгралась буря, было б лучше. Он-то боялся бы за жизнь подруги, но
вот ей, Ливии, было б вовсе не страшно, потому что она была бы с ним,
а он знает все морские дороги, зоркий глаз указывает ему путь лучше
любых фонарей, а рука его тверда на руле. Он теперь уж скоро приедет.
Весь промокший от дождя и бури, мускулистый и веселый, махнет крепкой
рукой, на которой возле локтя вытатуирована стрела и ее, Ливии, имя, и
примется шумно рассказывать разные истории... Ливия улыбнулась чуть
заметно. Круто повернулась всем своим длинным, смуглым телом в ту
сторону, откуда слышались стоны Марии Клары. Набережная была темна,
два-три фонаря поблескивали на шхунах, но она ясно различала средь них
шхуну шкипера Мануэла, откуда доносились стоны. Вот - стоит на
причале, покачиваясь на волнах. Там мужчина и женщина любят друг
друга, и стоны их доносятся до Ливии. Попозже, скоро, верно, это уж
она, Ливия, будет на корме "Смелого" прижимать к своему телу крепкое
тело Гумы, целовать его темные волосы, чувствовать вкус моря на его
коже и вкус смерти в его едва вырвавшихся из бури и тревоги глазах. И
ее, Ливии, любовные стоны будут нежней, чем у Марии Клары, ибо полны
будут долготы ожидания и страха, еще недавно владевшего ею. Мария
Клара прервет свою любовную песнь, чтоб услышать музыку плача и смеха,
что вырвется из уст Ливии, когда Гума прижмет ее к себе, сожмет
руками, еще влажными от морской пены.
Мимо прошел один из лодочников и сказал Ливии: "Добрый вечер".
Группа людей вдалеке рассматривала парус потонувшей шхуны. Он лежал,
очень белый, порванный, у самого берега. Несколько мужчин уже вышли в
море искать тела погибших. Но Ливия думает о Гуме, что вот-вот
причалит, и о ночи любви, что ждет ее. Эта ночь будет счастливее, чем
у Марии Клары, которая не ждала и не страшилась.
- Знаешь, кто утонул, Ливия?
Она испугалась. Но нет, это не парус "Смелого". У него парус
гораздо больше и так сильно не порвался бы. Ливия оборачивается и
спрашивает у Руфино:
- Кто ж это был?
- Раймундо с сыном. Их перевернуло-то вблизи берега... Буря уж
больно лютовала.
В эту ночь, думает Ливия, любовь уже не придет к бедной Жудит, ни
в ее хижине, ни на шхуне ее мужа. Жакес, сын Раймундо, умер. Надо
пойти туда. Позже. После того, как Гума появится, после того, как
утолят они оба муку ожидания, после того, как минует час любви. Руфино
поднял голову и смотрит, как всходит луна.
- Уж отправились искать тела.
- Жудит уже знает?
- Я пойду сказать ей...
Ливия глядит на негра. Великан. И водкой от него пахнет. Пил,
наверно, в "Звездном маяке". Почему он так смотрит на эту полную луну,
что всходит где-то посреди моря и освещает все вокруг серебристым
светом? Мария Клара все еще вздыхает от любви. Жудит не узнает любви
нынче ночью. Ливия ждет Гуму - он вернется, обрызганный морской
волною, пропитанный вкусом и запахом моря. Как красиво море, когда
луна так вот все побелила! Руфино еще не ушел. Со стороны старого
форта слышится музыка. Кто-то играет на гармонике и поет:
Ночь для любви дана...
Густой голос. Такие голоса бывают у негров. Руфино смотрит на
луну. Быть может, он тоже думает о том, что Жудит нынче ночью уж не
узнает любви. Ни нынче, ни после. Никогда... Ее муж погиб в море.
Пусть волны качают нашу любовь...
Погляди, как светит луна...
Ливия спрашивает у Руфино:
- Мать Жудит все еще у них живет?
- Нет. Старуха уехала в Кашоэйру. На шхуне...
Он сказал это словно вскользь, все глядя на луну. Красиво поет
негр в старом форте, но песня его не утешит Жудит.
Руфино протянул Ливии руку:
- Ну, пошел я...
- Я тоже приду. Попозже...
Руфино отошел на несколько шагов. Остановился:
- Вот печаль-то... Тяжко... Как скажу ей, что он погиб?
Почесал задумчиво голову. Отошел еще немного. Ливии стало так
грустно. Никогда больше Жудит не узнает любви. Никогда не выйдет с
любимым в море, в час, когда светит луна. Ночи ей теперь даны уж не
для любви, а для слез... Руфино протянул руку:
- Пойдем со мной, Ливия. Ты лучше знаешь, как сказать...
Но ведь Ливия ожидает свою любовь, Гума скоро будет здесь, алый
фонарик "Смелого" вот-вот покажется вдали, еще немного - и они обнимут
друг друга, прижмутся друг к другу всем телом. Еще немного - и его
шлюп поплывет по светлой полосе, которую луна простелила на море.
Ливия ожидает свою любовь, она не может уйти. Сегодня, после всего
этого страха, после того, как перед глазами ее стояло видение Гумы,
тонущего в бурном море, Ливия хочет любви, хочет радости, хочет
страсти. Ливия не может идти плакать к Жудит, которой не суждено уж
любить.
- Я гляжу, не покажется ли Гума, Руфино.
Пожалуй, негр подумает, что у нее сердца нет... Но ведь Гума
скоро уж... Ливия произносит тихо:
- Я немножко позже приду...
Руфино приветливо машет рукой:
- Ну, доброй ночи тогда...
- До скорого...
Руфино нехотя делает еще несколько шагов. Смотрит на луну,
слушает песню, доносящуюся с форта:
Пусть волны качают нашу любовь...
Оборачивается:
- Ливия...
- Да?
- Ты знала, что она ребенка ждет?
- Жудит?
- Такое вот дело...
Идет дальше. Еще раз взглядывает на луну. Удаляется. В старом
форте голос поет:
Ночь для любви дана...
Мария Клара плачет и смеется в объятьях мужа. Ливия вдруг
срывается с места и кричит Руфино, тень которого виднеется вдали:
- Я иду с тобой.
Они идут вместе. Она все еще не спускает взгляда с моря. Кто
знает, может быть, фонарь, что поблескивает вдали, горит на борту
"Смелого"?
Жудит - высокая мулатка, и живот у нее уже натягивает ситцевое
платье. Все молчат. Негр Руфино беспомощно машет руками, не зная, куда
их девать, и в испуге глядит на остальных. Ливия - вся сострадание,
нежно поддерживает голову Жудит. Много уж людей собралось. Пробормотав
соболезнование, они топчутся на месте, ожидая, когда принесут тела
погибших, которые другие моряки ищут на дне морском. Из угла, где
притаилась Жудит, слышатся глухие рыдания, и руки Ливии подымаются и
опускаются в каких-то ласковых взмахах. Потом пришли шкипер Мануэл и
Мария Клара - глаза у них сонные.
Ничто не напоминает более о недавней буре. Даже Мария Клара
прервала свои любовные вздохи. Ничто не напоминает о буре. Но почему ж
тогда Жудит плачет, почему Жудит стала вдовой, почему люди собрались
здесь и ждут, когда принесут два мертвых тела? Негр Руфино охотно бы
ушел отсюда, убежал бы, укрылся бы в радости объятий, которые раскроет
для него Эсмералда. Тяжело ему видеть этот печальный дом, горе Жудит,
он сам не свой, не знает, куда деть руки, и чувствует, что будет еще
тяжелей, когда принесут труп Жакеса и придется всем смотреть на
последнее свидание Жудит с ее мужем, с человеком, который любил ее,
который владел ее телом, от которого у нее сын.
Ливия держится стойко. И так она еще красивее. Кто отказался бы
жениться на Ливии, чтоб она плакала по нему, когда он утонет в море?
Сейчас она нежна с Жудит, как сестра.
Ей, наверно, тоже хочется бежать отсюда, идти на берег, ждать
Гуму, ждать под звездами своей ночи любви. Всем больно от боли Жудит,
и Мария Клара думает, что когда-нибудь так же вот и шкипер Мануэл
останется на дне морском в бурную ночь, и Ливия покинет берег, где
ждала Гуму, чтоб принести печальную весть и ей, Марии Кларе. Она с
силой прижимает к себе локоть шкипера Мануэла, который спрашивает:
- Ты что?
Но Мария Клара плачет, и шкипер Мануэл не настаивает на своем
вопросе. Принесли графин с водкой. Ливия уводит Жудит в комнату. Мария
Клара идет с ними и теперь сменила Ливию - плачет вместе с вдовою,
плачет о самой себе.
Ливия возвращается к остальным. Мужчины теперь тихонько
переговариваются о чем-то, обсуждают недавнюю бурю, вспоминают отца с
сыном, погибших нынче ночью. Один негр замечает:
- Старик-то был сила... Храбрец, каких и не сыщешь...
Другой начинает рассказывать давнюю историю:
- Вы помните все, наверно, тот ураган в июле? Так вот Раймундо...
Кто-то открывает графин с водкой. Ливия проходит между мужчин и
направляется к двери... Ей слышен отсюда гул спокойного моря, гул
вечный, однообразный, гул каждого дня... Гума, наверно, скоро вернется
и, конечно, придет искать ее сюда, к Жудит. В сумраке, скрывшем
пристань, ей видятся вдали приближающиеся паруса рыбачьих шхун. И
вдруг ее охватывает то же дурное предчувствие, что недавно Марию
Клару. А если когда-нибудь, в такую вот ночь, ей принесут весть, что
Гума остался на дне морском, а "Смелый" блуждает по волнам без пути,
без руля, без кормчего? Только сейчас пронзила ее вся боль Жудит, и
она почувствовала себя и впрямь ее сестрой и сестрой Марии Клары и
всех, всех женщин, чья судьба связана с морем, чья судьба едина: ждать
такой вот бурной ночью вести о гибели своего мужчины.
Из комнаты донеслись рыдания Жудит. Одна осталась. С ребенком под
сердцем. Может быть, еще когда-нибудь придется ей так же оплакивать и
этого сына, что не родился еще. В группе мужчин негр продолжает
рассказ:
- Пятерых спас... Ночь была - конец света... Многие видали в эту
ночь саму Матерь Вод... Своими глазами... Раймундо...
Жудит рыдает в глубине комнаты. Такова здесь судьба всех женщин.
У мужчины здесь лишь одна дорога - дорога в море. По ней уходят они,
ибо такова их судьба. Море господствует над ними всеми. От него - вся
радость и вся боль, ибо оно - тайна, постичь которую не могут даже
старые моряки, даже те, что давно уж не выходят в море, а сидят себе
на берегу, чинят ветхие паруса и рассказывают давние истории. Кто ж
может разгадать тайну моря? Оно несет и музыку, и любовь, и смерть. И
разве не над морем луна полней? Море непостоянно и зыбко. И, как море,
непостоянна и зыбка жизнь людей под парусами шхун. Кому из них под
конец жизни удалось понянчить внуков и посидеть в кругу семьи за
обедом и завтраком, как бывает то у людей земли? У каждого из них есть
что-нибудь на дне морском: сын, брат, рука, оторванная акулой, шхуна,
перевернутая волнами, парус, растерзанный в клочья ветром бури. Но
однако ж кто из них не знает песен любви на ночном прибрежье? Кто из
них не умеет любить горячо и сладко? Ибо каждая ночь любви может
оказаться последней. Когда они прощаются с женщиной, то не целуют
походя и торопясь, как люди земли, спешащие по своим делам. Они
прощаются долго и все машут, машут на прощание, словно зовя за собою.
Ливия смотрит на людей, подымающихся по пологому склону холма.
Они приближаются двумя группами. Фонари придают траурной процессии
какой-то призрачный вид. Как предчувствие их приближения, громче
слышится из комнаты плач Жудит. Достаточно взглянуть на непокрытые
головы людей, чтоб понять, что они несут тела погибших... Отца и сына,
утонувших вместе в эту бурную ночь. Без сомнения, один хотел спасти
другого, и погибли оба... А откуда-то из глубины всего, со старого
форта, с набережной, со шхун, из какого-то далекого, не ведомого
никому места песня провожает тела усопших. Она говорит:
О, как сладко в море умереть...
Ливия плачет. Прижимает Жудит к груди и плачет вместе с нею,
плачет, уверенная, что придет и ее день, и день Марии Клары, и день
всех их, всех женщин, что живут у моря. А песня пересекает набережную,
чтоб дойти до них, этих женщин:
О, как сладко в море умереть...
Но даже присутствие Гумы, что пришел с траурной процессией и кто
первым отыскал тела умерших, не может сейчас утешить Ливию.
Только песня, что слышится неведомо откуда (быть может, и впрямь
со старого форта), уверяющая, что так сладко умирать в море,
напоминает сейчас Ливии о смерти мужа Жудит. Тела, верно, уж положили
в комнате. Жудит, на коленях, плачет у тела мужа, мужчины столпились
вокруг, Мария Клара с тревогой думает, что когда-нибудь так вот утонет
и ее Мануэл.
Но зачем ей, Ливии, думать о смерти, о всех этих печалях, когда
ее ожидает любовь? Ибо сейчас она здесь, на корме "Смелого", вместе с
Гумой. Ливия растянулась на досках в тени свернутого паруса, глядя на
своего мужа, не торопясь раскуривающего трубку. Зачем думать о смерти,
о людях, борющихся с волнами, когда ее любимый здесь и буря ему уж не
страшна, а огонек его трубки разгорается над темным морем самой яркой
звездочкой? Но Ливия задумчива. И грустна. Что ж он не подойдет, не
сожмет ее покрепче своими сильными руками, татуировку на которых она
знает наизусть? Ливия ждет, положив руки под голову, ее девические
груди едва проступают под легким платьем, которое ночной ветерок,
теперь мирный, приподымает и колышет. "Смелый" тихонько покачивается
на волнах.
Ливия ждет, и так красива она в этом своем ожидании... Самая
красивая женщина из всех, каких можно видеть на пристани. Ни у одного
из здешних моряков нет такой красивой жены, как у Гумы. Все они
говорят об этом открыто, и все приветливо улыбаются Ливии. Все они
охотно взяли бы ее с собой в плавание, охотно сжали бы мускулистыми
руками. Но она принадлежит Гуме, ему одному, венчана с ним в церкви
Монте-Серрат, где обычно венчаются рыбаки, лодочники и шкипера со
шхун. Даже моряки, что ходят в дальнее плавание на огромных пароходах,
тоже приходят венчаться в церковь Монте-Серрат, вскарабкавшуюся высоко
на холм, нависший над морем. Это их церковь, морская. Ливия с Гумой
венчались там, и с тех пор на ночной набережной, на палубе "Смелого",
в комнатах "Звездного маяка", на песке прибрежья они любят друг друга,
соединяются в одно тело над морем и под луною.
А сегодня, когда она так долго ждала его, так боялась за него во
время бури, он к ней и не подходит, курит себе спокойно свою трубку...
Потому-то Ливия так неотступно думает о Жудит, у кого не будет больше
любви, для кого ночь навсегда отныне станет ночью слез. Ливия
вспоминает: Жудит упала наземь рядом с умершим мужем. Глядела ему в
лицо, теперь уж недвижное, в глаза, что никогда уже не улыбнутся, что
видели уже глубоко под волнами лик богини Иеманжи, Матери Вод.
Ливия с гневом думает о богине. Она - Матерь Вод, хозяйка моря, и
потому все мужчины, что проводят жизнь свою на волнах, испытывают
страх перед ней и любовь к ней. Она карает их и за страх, и за любовь.
Никогда не является она пред ними, покуда не настигнет их смерть на
дне морском. Те, что гибнут во время бури, - ее любимцы. А тех, что
гибнут, спасая других, берет она с собою в плавание по дальним,
неведомым водам, и плывут они, словно корабли, по всем морям и океанам
и заходят отдохнуть во все порты и гавани. Вот их тела никогда еще не
удавалось найти, ибо они уходят с Матерью Вод. Чтоб увидеть ее, многие
бросались в море с улыбкой и никогда более не появлялись среди живых.
Неужто она спит со всеми этими мужчинами в водной глубине? Ливия
думает о богине с гневом. Сейчас она, верно, с теми, кто утонул нынче
ночью, - отцом и сыном. Возможно, они поспорили из-за нее или даже
схватились врукопашную, а ведь так дружны были всегда. Когда Гума
нашел тела, рука старика крепко сжимала рубашку сына. Умерли-то они
друзьями, но сейчас - кто знает?.. Из-за нее, Иеманжи, хозяйки моря,
женщины, которую видят лишь мертвые, может, уж поссорились, и
Раймундо, может, и нож выхватил - все ведь видали, что когда он уходил
в море, то нож за пояс заткнул, а когда нашли тело, ножа при нем не
было. Борются, наверно, в глубине вод, чтоб решить спором, кто ж из
них пойдет с нею в плавание по всем морям, взглянуть на диковинные
города по другую сторону земли. А Жудит, что сейчас обливается
слезами, Жудит, у кого ребенок под сердцем, Жудит, что так и зачахнет
на тяжелой работе, Жудит, что больше не полюбит ни одного мужчину, -
Жудит уже забыта, ибо Матерь Вод прекрасна и светловолоса, а волоса у
нее длинные-предлинные, и только они ее и одевают, а так-то она нагая
совсем под водой... А когда всходит полная луна и плывет над морем, а
на волны ложится золотая дорожка, то это и есть волоса Матери Вод,
тогда только они и видны людям.
Люди земли (а что они знают, люди земли?) говорят, что это лунные
лучи ложатся на море, а вовсе не волоса Иеманжи. Но моряки, шкипера со
шхун и лодочники смеются над этими людьми с суши - а что они знают про
море? Ничего! Вот моряки знают точно, что это волоса Матери Вод,
которая в полнолуние подымается из глубины полюбоваться луной.
Потому-то мужчины так подолгу смотрят на море в лунные ночи. Они
знают, что Иеманжа тут, близко. Негры тогда берутся за свои гармоники
и гитары, играют для нее, бьют в барабаны и поют ей песни. Это - их
подарок хозяйке моря. А другие раскуривают трубки, чтоб осветить ей
дорогу - так ей лучше видна окрестность. Все они влюблены в нее и даже
забывают своих жен, когда богиня расстелит свои волоса по волнам.
Вот с Гумой сейчас то же самое творится, поэтому он так долго
смотрит в серебряную глубину моря и так внимательно прислушивается к
песне негра, зовущей в смерть. Негр поет, что так сладко умереть в
море, ибо там ожидает Матерь Вод, а она - самая красивая женщина во
всем мире. Гума сейчас смотрит на ее волоса, забыв, что Ливия рядом,
растянулась возле него, ждет... А ведь Ливия ждала так долго этого
часа любви, Ливия видела, как буря крушит все кругом, опрокидывает
корабли, убивает людей... Ливия так страшилась за него, Гуму. А сейчас
ей так хочется обнять его, целовать в губы, угадать, испугался ли он
тоже, когда огни на пристани погасли, прижаться к его телу, чтобы
узнать, сильно ли его обдало волнами. Но Гума сейчас забыл о Ливии, он
думает только о Матери Вод, хозяйке моря. Быть может, он даже завидует
отцу и сыну, что погибли в бурю и теперь, верно, странствуют по
далеким мирам, какие видали только лишь моряки с больших кораблей.
Ливия полна ненависти, ей хочется плакать, ей хочется бежать без
оглядки от этого моря, далеко, далеко.
Какая-то шхуна проплыла мимо них. Ливия приподымается на локте,
чтоб лучше разглядеть. Кто-то кричит со шхуны:
- Добрый вечер, Гума...
Гума машет вслед рукой:
- Счастливого пути....
Ливия смотрит на него. Теперь, когда туча скрыла луну и Иеманжа
опустилась в свои глуби, он погасил трубку и улыбается. Ливия сжалась
в радостный комочек, предчувствуя уже тепло его рук. Гума заговорил:
- Где это пел этот негр, как думаешь?
- Почем знать... Наверно, в старом форте.
- Красивая песня...
- Как жалко Жудит...
Гума смотрит на море.
- Очень... Тяжко ей придется. И еще этот ребенок.
Лицо его мрачнеет, он смотрит на Ливию. Хороша она так вот, в
ожидании... Какие тонкие у нее руки, для тяжелой работы не годятся.
Если он, Гума, останется в море навсегда, ей придется искать другого,
чтоб продолжать жизнь Ее руки не подходят для тяжелой работы. От этой
мысли в нем подымается глухой гнев. Маленькие груди Ливии красиво
вырисовываются под платьем. Все мужчины на берегу неравнодушны к ней.
Всем хотелось бы быть с нею, потому что она самая красивая в здешних
краях. А когда он, Гума, тоже уйдет в плавание вместе с Матерью Вод?
Гуме вдруг захотелось убить Ливию тут же, на месте, чтоб никогда она
не принадлежала другому.
- А если когда-нибудь "Смелый" перевернется и я отправлюсь к
рыбам на ужин?.. - Смех Гумы звучит натянуто.
Голос негра снова рассекает темноту:
О, как сладко в море умереть...
- ...ты тоже будешь работать до седьмого пота или сойдешься с
другим?
Ливия плачет, Ливии страшно. Она тоже думает об этом дне, когда
ее муж останется на дне морском, чтоб больше не вернуться, когда
отправится с хозяйкой моря, с Матерью Вод, в плавание по дальним
морям, поглядеть на дальние земли. Ливия подымается и охватывает
руками шею Гумы:
- Мне сегодня было страшно. Я тебя на берегу ожидала. Мне все
казалось, что ты уж не придешь... Никогда...
Он пришел. Да, он знает, сколько Ливия ждала, как страшилась за
него. Он пришел к ней, к ее любви, к ее рукам, обнимающим его сейчас.
Голос негра все поет вдалеке:
О, как сладко в море умереть...
Теперь уже не блестят под луною волоса богини моря Иеманжи. И
песнь негра смолкает, заглушенная смехом и плачем Ливии, встретившейся
наконец со своей любовью, - Ливии, самой красивой женщины на
прибрежье, о которой мечтают все мужчины и которая сейчас, на палубе
"Смелого", так крепко прижимает к себе того, за кого так страшилась,
за кого так еще страшится.
Ветер бури унесся далеко. Ливни из туч, принесенных искусственной
ночью, падают теперь где-то в других портах. Иеманжа несет тела других
утопленников к другим берегам. Море сейчас спокойное, чистое,
ласковое. Море сейчас - друг морякам. Оно им - и путь-дорога, и дом
родной... Над ним, на корме своих шхун, обнимают моряки любимых жен,
заронив в них новую жизнь.
Да, Гума любит море, и Ливия тоже любит море. Как оно красиво так
вот, ночью, - синее, синее, без конца и края, море - зеркало звезд,
полное фонариками шхун и огоньками шкиперских трубок, полное шепотом
любви.
Море - друг, ласковый друг для всех, кто живет на море. Ливия
чувствует вкус моря, когда Гума прижимает ее к себе. "Смелый"
покачивается на волнах, как гамак, что в рыбачьих хижинах служит людям
постелью.
ЗЕМЛЯ БЕЗ КОНЦА И БЕЗ КРАЯ
Поющий голос, глубокий и звонкий, разгоняет все шумы ночи. Он
доносится со стороны старого форта и разливается над морем и над
городом. Музыка старой песни нежна и печальна, и при звуке ее замирают
на губах слова и смолкают разговоры. Но слова старой песни - жестоки,
они ударяют людей в самое сердце. "Несчастлива та, что станет женой
моряка, - говорится в песне, - не будет ей в жизни судьбы и удачи.
Много слез прольют глаза ее, и рано помрачится свет их, ибо слишком
долго придется глядеть им в бескрайную даль моря, ожидая, не покажется
ли на горизонте знакомый парус..." Голос негра властвует над ночью.
Старый Франсиско знает хорошо и эту музыку, и этот океан звезд,
отраженный океаном воды. Даром, что ли, провел сорок лет на своей
шхуне? И не только звезды знает он. А и все изгибы, отмели и лагуны
залива и реки Парагуасу, все окрестные порты, все песни, что в них
поются. Жители этой части реки и побережья - все его друзья, и говорят
даже, что как-то раз, в ночь, когда старый Франсиско спас всю команду
одного рыбацкого судна, он видел вдали силуэт Матери Вод, которая
поднялась из глуби для него, в награду за его подвиг. Когда заходит
речь об этом случае (и все молодые моряки спрашивают старого
Франсиско, правда ли это), старик только улыбается и произносит:
- На свете много чего говорят, парень...
Так вот никто и не знает, правда ли это или выдумка. Возможно, и
правда. Иеманжа - с причудами, а уж если кто и заслужил право видеть
ее и любить, так это старый Франсиско, живущий на прибрежье столько
лет, что уж никто и не знает сколько. А еще лучше, чем все отмели и
все излучины, знает старик разные истории здешних вод и земель, помнит
все празднества в честь Иеманжи, или Жанаины, как ее еще называют, все
кораблекрушения и все бури. Да разве есть такая история, какой не
знает старый Франсиско?
Когда наступает ночь, он покидает свой ветхий домишко и идет на
берег. Проходит по цементу набережной, покрытому грязью, вступает в
воду и ловко прыгает на палубу какой-нибудь шхуны. Тогда все начинают
просить его рассказать что-нибудь: какую-нибудь быль, какой-нибудь
случай. Нет лучшего рассказчика, чем старый Франсиско.
Теперь-то он живет тем, что чинит паруса. Да еще Гума, племянник,
подкармливает старика. Но были времена, когда он управлялся с тремя
шхунами. Ветры и бури унесли его шхуны. Но не смогли унести старого
Франсиско. Он всегда возвращался живым в родной порт. А имена трех
шхун вытатуированы на его правой руке рядом с именем брата, погибшего
в бурю. Быть может, когда-нибудь придется ему добавить к этим именам
имя Гумы, если Матери Вод вдруг взбредет в голову полюбить его
племянника. По правде говоря, старый Франсиско смеется над всем этим.
Конец для всех одинаков - на дне морском. И если он, Франсиско, там не
остался, то потому лишь, что Жанаина не пожелала, а предпочла, чтоб он
ее увидел живым и потом рассказывал о ней молодым морякам. А честно
сказать, зачем он живет-то? Чтоб чинить паруса? Никакой теперь от него
пользы, в плавание ходить он больше не может, руки ослабли, глаза
плохо видят в темноте. Зачем живет? Чтоб смотреть, как племянник
выходит в море на своем "Смелом"? Лучше уж было остаться в глубине вод
вместе с "Утренней звездой", самой быстроходной его шхуной, что
затонула в ночь Святого Жоана. А то теперь он, Франсиско, только и
делает, что смотрит, как уходят в море другие, а сам не может плыть с
ними. Он теперь, как Ливия, дрожит за жизнь близких, когда разыграется
буря, помогает хоронить тех, кто погиб. Как женщина... Много уж лет
прошло с тех пор, как пересек он в последний раз бухту, - рука на
руле, взгляд зорко пронзает тьму, соленый ветер хлещет по лицу, а
шхуна легко бежит по воде под звуки далекой музыки.
Вот сегодня тоже слышится музыка откуда-то издалека. Негр
какой-то поет. В песне говорится, что у жен моряков - тяжелая доля.
Старый Франсиско грустно улыбается. Он-то давно схоронил жену. От
сердца умерла - так доктор сказал. Разом умерла, как-то ночью, когда
буря была и он едва уцелел. Она кинулась ему на шею, а когда он
опомнился, она уж не двигалась, была уж мертвая. Умерла от счастья,
что муж вернулся, а доктор сказал, что от сердца. Он-то, Франсиско,
тогда вернулся, а вот Фредерико, отец Гумы, остался той ночью в море
навсегда. Тела не нашли, потому что Фредерико погиб, спасая брата, и
за это Иеманжа взяла его с собой посмотреть другие земли, очень
красиво там, верно. Так что в ту ночь потерял Франсиско и брата и
жену. Он тогда взял Гуму к себе и воспитал на своей шхуне, в открытом
море, чтоб парень никогда моря не боялся. Мать Гумы, про которую никто
не знал, кто она, в один прекрасный день объявилась и спросила про
мальчика:
- Вы извините, это вы и есть Франсиско?
- Я самый, к вашим услугам...
- Вы меня не знаете...
- Да что-то не вспомню, нет... - Он потер рукой лоб, стараясь
вспомнить всех старых знакомых. - Не узнаю, уж не обессудьте...
- А Фредерико меня хорошо знал...
- Это может случиться, ведь он плавал на больших пароходах
Баиянской компании. А вы сами из каких краев будете?
- Я-то из Аракажу. Как-то раз он приехал в наши края. А у корабля
дыра в боку была преогромная, чудом спаслись...
- Ах, помню, это было в Марау... Трудное было плавание, Фредерико
мне рассказывал. Там вы с ним и познакомились?
- Они у нас месяц простояли. Фредерико уж так меня улещал...
- Да, бабник-то он был, это точно. Хуже обезьяны-самца...
Она улыбнулась, показав плохие зубы:
- Много наговорил: и что увезет меня с собой, и дом мне отстроит,
и оденет, и накормит. Сами знаете, как это бывает...
Старый Франсиско поморщился. Они стояли на берегу, а рядом на
базаре продавали апельсины и ананасы. Они присели на пустые ящики.
Женщина продолжала:
- Беда случилась, лишь когда он сказал, что не вернется на
корабль. Но когда дыру в посудине заделали, он и слушать не стал,
махнул платочком - да и был таков...
- Не скажу, что он хорошо поступил. Хоть и моя кровь, а...
Она прервала:
- Я не говорю, что он плохой был человек. Что делать? Судьба,
видно, так хотела. Я б с ним куда угодно подалась, даже если б знала,
что он меня бросит. Втрескалась больно.
Женщина взглянула на старого Франсиско. А он думал: зачем она
явилась через столько лет? Денег просить, что ли? Так он теперь
последний бедняк, нет у него денег. Фредерико, брат, и впрямь был
бабник...
- Говорил, что пришлет за мной. За вами прислал? - Она
улыбнулась. - Вот и за мной так же. Когда стало сильно заметно, я
хотела снадобье принять, мать не позволила. Отец был человек честный,
крутой, он ко мне с ножом: "Кто да кто? Покончу с ним", - кричит. У
меня и посейчас шрам под коленкой остался. Не дрогнула рука у отца-то.
Зачем она подымает юбку и показывает шрам на голой ноге?
Франсиско не тронет женщину, которая была с его братом, это - большой
грех, за него человека может постичь кара небесная.
- Так я и ушла из дому. Одна-одинешенька на свете. Семья
крестного меня к себе взяла, прислугой. Вот раз накрываю я, значит, на
стол, и вдруг как меня схватит... Боли начались...
Только теперь Франсиско понял:
- Гума?
- Ну да, Гумерсиндо. Это мой крестный имя придумал. Его самого
так звали. Ну, я собрала деньжонок и привезла ребенка к Фредерико. Он
уж был с другой, сына взял, а про меня сказал, что и слышать не хочет.
Снова наступило молчание. Франсиско украдкой взглядывал на
женщину, все старался понять, к чему она клонит. Денег у него нет, во
всяком случае сразу если, то никак нет. А спать с женщиной, что была с
его братом, - нет, он такой вещи не сделает.
- Ну, я и осталась в здешних краях, ворочаться-то стыдно было. И
у бедных стыд есть, верно? Не хотела я на улицу идти в моем краю, где
меня знают... Мой отец был человек уважаемый, он даже одного из моих
братьев учиться послал, на врача... Ну, а потом меня уж по свету
бросало, бросало... Да давно это было все...
Она махнула рукой и стала глядеть на корабли. Сзади, с рынка,
доносился шум голосов, там спорили, смеялись
- Я только три дня тому назад приехала из Ресифе. Давно хотела на
сына взглянуть, знакомый один мне сказал, что Фредерико умер два года
назад. Так что я за сыном... Сама его растить буду...
Франсиско не слышал уже шума, доносившегося с рынка. Он слышал
лишь слова женщины, уверявшей, что она - мать Гумы, и приехавшей за
ним. Он не любил спорить с женщинами. Начнешь с ними - конца не видно.
Но сейчас ему придется поспорить, ибо он ни за что не отдаст Гуму.
Мальчик уже научился управлять рулем на шхуне и свободно мог поднимать
своими детскими руками большие кули с мукой. Спорить Франсиско привык,
но только с суровыми моряками, крепышами-шкиперами, с кем можно не
бояться крепких слов, ибо они-то сумеют за себя постоять. Но с
женщиной, тем более такой, как мать Гумы - в шелковом платье, и духами
от нее несет, и зонтик на руку повесила, и зуб во рту золотой, - нет,
с такой женщиной Франсиско спорить не осмелится. Если невзначай
сорвется у него некрасивое словцо, так ведь она, поди, и расплакаться
может, а Франсиско не мог вынести, когда женщина плачет. А к тому ж
брат и вправду нехорошо с нею поступил. Однако если б моряки только и
думали что о женщинах, которых они покидают в каждом порту... А разве
лучше, когда моряк женится и потом оставляет жену вдовой или когда
жена умирает от сердца при виде мужа, вернувшегося невредимым после
бури? Еще хуже. Нет, Гума не женится. Он всегда будет свободен.
Свободным будет ходить в плавание под своим парусом. И уйдет с Матерью
Вод, когда захочет. Не будет у него якорей, привязывающих его к земле.
Человек, живущий на море, должен быть свободен. А если эта женщина
увезет Гуму, что станется с мальчиком? Будет он столяром, каменщиком,
может, адвокатом или даже священником в женских юбках, кто знает! А
старому Франсиско придется только краснеть за то, что он толкнул на
такое своего племянника, и ничего ему больше не останется, как самому
отправиться навстречу Жанаине в какую-нибудь темную ночь. Нет, ни за
что на свете не даст он этой женщине увезти Гуму.
А женщину уже удивляло молчание Франсиско. С рынка слышались
голоса: "Так дорого? Да вы что? Пугаете?" И обрывки какого-то
разговора издалека: "Он как фукнет раза два из своего револьвера и
побежал. Но человек - он человек и есть, так что я собрался с духом и
тоже выстрелил..."
Старый Франсиско вдруг засмеялся:
- Знаете что, милая? Вы не увезете парня, нет. Да что вы с ним
делать будете?
Он взглянул на женщину, ожидая ответа. Но лицо его говорило
красноречивее слов, что нет на свете такой силы, какая заставила бы
его отдать Гуму. Женщина неопределенно помахала рукой и ответила:
- Вообще-то я сама не знаю... Хочу его увезти, потому что он мой
сын и отца у него теперь нету... Жизнь гулящей женщины сами знаете
какова... Сегодня тут, а завтра в другом месте... Но если он
останется, то с ним будет как с отцом, утонет когда-нибудь...
- А если он пустится в плавание под вашим парусом, тогда как?
- Я его в школу отдам, он научится читать, может, адвокатом
станет, как дядя, брат мой... Не утонет в море...
- Милая женщина, судьба наша там, наверху, пишется. Коль ему
суждено уйти с Матерью Вод, то никакая сила его не избавит от этого.
Если он останется здесь, вырастет настоящим человеком. Если уйдет с
вами, то кончит бездельником за трактирной стойкой...
- Это вы так думаете...
- Да где вы достанете денег на его учение? Вашей сестры я немало
повидал. Сегодня получите, завтра нет... Сами сказали, что нынче тут,
а наутро в другом месте... А сыну женщины с таким занятием иной раз
хуже, чем щенку, приходится, сами знаете...
Она опустила голову, потому что знала, что это правда. Увезти
сына с собой - значит обречь его на вечное унижение, потому что всегда
и для всех будет он сыном публичной женщины. Где б ни очутился он - на
улице ли среди других мальчиков, в школе ли, или еще где, - ничего не
сумеет он сказать, нигде не посмеет свое мнение выразить, потому что
всякий сможет бросить ему в лицо самое худшее оскорбление, какое
только есть на свете...
С рынка все еще доносился голос мужчины, рассказывающий о
происшествии: "...я только и успел увидеть, как блеснул нож, ну,
думаю, выпустит мне сейчас кишки. Замахнулся я, коленом его как
поддам. Нешуточное было дело".
...Да нет, гораздо лучше, чтоб Гума остался здесь, научился
управлять рулем, ходил в плавание, заходил в чужие порты, оставлял там
будущих сыновей под сердцем чужих женщин, вырывал ножи из рук мужчин,
пил тростниковую водку в кабачках, татуировал сердца у себя на руке,
боролся с волнами в бурю, ушел в глубину с Иеманжой - Хозяйкой Моря,
когда пробьет его час. Там никто не спросит, кто была его мать.
- Но я могу иногда приезжать взглянуть на него?
- Всякий раз, как потребует ваше сердце... - Теперь Франсиско
было жаль женщину. Даже самая плохая мать не может совсем уж не любить
своего ребенка. Взять хоть китов: пускай они животные, и мыслей у них
нету, а как защищает самка своих детенышей от китоловов! Иной раз даже
умирает за них!
- Сегодня же вы можете его увидеть. Он плавал в Итапарику,
вечером, попозже, вернется. Вы погодите уезжать...
На лице женщины изобразился испуг:
- Он уже один ходит на шхуне?
- Один. В Итапарику и обратно. Учится. Да он не хуже взрослого.
Теперь на лице женщины сияла гордость. Ее сын, которому едва
одиннадцать лет сравнялось, уже сам управляется с парусным судном, не
боится моря, - он уже настоящий мужчина. Она спросила совсем как-то
по-детски, словно голос ее исходил в эту минуту из самой глубины
сердца:
- Он похож на меня?
Старый Франсиско взглянул на женщину. Несмотря на гнилые зубы,
она была красива. А золотой зуб так даже украшал ее. Тонкий запах
духов исходил от нее, и так странно было вдыхать его здесь, на
набережной, густо пахнущей рыбой! Губы были ярко накрашены, словно кто
искусал их в кровь. Руки, как-то бессильно повисшие вдоль тела, были
округлы и крепки. Несмотря на все, что выстрадала, глядела она молодо,
трудно даже было поверить, что это мать Гумы. А ведь уже одиннадцать
лет, как вела она жизнь уличной женщины, спала с чужими мужчинами,
терпела от них грубое обращение и даже побои. И, несмотря на все это,
была все еще лакомый кусочек. Если б не то, что она когда-то спала с
Фредерико...
- Похож, да. Глаза у него аккурат как у вас. Да и нос ваш.
Она улыбалась. Это была, верно, самая счастливая минута в ее
жизни. Когда-нибудь, когда красота ее совсем увянет, когда мужчины уже
выпьют из нее все соки, будет ей обеспечена спокойная старость: она
переедет к сыну, станет готовить ему обед, ожидать на берегу его
возвращения в бурные ночи. Ей не придется ничего ему объяснять и ни в
чем оправдываться. Сыновья умеют все прощать старухам матерям, вдруг
появляющимся в их доме. И женщина вся отдалась счастливой мечте о
будущем и, убаюканная ею, радостно улыбалась - губами, глазами, всем
лицом, и даже этот запах духов, напоминающий о кабаках и притонах,
вдруг исчез куда-то, и от нее так свежо пахло теперь морем и соленой
рыбой.
Около девяти показался у берега Гума на "Смелом". Пристал у
небольшого причала, сложил руки трубочкой и крикнул:
- Дядя! Э-ге-ей, дядя!..
- Иду-у-у!..
Гума слышал приближающиеся голоса. Кто-то шел по берегу вместе с
дядей, кто-то незнакомый, - Гума хорошо различал издалека голоса.
Шкипер Мануэл крикнул с палубы своей шхуны:
- Гости к тебе, парень!
Кто же это пришел к нему? По голосу, видно, женщина. Неужто дядя
привел все-таки женщину, чтоб он, Гума, спал с нею? Последнее время
Франсиско и знакомые рыбаки подшучивали над ним, все говорили, что ему
пора уже иметь дело с бабой, и грозились привести и оставить с ним
вдвоем на палубе, посреди моря:
- Вот тогда посмотрим, умник-разумник...
И рыбаки так и покатывались со смеху, подмигивая друг другу.
- Да он уж взрослый мужик, ваш Гума, - говорил Антонио, хозяин
шхуны "Святая вера", с большим убеждением.
- Испытать его надо. - И Раймундо потирал руки, густо хохоча: -
Мой Жакес уже вкусил плода, а как же...
Гума знал, о чем они говорили: надо спать с женщиной, тогда его
не будут мучить такие сны, от которых он просыпается весь словно
избитый. Много раз, в маленьких портовых городишках, где они с дядей
приставали во время плавания, случалось Гуме проходить по улицам
гулящих женщин, но у него никогда не хватало мужества войти хоть в
один дом. Никто не давал ему меньше пятнадцати лет, хоть было ему
всего одиннадцать. С этой стороны все в порядке. Но какое-то смутное
опасение мешало ему войти. Он был уверен, что умрет со стыда, когда
женщина догадается, что он это в первый раз... И боялся, что прогонит
от себя, обойдется как с ребенком, сиротой, заблудившимся в чужом
городе. Ей, женщине, сразу ведь не угадать, что он уж один выходит под
парусом в открытое море, что он такие огромные мешки с мукой таскает
на спине, не всякому взрослому под силу. Еще, поди, посмеется над ним.
Гума не решался зайти... А теперь вот дядя привел ему женщину, как
обещал. Гуме стало неловко: дядя, наверно, рассказал ей, что он
никогда еще не имел дела с женщиной, что он пень пнем, трусишка
жалкий, вы, мол, не смотрите, что у него нож за пояс заткнут. И что
сказать этой женщине, как вести себя с ней? А вдруг дядя не уйдет и
захочет посмотреть, что он, Гума, предпримет, только чтоб посмеяться
потом над увальнем племянником? Нет, тогда он убежит, совсем уйдет
отсюда, никогда больше не взойдет на палубу и не выйдет в море - от
стыда... Гума в большом смятении слушает приближающиеся голоса. Он
дрожит с головы до ног, и вместе с тем ему хочется, чтоб они шли
быстрее, ибо он должен стать настоящим мужчиной как можно раньше, -
тогда-то уж он один-одинешенек будет плавать на "Смелом" по всем
рекам, по всем каналам, будет заходить во все порты.
Голоса приближаются. Да, это женщина. Дядя выполнил обещание -
привел. Ему стыдно, верно, за племянника, который еще не мужчина, еще
не знает женщин. И поскольку у Гумы не хватает смелости войти в дом
какой-нибудь из них, дядя ему привел женщину, - так слепому приносят
пищу или калеке - воду. Унижение-то какое... Но Гума не хочет
задумываться. Он думает о том, что скоро почувствует рядом с собою
тело женщины, заключающее в себе все тайны жизни. Он попросит дядю
уйти, оставить его одного с нею и уведет судно на самую середину
залива. Со старого форта или с какой-нибудь шхуны будет доноситься
музыка. Он будет любить, узнает тайну всего и тогда сможет один вести
"Смелый" по всему побережью, сможет, когда придет его день, без страха
взглянуть в лицо Матери Вод и сможет любить ее на дне морском, ибо
будет знать те тайны, о которых столько говорят взрослые мужчины. Гуме
стало даже холодно, хотя ночь была душная и теплый ветер дул мирно,
едва-едва покачивая корабли. По правде говоря, Гуме было не холодно, а
страшно. Голоса становились все явственней.
- Он еще ребенок, но вы взгляните ему в лицо - настоящий
мужчина...
Голос дяди. Женщина спрашивает, видно, каков он из себя. Понятно,
она хочет знать, как ей с ним обходиться. Но он ей докажет, что он уже
взрослый, что он сильный, он ее так сожмет, что она заплачет, и не
отпустит, пока она не признает, что он даже сильнее тех взрослых
мужчин, с какими ей приходилось иметь дело. Теперь слышится голос
женщины:
- Я хочу, чтоб он был красивым и храбрым...
Сердце Гумы наполняется радостью. Он уже любит эту женщину,
которой еще не видел и не знает, которую дядя привел для него, Гумы.
Он повезет ее с собой по всем портам побережья, станет плавать с нею
на "Смелом" по всем рекам. Он не отпустит ее больше на улицу. Нет, она
будет с ним всегда, всю жизнь. Наверно, красивая, дядя хорошо
разбирается в этом деле, все говорят. Женщины, которых он приводит по
ночам на палубу "Смелого", всегда красивы. В такие ночи Гума слышит
странные шумы, стоны, шепоты, смех. Иногда он пугается и убегает, а
иногда, напротив, прислушивается, одержимый диким желанием взглянуть,
что там такое творится, и каким-то страхом, удерживающим его от этого.
Как-то ночью он услышал резкий женский крик - крик боли. Он кинулся
было на палубу, уверенный, что дядя бьет женщину. Но его не пустили.
Только много времени спустя он понял, что означало это пятно крови,
которое наутро обнаружил на досках. Та молоденькая мулатка много еще
раз приходила к дяде, но Гума больше не слыхал, чтоб она кричала.
Постанывала только, как другие. Женщина, что пришла сегодня, наверно,
не будет кричать, для нее это не в первый раз. Но когда-нибудь и он,
Гума, заставит какую-нибудь женщину так вот кричать на палубе
"Смелого", как кричала та мулатка, любовь его дяди...
Слышится голос Франсиско:
- Гума!
- Я здесь!..
Шлюп подплыл совсем близко к берегу. Сейчас они пересекут эту
полосу грязи и увидят якорь, держащий его у причала. Дядя и женщина
уже возле самой воды. Вот Франсиско одним прыжком взобрался на шлюп,
протягивает руку женщине, которая тоже прыгает, показав голые полные
ноги. Гума смотрит, и словно огонь наполняет его всего. Красивая, да.
Теперь дядя пускай уходит, пусть не вмешивается, оставит Гуму с ней
одного, Гума покажет, на что он способен. Женщина смотрит на Гуму с
умилением. Да, он очень понравился ей. Он и правда глядит взрослым
мужчиной, несмотря на свои одиннадцать лет. Гума улыбается, показывая
белые зубы. Франсиско как-то растерянно машет руками. Женщина
улыбается. Гума смотрит на дядю и на женщину и почему-то радостно
смеется. Женщина спрашивает:
- Ты меня не узнаешь?
Да, он узнает ее. Он давно уж ее ждет. Он искал ее в улицах
пропащих женщин, на берегу моря, в каждой женщине, бросившей на него
взгляд. Теперь он нашел ее. Это его женщина. Он давно уже знает ее, с
тех самых пор, как странное волнение стало овладевать им, смущая его
сны.
Франсиско говорит:
- Это твоя мать, Гума.
Почему странное волнение не покинуло Гуму от этих слов дяди? Нет,
никак невозможно, чтоб это была его мать, - да ему никто никогда и не
говорил о матери, да он никогда и не думал о ней. Дядина хитрость,
ясно. Женщина, стоящая перед ним сейчас, - это уличная женщина, что
пришла спать с ним. Франсиско не должен был и сравнивать ее с его
матерью, такой, верно, доброй, ласковой... Что общего у его матери со
всеми этими делами, о которых он только что думал? Но женщина подошла
к Гуме и поцеловала так ласково. Так наверно, целует только мать.
Продажные женщины целуют, конечно же, совсем иначе. Голос женщины
звучит тепло и чисто:
- Я оставила тебя так давно... Теперь я никогда больше тебя не
оставлю...
Тогда Гума вдруг принимается плакать, сам не зная почему: потому
ли, что нашел мать, потому ли, что потерял женщину, которую так ждал.
Он смотрит на нее, не зная, что сказать. Сегодня ночью он не
матери ждал, нет. Он ждал нечто совсем иное. Она глядит на него
растроганно, много и взволнованно говорит о Фредерико, каждую секунду
повторяя:
- Я теперь останусь с тобой...
Зачем она пришла? Откуда? Почему обнимает его с таким волнением?
Она ему чужая. Ни разу не вспомнил он о матери. Никто, за все
одиннадцать лет его жизни, не говорил с ним о ней. И приход ее
смешался в нем с волнением совсем иным, она пришла вместе с
искушением, отняв у него что-то, чего он так желал. Он знал теперь,
что это его мать, и вместе с тем она больше походила на женщину,
которую он ждал, потому что запах духов, исходивший от нее, был
запахом тех женщин и тех улиц, и как ни старалась она побороть себя,
но каждое мгновение из уст ее вылетали слова, каких он не хотел бы
слышать от своей матери, и невольно позволяла она себе движения, каких
он не видал у моряцких жен с побережья. Это была его мать, но
Франсиско смотрел на нее слишком пристально, на белую шею и начало
грудей, выступавших из выкаченного ворота платья, на округлые ноги,
видные из-под подола, задираемого ветром... Гуме хочется одного -
плакать. Мужчине плакать стыдно, кто в этом сомневается? А особенно
моряку. Довольно и того, что плачут женщины. Моряк никогда не должен
плакать. Поэтому Гума кусает губы и молчит, ожидая, когда уж она уйдет
и весь этот сон наконец рассеется. Франсиско нравится женщина. Он
думает, что ведь она спала с его братом, она - мать Гумы, но смотрит
на нее, такую свежую, крепкую, и чувствует соблазн. И начинает
говорить, торопясь, уговаривая ее уйти вместе с ним:
- Вам еще всю набережную пройти надо. Темнеет уже...
Она прощается с Гумой:
- Я буду навещать тебя, сынок...
Франсиско уходит с нею, Гума смотрит им вслед с палубы "Смелого".
Ни на мгновение не почувствовал он ее своею матерью. И вот не он, а
старый Франсиско будет спать с нею нынче ночью. Один в темноте, Гума
заплакал. Впервые в жизни явственно услышал он песню, в которой
говорится, что сладко умереть в море. И впервые в жизни захотелось ему
самому пойти на свидание к Матери Вод, Иеманже, или Жанаине, как ее
еще называют, ибо она одновременно и мать и женщина для всех моряков.
Старый Франсиско вернулся в ярости. Губы плотно сжаты, брови
насуплены. Вспрыгнул на палубу, не проронив словечка, растянулся на
досках, попыхивая трубкой и глядя на море. Гума улыбнулся: дядя тоже
остался без женщины на эту ночь. Мать Гумы не захотела спать с братом
своего Фредерико. У таких, как она, тоже есть свое понятие чести.
Только теперь почувствовал Гума какую-то нежность к этой женщине.
Но вот взошла луна, и волоса Жанаины расстелились по воде. Музыка
пришла со шхун, со стороны старого форта, с лодок, с набережной,
приветствуя Матерь Вод, хозяйку моря, которой все страшились и которую
все желали. Она была женой и матерью. Она одна знала желания людей
моря, и она одна умела утолить их и утишить. Женщины в этот час
молятся ей. Все чего-нибудь у нее просят. Гума попросил красивую
женщину, красивую и хорошую, без этого странного запаха духов, который
принесла с собою его мать, просил, чтобы Иеманжа подарила ему женщину
молодую и невинную, как он сам, почти такую же красивую, как сама
богиня моря. Может быть, тогда растает перед его глазами образ матери,
потерянной на улицах продажных женщин, отдающейся без разбору
мужчинам, чуть было не соблазнившей его дядю и даже его самого, Гуму,
родного сына.
Иеманжа, которую лодочники называют Жанаина, добра к людям моря.
Она снисходит к их желаньям и снам.
Мать Гумы не вернулась больше. Никогда. Подалась, значит, в
другие земли, ведь уличные женщины, словно моряки, не задерживаются
надолго ни в одном порту. Все странствуют, ищут мест, где им можно
заработать. Но долго еще ее образ, странный запах ее духов тревожили
крепкий сон Гумы. Он хотел бы, чтоб она вернулась, но не как его мать,
не со словами материнский нежности на устах, а как гулящая женщина, с
губами, открытыми для поцелуя. Гума потерял покой. В его мальчишеской
душе смешался образ, в котором все видели воплощение самой чистоты, -
образ матери - с образом женщины, отдающейся мужчинам за деньги,
сделавшей любовь профессией. Никогда не было у него матери. А нашел он
ее лишь затем, чтоб сразу же потерять, чтоб желать ее помимо воли,
чтоб почти возненавидеть память о ней. Есть лишь одна мать, которая
может быть одновременно женою, - Иеманжа, Матерь Вод. Потому так любят
ее мужчины прибрежья. Но чтоб узнать любовь Иеманжи, жены и матери,
надо умереть. Часто появлялось теперь у Гумы желание броситься в волны
с палубы "Смелого" во время бури. Тогда он отправится в плавание с
Жанаиной, тогда сможет он любить одной любовью мать и жену.
Но вот как-то вечером старый Франсиско привел на свое судно
какую-то мулатку, а сам ушел. Когда Гума поднялся на палубу в
засученных брюках, с обрызганными грязью ногами, она лежала, лениво
раскинувшись на досках, и взглянула на него как-то по-особому. Он
понял. С тех пор, как приезжала мать, прошло уже два года. Та, что
теперь явилась перед ним, должна бы прийти тогда, вместо матери. Было
бы лучше.
И когда большие тучи поглотили луну, он вывел шлюп на середину
гавани, а свежий ветер летел ему вслед, и со старого форта слышалась
музыка. Гума громко крикнул несколько раз - из гордости. Наверно, на
берегу старый Франсиско и другие взрослые мужчины говорят о нем и
смеются. Пусть! Он тоже уже мужчина, он знает, как обращаться с
женщиной. Теперь-то он сможет ходить на "Смелом" по всем портам, один,
как настоящий шкипер, хозяин парусной шхуны. Он пристал к берегу в ту
ночь в разгар бури, надвинувшейся внезапно. Мулатка при первых
раскатах грома испуганно прижала голову к его груди. Он улыбнулся,
подумав, что Иеманжа, верно, ревнует, потому и наслала на него ветер с
дождем.
Как-то раз (прошли еще годы, прошли еще женщины) старый Франсиско
чуть не разбил шлюп о подводные камни в излучине реки. Если б Гума не
бросился к рулю и не повернул его резко, то что б было со "Смелым"?
Поминай как звали... Старик опустил голову и за весь остаток пути ни
разу не улыбнулся. В тот вечер он не шутил, как обычно, с друзьями в
баре, не рассказывал разных историй. Когда возвращались, он передал
руль Гуме и лег, вытянувшись во весь рост на досках палубы, подставив
тело восходящему солнцу. Он сказал Гуме:
- Я плавал в этих водах больше тридцати лет...
Гума взглянул на дядю. Старик набивал трубку.
- Никогда я не уезжал отсюда, не манили меня другие земли.
Фредерико, твой отец, был не такой, как я. Плавать по здешней реке ему
быстро наскучило. Он считал, что лучше идти матросом на большой
корабль, узнать чужие края... У каждого свой нрав...
Солнце ударялось о спокойную воду. Верхушки больших подводных
камней поблескивали у берега. Гума хотел утешить старика:
- У вас было четыре шхуны, дядя.
- Однажды из плавания Фредерико привез тебя. Тому уж восемнадцать
минуло... Он нанимался матросом на морские суда. Сначала он плавал на
каботажных Баиянской компании, потом поступил на большой корабль,
поплыл искать счастья по всему свету. Ты оставался у нас, покуда он не
вернулся...
- Я помню, дядя. Это было как-то ночью, вдруг...
- Он не сказал, почему возвратился. Думаю, какое-нибудь дело
из-за бабы. Поговаривали, что он выпустил кому-то кишки. Храбрый был
мулат. Обиды не стерпит...
Гума улыбнулся, вспомнив отца в клеенчатом черном плаще, с
которого стекали струйки дождя... Как он обнимал Франсиско, радостно:
- Вот я и здесь, братишка...
Гума тогда испугался, убежал даже, когда отец, с этими своими
огромными усищами, бросился его целовать. Но теперь он испытывал
какое-то безмерное наслаждение, вспоминая эту сцену: как отец вдруг
ворвался к ним в дом... А раньше, говорят, выпустил кому-то кишки
из-за какой-то чернолицей девчонки. Отец, повидавший диковинные
дальние земли, плававший на больших океанских кораблях...
Старый Франсиско продолжал:
- Потом он плавал со мною на моих шхунах. Помнится, на "Утренней
звезде"...
- Помню... Отчаянный был...
- До той самой августовской ночи. До той бури... Он, помню, все
смеялся, и когда уж душа отлетала. Отчаянный был, это ты верно сказал.
Моя старуха тоже в ту ночь померла... От сердца. Я даже доктора звал.
Не помогло. Сердце, сам понимаешь.
Гума задумался: почему дядя вдруг вспомнил обо всем этом? Он знал
столько разных историй о других, зачем рассказывать о себе самом? Гума
находил, что незачем, и ему было отчего-то грустно.
- Мне бы с того дня и бросить плавать-то. Ничего мне уж не надо
стало... Но ты у меня остался, я должен был научить тебя управлять
судном, укрощать его, чтоб слушалось... Теперь ты научился...
Старик улыбнулся. Гума тоже. Он теперь знал, как обращаться с
судном, это верно. А вот старый Франсиско больше уж не знал, он все
свое знание передал племяннику.
- Я старик... Со мной покончено... Меня уж и рыбы не хотят - одни
кости...
Он помолчал с минуту, словно чтоб собраться с силами:
- Ты видел? Когда шли вверх по течению, я чуть не бросил
"Смелого" на камни...
- Да что вы, дядя, стороной прошли!
- Потому что ты взялся за руль. В глазах моих мало уж света. Свет
моря съедает глаза человека...
Он поглядел на Гуму долгим взглядом, словно намеревался сказать
еще нечто важное. Солнце яростно пекло его тело, но он, как старый
зверь, грел на солнце остывающую кровь. Он поднял руку:
- Я стар, кончен я. Но не хочу, чтоб все эти негры на пристани
смеялись надо мной. Что, мол, старый Франсиско плавал да плавал
тридцать лет, а потом взял да и разбил свой шлюп о камни...
Голос его звучал страдальчески. Была в нем какая-то невыразимая
мука, какое-то предвестие конца. Гума молчал, не найдя что сказать.
Старый Франсиско продолжал:
- Ты никому не рассказывай... Знаю, что не захочешь моего
стыда...
Остаток пути прошел в глубоком молчании, и это было последнее
плавание старого Франсиско.
Теперь он один, Гума, выводил "Смелого" в широкие голубые воды.
Старый Франсиско чинил на берегу паруса, рассказывал разные истории.
Для старого Франсиско все закончилось, море, видно, не захотело взять
его к себе, несмотря на смелость и мужество. Он видел Иеманжу живым,
она ему улыбалась, ему не пришлось умереть, чтобы увидеть ее.
Гума остался хозяином шлюпа и прибрежья, но судьба отца влекла и
манила его, он был влюблен в большие корабли, пристававшие в порту,
слушал как зачарованный слова чужих наречий, странные слова, какими
перебрасывались незнакомые белокурые матросы, заслушивался историй,
какие рассказывали негры - машинисты с пароходов, и смутно думал про
себя, что в один прекрасный день обязательно уйдет на таком вот
большом корабле, увидит другие земли, другую луну и другие звезды,
станет петь песни своего прибрежья в чужих портах, где люди не поймут
его речь и будут тихо слушать его песни только лишь за их музыку,
только лишь затем, что в песне моряка, на каком бы языке ни была она
сложена, говорится про море, про страдание и про любовь. Когда-нибудь
он взойдет на большой корабль, и рыбачьи шхуны покажутся ему
маленькими-маленькими, и он сменит спокойные воды залива и реки
Парагуасу на бурные воды бескрайнего моря, на дорогу, которой нет
конца и которая ведет в чужие, далекие, незнаемые земли. Плыть на
огромном черном корабле, пережить наяву все чудесные сказания, каких
наслушался он на прибрежье, - чего ж еще можно желать! Некоторые
рыбаки уже бросили свои шхуны и ушли матросами в открытое море. Порою
они возвращались ненадолго, рассказывали чудовищные вещи, описывали
кораблекрушения и бури, битвы с желтокожими людьми где-то на краю
земли и говорили на какой-то странной смеси всех языков мира. Но
бывало и так, что они не возвращались. Шико Печальный (кто ж его не
помнит?) еще мальчишкой нанялся на немецкое грузовое судно. Толстый
такой негр, никогда не улыбался. День-деньской смотрел на море, на
корабли и все говорил, что уедет. Только об этом и говорил. Казалось,
что родная его земля не здесь, что сам он откуда-то из-за моря. Ну,
завербовался на корабль. Как-то вечером тот корабль снова причалил в
здешних краях. Все сбежались взглянуть на Шико Печального. Даже его
старуха мать пришла, хоть она торговала кокосовыми лепешками далеко от
берега, в центре города, и никто не знал, как дошла до нее весть о
корабле. Но все сразу разошлись, потому что Шико Печальный не прибыл
вместе с этим кораблем. Он поступил на другой и работал там кочегаром.
А с этого другого корабля, как рассказали немецкие матросы, он перешел
на третий, и никто не знал, в каких дальних водах плавает теперь Шико
Печальный. Покуда шел о нем разговор, кто-то предположил, что он,
наверно, умер, но никто не поверил. Моряк приходит умирать в свой
порт, у своего моря и своих шхун. Если только, конечно, не суждено ему
утонуть. Но и тогда он приходит вместе с Матерью Вод взглянуть на луну
родного берега, послушать песни земляков. Шико Печальный не умер, не
мог умереть где-то вдали.
Гума знал Шико Печального мало, он был еще ребенком, когда тот
уехал. Но Гума любил память о нем и хотел стать таким, как он.
Огромные черные корабли неудержимо манили его. Какая-то странная тайна
заключалась в них, в их особо пронзительных гудках, в их тяжелых
якорях, в их высоких мачтах. Когда-нибудь Гума уедет в Земли без Конца
и без Края. Один только старый Франсиско держит его у этого берега,
как якорь. Он должен зарабатывать хлеб для дяди, научившего его всему,
что он знает. Когда старик утомится жизнью на берегу и уйдет с Матерью
Вод, тогда и Гума уйдет из этих мест в бескрайнее море, и у дороги его
не будет больше пределов, и место парусного шлюпа, займет корабль,
огромный и черный, а на прибрежье станут рассказывать о нем
таинственные истории.
Он остался один хозяином "Смелого" и понял, что отрочество его
кончилось. Рано, слишком рано кончилось и его детство, ибо он давно
уже стал мужчиной, задолго до появления на шлюпе той молоденькой
мулатки, которую старый Франсиско оставил на палубе в такой ленивой
позе. Как-то раз приезжала его мать, за несколько лет до этого, и в
тот день он уже один водил "Смелого" до самой Итапарики и чувствовал в
теле странное ощущение, которого не мог тогда понять. Он помнил
страдание этого дня. Тогда впервые грешные мысли пронзили его и
желание оставить эти берега обрело постоянную жизнь в его душе. С того
дня он стал мужчиной.
Мало что мог он вспомнить из своего короткого детства - сын моря,
чья судьба была уже прочерчена судьбами отца, дяди, товарищей, всех
окружающих. Его судьбой было море, и это была героическая судьба. Быть
может, и сам он не знал об этом, быть может, и не помыслил никогда,
что и он, как все эти люди, что ругались днем непристойными словами, а
по вечерам нежным голосом пели песни любви, будет героем, рискующим
жизнью во власти волн каждое мгновение, в дождь и в ведро, под тучами
и под ярким солнцем, горящим в небе над Баией, Городом Всех Святых.
Никогда не думал он о том, что судьба его героична, а жизнь полна
красоты. Не привелось ему познать беззаботное детство, слишком о
многом надо было заботиться ему, так рано брошенному жизнью на корму
рыбачьей шхуны, вынужденному пристально вглядываться в опасные
верхушки подводных камней, плохо различимые под гладкой поверхностью
воды, и натирать мозоли на руках о рыболовные снасти и твердое дерево
руля.
Он ходил в школу одно время, да. Это был грубо сколоченный дом за
гаванью, и учительница сочиняла любовные сонеты (быть может, любовь
придет когда-нибудь на корабле в таинственную ночь, а быть может, не
придет никогда, и учительница была молоденькая и бледная, и в свежем
голосе ее звучало томное разочарование в жизни), а ребятня упивалась
разными рыбацкими историями, и говорила на странном языке моряков, и
билась об заклад, у чьей шхуны ход быстрее.
Он недолго пробыл в школе. Как и другие дети окрестных рыбаков,
он провел там ровно столько времени, сколько понадобилось, чтоб
научиться прочесть по складам письмо и нацарапать записку, с особым
усилием и тщанием выводя хвостик под последней буквой подписи. Слишком
многие дела ждали их дома и на море, не могли они надолго
задерживаться в школе. И когда потом учительница встречала их (звали
ее Дулсе, что означает Нежная), то не узнавала в этих огромных крепких
детинах с распахнутой грудью и лицом, обожженным морскими ветрами,
своих недавних учеников. А они проходили мимо нее, робко опустив
голову, и все еще по-детски любили ее, потому что она была добрая и
такая усталая от всего, что приходилось ей видеть на берегу. Много
печального видела она здесь - девочка, приехавшая после окончания
института учительствовать в эти края для того, чтобы прокормить мать,
прежде богатую, а теперь нищую, и пьянчужку-брата, бывшего ранее
надеждой всей семьи: и ее самой, учительницы, и матери, и отца,
веселого человека с большущими усами и густым басом, умершего раньше,
чем в доме у них все пошло так нехорошо. Она заступила в школе место
прежней учительницы - истеричной старой девы, бившей мальчишек
линейкой по ладоням, - и очень хотела, чтоб портовым детям было в ее
школе весело и тепло. Но она увидела столько печального на пристани, у
больших судов, на палубах шхун и в грубо сколоченных рыбацких хижинах,
увидела так близко людскую нищету, что потеряла всю свою бодрость и
веселость и уж не смотрела на море зачарованно, как в первые дни после
приезда, уж не ждала, что на каком-нибудь из этих громад кораблей
приедет к ней жених из далекой страны, и рифмы для любовных сонетов
иссякли в ее усталом мозгу. И поскольку была она набожная, то теперь
все молилась, ибо ведь бог - добрый, и должен же он когда-нибудь
покончить с этой бездонной нищетой, а не то скоро настанет конец
света. Из окна своей школы худенькая учительница глядела на всех этих
оборванных, грязных мальчишек, без книг и без сапог, покидавших школу
для тяжкой работы, для бродяжничества по портовым кабакам, для водки,
и не понимала. Все говорили, что она добрая, да она и сама это знала.
И, однако, только в первые дни своего пребывания здесь она чувствовала
себя достойной такого эпитета, когда говорила этим потерянным людям
слова утешения и вселяла в них надежду. Но давно уж надежда угасла в
ней самой, и теперь слова ее были пустой формулой, и ничто не
согревало все эти сердца, пораженные язвой разочарованья... Она и сама
устала ждать. И уже не могла найти тех прежних теплых слов утешения.
Ничего не могла она сделать для этих людей, посылавших к ней на
полгода учиться своих детишек. Нет, не заслуживала она, чтоб ее
называли доброй, ничем она не помогала всем этим людям, не было у нее
мудрого слова, чтоб сказать им. И если не свершится какое-нибудь чудо,
какая-нибудь перемена, грянувшая, как буря, внезапно, она умрет здесь
от печали, от тоски из-за того, что ничем не может помочь людям моря.
В ее школе Гума выучился читать и писать свое имя. Большему
хотела она его научить, большему хотел и он научиться. Но старый
Франсиско отозвал его из школы - на борт "Смелого", его судьба была
там. Из здешних мест не выходили ученые и адвокаты. Но вышло много
механиков, а один парень работал даже телеграфистом на большом
пассажирском судне.
Гума оставил школу без грусти и без радости. Он любил
учительницу, учение давалось ему не так трудно, любил Руфино,
маленького негра, который ловко мог булавкой сделать татуировку на
руке и никогда не знал урока. Но любил он еще и море, любил плыть по
морю на парусной шхуне навстречу своей судьбе. В день, когда он уходил
навсегда из школы, учительница повесила ему на шею небольшую медаль.
Из окна школы глядела она вслед уходящему Гуме. Всего одиннадцать
лет - а уж готов к самостоятельной жизни, как какой-нибудь врач или
адвокат в двадцать пять, кончивший институт и начинающий
самостоятельную жизнь. Гума тоже кончил учение и начинал
самостоятельную жизнь, не было только ни праздника, ни торжественного
акта, а одно лишь облегчение, что теперь не надо так часто стирать
свое платье, а то в школу полагалось ходить чистым. Никакой надежды не
уносил в своем сердце этот ученик, закончивший учение. Никакой мечты о
подвигах, о великих открытиях, о чудесных изобретениях, о возвышенных
поэмах и нежных любовных сонетах. Учительница знала, что Гума умен,
даже среди своих коллег по институту и приятелей из литературных
академий мало встречала она людей таких способных, как Гума. И,
однако, все они надеялись совершить в жизни что-то грандиозное,
мечтали о большой судьбе, что ждет их впереди. Мальчиков, уходящих из
этой ее школы, никогда не посещали подобные мысли. Судьба их была
прочерчена заранее. Судьба ждала их на борту парусной шхуны, у весел
рыбачьей лодки, а самое большое - у топки океанского парохода, - это
уж был волшебный сон, в который мало кто верил. Море лежало перед
глазами учительницы таким, каким увидела она его в первый раз. Море,
проглотившее многих из ее учеников, проглотившее и ее девичьи мечты
тоже. Море прекрасно и жестоко. Море свободно, так здесь говорят, и
свободны все, кто живет на море. Но учительница хорошо знала, что это
вовсе не так, что все эти мужчины, женщины, дети не свободны, они -
рабы моря, они прикованы цепями к морю, хоть этих рабских цепей и не
видно.
Вон идет Гума - мальчик, так быстро выучившийся читать. Его бы
отдать в Политехнический институт, он мог бы стать прекрасным
инженером, а может, изобрел бы такую машину, которая облегчила бы труд
моряков и сделала менее опасной их судьбу в предательских морских
просторах. Но мальчишки с пристани уходят из школы не в институты. Они
уходят на шхуны и челны. Они будут петь в ночной тьме песни моря, и у
многих ведь такие красивые голоса. Только песни эти печальны, как их
жизнь. Невозможно понять... Дона Дулсе, учительница, никак не может
понять...
Но она ждет чуда, учительница с нежным именем Дулсе. Оно явится
внезапно, как морская буря. Все переменится, и все станет прекрасно.
Прекрасно, как море. А вдруг это именно ей суждено найти наконец
слово, из которого родится это чудо, и сказать это слово всем людям
прибрежья? Тогда вот она действительно заслужит то прозвание, какое
дали они ей, - "добрая", и то радушие, с каким они тащат на свой
бедняцкий стол все лучшее, что есть в доме, когда она заходит
навестить их.
Когда случалось увидеть учительницу или когда ветер играл висящей
на шее медалью, Гума вспоминал школу и быстро прошедшее свое детство.
Как-то раз, давным-давно, когда шел дождь и шхуны стояли без
дела, а старый Франсиско рассказывал жене и Гуме историю одного
кораблекрушения, дверь вдруг резко отворилась, и вошел какой-то
человек, закутанный в клеенчатый плащ, с которого стекала вода. Лицо
его было почти закрыто капюшоном, и виделись только громадные усищи,
но голоса его, когда он заговорил со старым Франсиско, Гума не забудет
никогда.
- Вот и я, брат...
Гума испугался. Но человек шагнул к нему и поцеловал, уколов
усищами, и сочно, довольно смеялся, вглядываясь в мальчишеское лицо.
Потом они долго беседовали с Франсиско, и пришелец рассказывал о
какой-то ссоре, о каком-то парне, которого он "послал гулять в
преисподнюю"... Так появился в доме отец, вернувшийся домой из своих
странствий по чужим землям и морям. Он вернулся с чьей-то смертью на
острие своего ножа, не имея более возможности оставить родные земли и
воды для новых приключений. Но оттого, верно, что отец так обожал
путешествия, а вынужден был сидеть на одном месте, он не долго
протянул в здешних краях и ушел с "Утренней звездой" на дно морское,
после того как спас брата. Только так мог он продолжать прерванное
свое путешествие и потому ушел с Матерью Вод, которая любит
смельчаков.
Гума смутно помнил отца, но хорошо помнил ту бурную ночь, когда
отец так внезапно вошел в этом своем черном клеенчатом плаще,
разбрызгивая вокруг себя дождь, еще не вынув из-за пояса ножа, которым
лишил кого-то жизни. "Тут, верно, не обошлось без бабы, - уверял
старый Франсиско, когда разговор случайно касался того дела. -
Фредерико всегда был большой бабник..."
В ночь, когда умер отец, умерла также тетка Рита, жена Франсиско.
Когда буря разыгралась, она побежала на берег и Гуму с собой взяла,
укрыв под шалью от ветра и дождя. Они ждали долго и напрасно. Потом
вернулись домой. Приближался час ужина. Она начистила рыбы для обоих
мужчин, хоть и думалось неотступно, что, верно, оба они об эту пору
сами попали к рыбам на ужин. Она ждала, тревожно ходя из угла в угол,
молясь Монте-Серратской божьей матери, давая обеты Иеманже, Матери
Вод. Она обещала принести цветы на праздник Иеманжи и две свечи на
алтарь божьей матери в церковь Монте-Серрат. В полночь Франсиско
вернулся. Она бросилась к нему в объятия, оставив там свою жизнь. У
нее не хватило сил перенести подобную радость. Даже доктор приходил,
но было уже поздно. Сердце тети Риты разорвалось, и Гума остался один
со старым Франсиско.
Он ходил на празднества в честь Иеманжи, узнал Анселмо, жреца,
обладавшего чудесной силой, сообщенной ему Хозяйкой Вод, познакомился
с Щико Печальным, который потом уплыл на большом корабле. Гума был еще
совсем маленький, когда негр убежал из дому. Но не раз видел его у
самой воды задумчиво глядящим в бескрайность, за голубую черту, где
кончается все. Родная земля Шико, конечно же, была где-то далеко
отсюда, в том краю без предела, куда он и уехал. Потому и уехал. Но он
вернется когда-нибудь, обязательно вернется, он - моряк здешних мест и
должен умереть в том порту, из которого впервые сошел на воду. Он
должен еще раз увидеться с доной Дулсе, учительницей, научившей его
читать и не раз вспоминавшей о нем. Когда он вернется, у него будет
немало что порассказать, и мужчины усядутся вокруг него в кружок, даже
самые глубокие старики придут, чтоб послушать истории, которые он
расскажет. А в том, что он вернется, не может быть сомнения. Корабли
несут имя своего порта, написанное на корме, повыше винта. Так и
моряки несут имя своей пристани в сердце своем. Некоторые даже
татуируют это имя у себя на груди, рядом с именами любимых. Бывает и
так, что какой-нибудь корабль затонет вдали от своего порта. Тогда и
моряк умирает вдали от своей пристани. Но потом он все же возвращается
с Матерью Вод, которая знает, откуда родом каждый моряк, возвращается,
чтоб увидеть своих земляков и свою луну, раньше чем пуститься в вечное
плавание на пути к неведомому. Шико Печальный вернется обязательно.
Тогда Гума узнает от него много разных чудес и уйдет отсюда, ибо
дальние дороги моря давно уж влекут его.
Из всех воспоминаний детства память о Шико Печальном, внезапно
покинувшем здешние края на большом корабле, возвращалась к Гуме чаще
всего. Когда-нибудь он и сам уйдет тою же дорогой.
Не одну ночь своего детства провел Гума на палубе "Смелого",
стоявшего на причале в маленькой бухте. С одного боку блестел,
раскинувшись широко, тысячами электрических огней город. Он карабкался
вверх по склону, звоня в качающиеся колокола многих своих церквей, и
от него исходила веселая музыка, и смех прохожих, и гудки автомобилей.
Свет подъемной дороги полз то вверх, то вниз, как в гигантском
волшебном фонаре. А с другого боку было море, тоже все освещенное -
луной и звездами. Музыка, исходящая от него, была печальной и глубже
проникала в душу. Шхуны и лодки подходили безмолвно, рыбы проплывали
под тихой водою. Но город, что так полнился шумом, был, однако же,
спокойнее этого тихого моря. В городе были красивые женщины, разные
диковинные вещи, театры и кино, кабачки и кафе и много, много людей. В
море ничего подобного не было. Музыка моря была печальной и говорила о
смерти и утраченной любви. В городе все было ясно, без всякого
таинства, как свет электрических ламп. В море все было таинственно,
как свет звезд. Городские пути были ровные, мощеные. В море был только
один путь, зыблемый и опасный. Пути города давно уже были открыты и
завоеваны. Путь моря приходилось сызнова открывать и завоевывать
каждый день, и каждый уход в море был неведомым приключением. На земле
нет Матери Вод - Иеманжи, нет праздников в ее честь, нет такой
печальной музыки. Никогда музыка земли, жизнь города не влекли к себе
сердце Гумы. Даже вечерами на прибрежье, где рассказывалось столько
разных историй, никогда никто еще не упомянул о таком небывалом
случае, чтоб сына моряка потянуло к спокойной городской жизни. И если
кому-нибудь вздумается заговорить о чем-то подобном со старыми
штопальщиками парусов, они не поймут и рассмеются ему в лицо. Бывает,
конечно, что человеку вдруг взбредет в голову отправиться по морю
поглядеть другие земли, - так бывает. Но оставить свой парус для жизни
на суше - такое можно выслушать лишь за стаканом водки, да и то со
смехом.
Гуму никогда не манила земля. Там нет неведомых приключений. Путь
моря, зыблемый и длинный, один лишь манил его. Конечно же, путь моря
приведет его туда, где найдет он все, чего у него нет, - любовь,
счастье. А может, смерть, кто знает? Его судьбою было море.
В одну такую вот, как эта, ночь пришла его мать. Никто прежде не
говорил ему о ней, и она пришла с земли, ничего в ней не было от
женщин моря, ничего у нее не было общего с ним, Гумой, она показалась
ему гулящей женщиной, какую он ждал для себя на палубе "Смелого".
Зачем приезжала она? Только чтоб заставить его страдать? И почему не
вернулась больше? Другие женщины пришли с земли на его шлюп, сначала -
гулящие, что явились за деньгами, потом молоденькие мулатки, служанки
из домов, стоящих близ порта, и эти приходили потому, что считали его
сильным и знали, что им будет с ним хорошо в любви. Первые напоминали
ему мать. Они были надушены такими же духами, говорили с такими же
интонациями, только лишь не умели улыбаться, как она. Мать улыбалась
Гуме, как улыбаются женщины с пристани своим детям, и так как она была
для Гумы одновременно и матерью, и гулящей женщиной, то от этого он
страдал еще сильнее.
Она не вернулась больше. Бродит, верно, по другим портам, с
другими мужчинами. Кто знает, быть может, какою-то ночью, когда
последний мужчина уйдет и оставит ее одну, она вспомнит о сыне,
проводящем жизнь на борту и так и не сумевшем тогда сказать ей ни
одного слова? Кто знает, быть может, той ночью она напьется пьяной
из-за любви к этому сыну, потерянному для нее?.. Но когда музыка
наплывает с моря и разносится над фортом, над шхунами и челнами и
говорит о любви, Гума забывает обо всем и отдается душою лишь этой
прекрасной, убаюкивающей, плавной пеоне.
Детство его было быстротечным, и потому он почти не знал игр. Но
в детстве уже он чувствовал свою силу и искал ей приложения. Этот
большой шрам на руке остался от одной ссоры, когда ему было
четырнадцать лет. Противниками были Жакес, Родолфо, Косой и Манека
Безрукий. Он шел с Руфино, и ссора разыгралась из-за пустяка, из-за
того, что Манека слишком заинтересовался ножками сестры Руфино,
толстенькой негритяночки десяти с небольшим лет. Они с Руфино
беззаботно болтали, когда Марикота прибежала с плачем.
- Он мне под юбку лезет...
Руфино отправился искать Безрукого. Гума не такой был человек,
чтоб покинуть друга в трудный час, да и законы пристани подобного не
допускают. Пошли они вместе и застали четверку все еще помирающей со
смеху. Руфино поднял руку - споры и жалобы были не в его вкусе, - и
битва разыгралась на славу, Это было на пляже, где солнце раскалило
песок, и оба врага покатились по земле, нанося друг другу бесчисленные
удары. Манека Безрукий, у которого в действительности, правда, были
руки, но одна - кривая и слабая, получив удар Руфино, упал плашмя. Но
и такой бой был неравным - трое против двоих, - и в самый разгар его
Родолфо (дрянной парень, по совести сказать) схватился за нож, и пошла
уж тут резня. У Руфино и сейчас виден шрам под подбородком, и когда
Гума подскочил, то успел лишь отвести нож, направленный в самое лицо
друга. Однако, несмотря на то что силы были неравны, враги бежали.
Негр Руфино вытер кровь и пообещал:
- Этот Родолфо мне еще заплатит. Когда-нибудь я его проучу...
Гума не сказал ничего. Он уважал закон пристани, а закон этот не
разрешает браться за нож, за исключением тех случаев, когда противник
в большем числе. А тех, кто не подчинялся закону пристани, Гума считал
людьми пропащими.
Неделю спустя Родолфо был найден лежащим на песке, с разбитым
лицом, без ножа и без штанов. Руфино выполнил свое обещание.
Гума дружил с Руфино еще со школы. Без отца, воспитанный одной
только матерью, Руфино пробыл в школе недолго. И то, чему он там
выучился, сводилось лишь к одному: он умел ловко татуировать пером и
чернилами якоря и сердца на коже товарищей. Дона Дулсе принималась
было бранить его, но негр смеялся своими кроткими глазами, показывая
большие белые зубы, и дона Дулсе улыбалась ему в ответ. Он оставил
школу, пошел работать, чтоб содержать мать и сестру. Отдал свои
большие сильные руки на службу всем лодочникам, какие нуждались в
помощи. Он греб размашисто и смело, ибо не было на побережье человека,
который более верил бы в благоволение богини моря, чем Руфино.
Когда-нибудь у него будет своя лодка, нет сомнения, он уже просил об
этом богиню во время праздника на молу и послал флакон духов в дар
принцессе Айока (так негры называют Иеманжу), чтоб волоса ее всегда
были душистые. Она дарует ему лодку, ибо он всегда был самым
ревностным плясуном на ее праздниках и еще когда-нибудь будет жрецом
на кандомбле, устроенном в ее честь. Негр Руфино много смеялся. И
много пил, это тоже, и любил петь глубоким низким голосом,
заставлявшим умолкнуть все остальные.
А вот Родолфо совсем не казался уроженцем здешних мест. Когда-то
отец его приехал сюда, открыл таверну, но она вскоре прогорела. Однако
он не уехал, соорудил ларек на базаре, торговал на ярмарках. Родился
Родолфо. Он рос красивый, белокожий, с прямыми волосами, которые он
усердно теперь мазал брильянтином. Когда он вырос, то оставил руль
шхуны, на которую отец было устроил его, бежал с моря и жил неведомо
где, то появляясь, то снова исчезая. Иногда он приезжал с большими
деньгами, угощал всех водкой в "Звездном маяке". А иной раз, напротив,
являлся нищим оборвышем и выпрашивал у знакомых монетку в долг. На
прибрежье ему не очень доверяли и поговаривали, что он "порядочный
мошенник".
Жакес вырос на палубе, как Гума. Он женился в здешних краях, а
потом умер в одну бурную ночь. Он умер вместе с отцом, оставив жену с
ребенком под сердцем. А Манека Безрукий все еще был тут и, несмотря на
кривую руку, умел управлять шхуной как никто. Даже шкипер Мануэл,
самый, наверно, старый из здешних моряков, самый старый и вечно
молодой шкипер Мануэл, - и тот уважал его.
Таковы были у Гумы друзья детства. Много было в порту мальчишек,
подобных им, что теперь стали мужчинами, кормчими парусных шхун. Они
не очень-то многого ждали от жизни: плыть по волнам, заиметь
когда-нибудь собственную шхуну, пить тростниковую водку в "Звездном
маяке", произвести на свет сына, который пойдет тем же путем и
отправится в один прекрасный день в вечное плавание с Матерью Вод.
Правильно сказано в песне, что поет чей-то голос в прекрасные лунные
ночи:
О, как сладко в море умереть...
Дона Дулсе, что тихо стареет в своей школе и даже уже носит очки,
слышит песню и знает, что бывшие ее ученики умрут без страха. Но,
несмотря на это, в сердце ее - печаль. Она боится за этих людей, ей
жаль этих людей. Старый Франсиско, который уже не плавает, а сидит
себе на берегу, ожидая спокойной своей смерти, уже свободный от бурь,
от предательского нрава морских волн, тоже знает, что эти люди умрут
без страха. Но, в противоположность доне Дулсе, он испытывает к ним
зависть. Ибо говорят, что плыть с Матерью Вод к Землям без Конца и без
Края, под морскою волной, быстро - быстрей, чем самые ходкие корабли,
стоит больше, чем вся эта жалкая жизнь, какую влачат на берегу.
КОЛЫБЕЛЬНАЯ РОЗЕ ПАЛМЕЙРАО
Роза Палмейрао... Это имя звучит так приятно для обитателей
прибрежья. Много разных историй рассказывают об этой мулатке. Старый
Франсиско помнит их без счета, в стихах и прозе, ибо у Розы Палмейрао
есть уже целый свой АВС, и даже слепцы по дорогам, уходящим в сертаны,
поют о ее буйном нраве и отчаянных поступках. Мужчины с пристани знают
и любят ее, и ни один не откажет ей в крепком рукопожатии, а порой и в
огоньке, чтоб раскурить трубку. И в присутствии Розы Палмейрао никто
не решается хвалиться своей храбростью. (АВС - распространенный в
Бразилии фольклорный жанр, баллада о жизни какого-нибудь популярного
героя, каждая строфа которой начинается со следующей буквы алфавита.)
Вечерами, когда лишь немногие шхуны уходят в море, старый
Франсиско рассказывает разные истории. Всем, разумеется, известно, что
старый Франсиско любит присочинять, выдумывает целые эпизоды. Но
сколько б он ни присочинял, никогда он не расскажет полностью историю
Розы Палмейрао, всю правду о ней. Ни один сказитель в мире (а лучшие в
мире сказители живут на баиянском побережье) не может рассказать обо
всем, что Роза Палмейрао уже совершила. Она столько совершила, что
попала в песню, и старый Франсиско часто поет о ней людям, собравшимся
в кружок послушать:
У Розы Палмейрао за поясом заткнут нож,
спрятан кинжал на груди, и серьги в ушах блестят,
прекраснее тела ее ты нигде не найдешь,
и ей не страшны ни акулы, ни хищный скат.
О, ничего бы и не случилось, если б не ее прекрасное тело...
Слава о ней обошла все порты и берега, каждый моряк знает ее. Все
боятся ножа, заткнутого за ее пояс, кинжала, спрятанного у нее на
груди, ее железного кулака. Но больше всего боятся ее прекрасного
тела. Она всегда обманывает. Она проходит, плавно покачивая бедрами,
словно призывая. Моряк устремляется за нею, песок так мягок, и луна
так нежна над морем. Она идет, мерно покачиваясь, вразвалку, словно
это и не она вовсе, а местная женщина, морячка. Моряк не узнает ее,
спешит вслед. Песок так и стелется под ногами, ждет в свою мягкую
постель. А женщина хороша такою тихою красотой, даже не похоже, что
это скандальная Роза Палмейрао. Горе бедному моряку, если он не
понравится ей или если ей просто не хочется предаваться любви этой
ночью. У Розы Палмейрао за поясом заткнут нож, а на груди спрятан
кинжал. Она уже поразила этим ножом и этим кинжалом троих солдат, уже
двадцать раз была за решеткой, уже много мужчин узнали на себе
железную силу ее кулака...
Старый Франсиско поет:
Роза сразила троих солдат
в праздник Святого Жоана.
Розу в тюрьму отвести хотят,
она ж: "Мне туда еще рано".
Целый взвод солдат прискакал:
- В тюрьму, в тюрьму, потаскуха...-
Но Роза схватилась за свой кинжал,
И такая пошла заваруха!
Она могла убить человека, могла обратить в бегство целый взвод
полиции. Она была храбра и красива. Старый Франсиско поет о подвигах
Розы Палмейрао, и все хлопают в ладоши:
- Живою иль мертвой ее приведешь,-
начальнику взвода сказали,
но сверкнул у пояса Розы нож,
и солдаты в страхе бежали...
Все слушают и хлопают в ладоши. Гума хлопает громче всех. Он не
помнит Розу Палмейрао. Уж много лет не появлялась она у них в порту.
Говорят, она прошла из конца в конец все баиянское побережье, потом
подалась на юг штата, одно время жила с каким-то полковником, потом
как-то раз вдруг избила его до полусмерти и потерялась в этих землях
бескрайних. Однажды она всего на несколько часов появилась в баиянском
порту, но почти никто ее не видал, она только пересела с одного
корабля на другой - и уехала. Говорят, она ни капельки не постарела и
все такая, как прежде. Цветок (палевая роза) который она всегда
прикалывала к платью, был на своем обычном месте. Но она снова уехала,
и только лишь осталось от нее это АВС, распеваемое вечерами на берегу,
да истории, которые мужчины рассказывают друг другу где-нибудь в тени,
возле Большого рынка... У нее было прекрасное тело, и она все не
потеряла своей красоты. Когда она любила мужчину, не было другой
женщины, способной сравниться с ней. Роза словно еще пышней расцветала
у нее на груди, и волосы ее были душисты. А если, когда она связана с
кем-то любовью, другой осмелится бросить на нее нескромный взгляд, то
уйдет ни с чем: Роза Палмейрао не делит свое чувство...
Старый Франсиско поет:
Хоть была она неукротимой
и днем не справиться с ней,
ночью не сыщешь любимой
покорней ее и нежней...
Перед глазами собравшихся плыл очерк знакомого лица Розы
Палмейрао. Некоторые из тех, кто слушал сейчас старого Франсиско,
например рыбак Брижидо Ронда, любили ее когда-то. И почти все бывали
свидетелями ее вспышек и потому так любили слушать песню о ней и
историю о беспорядках, какие она учиняла Где-то теперь Роза Палмейрао?
Она родилась в здешних местах, ушла бродить по свету - не любила
сидеть на одном месте. Никто не знает, где она сейчас. Потому что у
нее за поясом заткнут нож, на груди спрятан кинжал, а тело ее такое
красивое...
Как-то ночью она вновь сошла на берег, приехав в каюте третьего
класса на пароходе, прибывшем из Рио. Носильщик взял ее багаж и отнес
бесплатно в одну из комнатушек "Звездного маяка". Через пять минут все
на берегу уже знали, что Роза Палмейрао вернулась и что она все такая
же и нисколько не постарела Тело ее все так же прекрасно, поэма о ней
может продолжаться. В ту ночь ни одна шхуна не вышла в море. Грузы
черепицы, апельсинов, ананасов, плодов сапоти остались ждать разгрузки
до завтра... Роза Палмейрао вернулась после многих лет отсутствия...
Матросы с парохода Баиянской компании устремились в "Звездный маяк".
Лодочники тоже пришли. Старый Франсиско привел Гуму.
Из залы слышался звон стаканов. Красная лампочка над входом
освещала вывеску, на которой был нарисован маяк в кругу тусклого
света. Когда они вошли, Роза Палмейрао сидела на террасе и громко
смеялась, широко откинув левую руку и держа стакан в поднятой правой.
Увидев старого Франсиско, она легко вскочила с места и повисла у него
на шее:
- Взгляните на Франсиско... Взгляните... Правду говорят, что
дурной стакан не бьется...
- Потому вот мы оба и живы...
Она смеялась, весело теребя Франсиско:
- Ты не остался на дне морском, а, старый плут? Кто бы мог
подумать...
Тут она заметила Гуму:
- А этот юнга откуда взялся? Что-то смахивает на тебя...
- Это мой племянник Гумерсиндо, мы тут все его Гумой зовем. Ты
его еще мальчонкой видала...
Она задумчиво нахмурила брови. Потом улыбнулась:
- Сын Фредерико? Выше нос, крепкая косточка... Твой отец - это
вот был настоящий мужчина...
- Он был мой брат, - улыбнулся Франсиско.
- Брат брату рознь. Он-то не был похож на сонную рыбу...
Все рассмеялись, потому что Роза Палмейрао и правда была чудесная
- живая, милая, весело размахивала руками, говорила, не стесняясь, как
мужчина, а пила - так и не всякий мужчина умеет. Старый Франсиско
ударил в ладоши и сказал:
- Вот что, ребята, давайте-ка выпьем в честь того, что эта старая
сума переметная вернулась... Плачу за всех...
- А я за всех по второй...- крикнул шкипер Мануэл, который в ту
пору не жил еще вместе с Марией Кларой.
Все сели и опрокинули по стаканчику. Сеу Бабау, хозяин "Звездного
маяка", ходил от одного гостя к другому с графином "пряной" в руках и
считал выпитые стаканы. Роза Палмейрао подсела к Гуме за маленький
столик в углу. Он глядел на нее. Правда, у нее было красивое тело.
Широкие бедра покачивались, как корма шхуны. Она глотнула тростниковой
водки и поморщилась:
- Хоть я знала твоего отца, но вообще-то я не так уж стара...
Гума засмеялся, заглянув ей в глаза. Почему в песнях, сложенных о
ней, не поется про эти глаза - глубокие, зеленые, похожие на камешки
на дне моря? Более, чем ее кинжал, ее нож, ее прекрасное тело, эта
крепкая живая корма, которой она раскачивала так мерно, пугали ее
глаза, бездонные и зеленые, как само море. Кто знает, может, они
меняют цвет, как море - море синее, зеленое, море свинцовое в душные
ночи затишья...
- Я и сам давно знаю старого Франсиско, а мне только двадцать
лет...
- Ну, я-то не такой сосунок, ясно... Ну, а с отцом твоим
Фредерико мы помяли песку, это да... Смотрю на тебя - ровно он
сидит...
Была очередь шкипера Мануэла платить за выпивку. Он крикнул Розе
Палмейрао:
- Эй, чертово отродье, это я плачу! Не знаешь разве?
Она повернула голову.
- А я, что ли, не стою?
- Да ты - старый мех, Роза, зачем в тебя новое вино лить? -
засмеялся Франсиско.
- Замолчи, баркас опрокинутый. Ты в этих вещах не разбираешься...
- Правильно, Роза. Ты еще можешь ум и сердце вынуть, - поддержал
Севериано.
Роза Палмейрао спросила Гуму:
- Я и верно такой старый мех, как твой дядя говорит? Как ты
думаешь? - И смеялась, и глубоко заглядывала ему в глаза. Он смотрел
на нее не отрываясь, словно направив ей в лицо два кинжала.
- Неправда... Не устоит ни один...
Глаза Розы Палмейрао смеялись. Зачем эта зала, эта таверна, когда
песок на прибрежье так мягок и летящий ветер так легок и свеж? Глаза у
Розы Палмейрао цвета моря.
Но сейчас Роза Палмейрао не принадлежит одному мужчине. Она
принадлежит им всем, мужчинам этого порта, которые хотят знать, что
делала она столько времени вдалеке от своей земли. По каким местам
бродила, с кем ссорилась и скандалила, в каких тюрьмах отсидела. Со
всех сторон сыплются вопросы.
- Я только одно вам скажу... Побродила я по свету, да поможет мне
бог. Столько мест исходила, что и счесть не могу. Большие города
видела, десять таких, как Баия, в одном поместятся...
- А в Рио-де-Жанейро ты тоже была?
- Три раза насквозь исходила... Оттуда и сейчас...
- Здорово там красиво?
- Красота... От свету и от людей прямо тесно... Даже глядеть
больно...
- А больших кораблей много?
- Один одного обширней, в здешнюю гавань и не пройдут, такие
есть, что от пристани и до самого волнолома...
- Да не слишком ли велики?
- Ты не видел? А я вот видела. Это только настоящий моряк знает.
Иль ты думаешь, что лодочник - это моряк, что ли?
Шкипер Мануэл вмешался:
- Я тоже слышал... Говорят, и не поверишь, пока своими глазами не
увидишь.
- А парня там никакого не подцепила, а, Роза? - спросил
Франсиско.
- И не стоит труда. Там мужчины никуда не годятся. Я там одно
время на холме жила, так знаете, как меня уважали? И слышать ни о чем
не хотела. Как-то раз один птенец путался что-то у меня под ногами в
танцевальной зале. Да я как опущу якорь на шею бедняге, так он тут же
ко дну пошел. Вот смеху-то...
Мужчины были довольны. Там, далеко, в столице, она показала всем,
кто она такая. Роза Палмейрао глянула на Гуму и промолвила:
- Говорили даже: если в Баие такие женщины, то каковы ж мужчины?
- Ты, видно, по себе громкую славу оставила, а, Роза?
- Был у меня сосед, так не знаю, что с ним приключилось, что он
один раз хотел меня повалить. А мне как раз незадолго до того мулат
один приглянулся, он до того ладно умел сложить песню или самбу, что
заслушаешься. Ну вот, сосед приходит как-то вечером, поговорить, мол,
по душам. Говорит, говорит, а сам все на кровать смотрит. А потом как
бросится на кровать - и лежит. Я ему говорю: "Кум, снимайся с якоря да
плыви отсюда". А он - на своем, причалил, будто это его гавань. А
глазищи на меня пялит. Я предупреждала: мой скоро придет... А он
говорит, что никого, мол, я не боюсь. Сам мужчина. Я его спросила: "А
женщин боишься?" Говорит: нет, только нечистой силы боюсь. А глаза все
пялит на меня. Я ему говорю, что лучше всего для него будет
отшвартоваться немедля. А он ни в какую. Еще и штаны стал стаскивать,
тогда меня досада взяла, знаете?
Мужчины улыбались, заранее смакуя финал.
- И что ж дальше?
- Да я его за шиворот и за дверь. Он еще все глядел, с полу-то,
рожа такая дурацкая...
- Молодец, кума...
- Да вы еще не знаете, что было потом. Я тоже думала, что песенке
конец. Ан нет. Вскорости мой мулат пришел, я и думать забыла. Но у
соседа-то, оказывается, заноза еще ныла, и он, что-то около полуночи,
вломился ко мне, а с ним - еще дюжина. Мой-то мулат сразу заметно, что
не робкого десятка, и парни эти как его увидели, то уж и не
сомневались - подались назад... Они, бедняги, думали, что всего
дела-то, что дать моему Жуке подзатыльник, схватить меня и поднять
паруса, Когда опомнились, то у одного, смотрят, рожа расквашена, а я с
моим старым боевым ножом в самой гуще стою. Такое было! Я и мулат мой,
так мы уж не дрались, а словно рыбу на кол ловили. Но тут вдруг -
здрасьте, добрый день: полиция, когда ее вовсе и не ждали. Ну, все
закончилось в управлении.
- Так что отсидела там, в Рио?
- Какое отсидела! Пришли мы с Жукой туда, я шефу все как есть
рассказала, объяснила, что Роза Палмейрао себя вокруг пальца обвести
не даст, нет. Шеф сам был из Баии, засмеялся, сказал, что уж знает
меня, и отослал с богом. Я попросила Жуку тоже отпустить, он разрешил.
А те все остались, один из драки весь татуированный вышел, так и в
полицию явился.
- Повезло тебе на шефа, а?
- Но когда я стала Жуку разыскивать, то куда уж... Никогда больше
его и в глаза не видела. Очень он меня испугался...
Моряки смеялись. Стаканы с водкой опорожнились один за другим.
Шкипер Мануэл платил за всех. Кто сказал, что Роза Палмейрао похожа на
старый мех для вина? Гума не отрывал от нее глаз. О ней пели песни, и
она умела драться. Но у нее было ладное тело и глубокий взгляд. Роза
Палмейрао сказала Гуме:
- Я никогда не дерусь с мужчиной, который мне нравится... Спроси
кого хочешь...
Но в глазах Гумы не было страха.
Они поздно вышли из таверны. Старый Франсиско давно ушел, даже
шкипер Мануэл устал ждать. Хозяин сказал Розе Палмейрао:
- Ты сегодня спать не собираешься?
- Да еще поброжу, давно не была...
Давно уж не лежала она рядом с мужчиной на этих песках. Многие
думают, что она умеет лишь драться, что жизнь для нее - скандалы, удар
клинком, блеск ножа. Если в народе говорят, что храбрецы после смерти
зажигаются в небе звездами, то и она может засверкать среди этих
звезд. Однако напрасно думают, что жизнь для Розы Палмейрао
заключается только в скандалах. Нет, ей нравится больше всего, больше
чем ссоры, выпивки, беседы, быть покоренной женщиной, очень женщиной,
вот так, как сейчас, в объятьях Г\мы, вытянувшись на песке, перебирая
его волосы с ленивой нежностью... Глаза ее глубоки, как море, и, как
море, изменчивы. Они зеленые в ночи любви на теплом прибрежном песке.
Они синие в дни затишья, они темно-свинцовые, когда затишье - лишь
предвестник бури. Ее глаза блестят. Ее руки, привыкшие орудовать ножом
и кинжалом, сейчас мягки и ласково поддерживают голову Гумы,
покоящуюся на них. Ее губы, с которых так часто срываются крепкие
словечки, сейчас раскрылись в тихой улыбке. Никогда раньше не любили
ее так, как ей было нужно. Все боялись ее ножа, ее кинжала, ее
красивого тела. Думали, верно, что если она вдруг рассердится, то
будет только кинжал и нож, а красота станет ни к чему. Никогда раньше
не любили ее без страха. Никогда не видела она глаз таких ясных и
чистых, как глаза Гумы. Он восхищался ею, он не боялся ее... Даже те,
у кого хватило смелости увидеть ее ладное тело, несмотря на нож и
кинжал, никогда не заглядывали ей в глаза, никогда не замечали
нежности, излучаемой этими морскими глазами, жаждущими любви, этими
нежными женскими глазами, Гума заглянул в эти глаза и понял. Потому-то
руки Розы Палмейрао гладят его волосы, губы улыбаются и тело
вздрагивает.
Три ночи спустя "Смелый" плавно шел по волнам реки Парагуасу. Из
трюма доносился запах фруктов. Ветер сам вел судно, и у руля не
требовалось никого, так покойна была река. Звезды сияли в небе и в
море. Иеманжа поднялась поглядеть на луну и раскинула свои волосы по
спокойной воде.
Роза Палмейрао (нож за поясом, кинжал на груди) прошептала на ухо
Гуме:
- Ты будешь смеяться надо мной, скажешь, что я глупая... Но
знаешь, что б мне хотелось иметь?
- А что ж именно?
Она глянула в спокойные воды реки. Хотела улыбнуться, смутилась:
- Клянусь тебе, что мне б очень хотелось иметь ребенка, сыночка,
чтоб взять к себе и вынянчить... Я не шучу, нет...
И она не стыдилась слез, заструившихся на кинжал, спрятанный на
груди, и на нож, заткнутый за пояс.
Рыбачьи лодки возвращались. Некоторые еще и не успели начать лов,
даже на обед для семьи не заработали. Руфино повернул свой челн с
середины бухты. Шхуны, поднявшие было паруса, изготовясь с повисшим в
воздухе якорем к отплытию, отдали якоря и убрали паруса. А тем не
менее небо было сине, а море безмятежно. Солнце освещало все, и
освещало, пожалуй, слишком ярко. Из-за этого-то и вернулись рыбачьи
лодки, Руфино ввел свой челн в гавань Порто-да-Ленья, и шхуны спустили
паруса. Вода меняла цвет, из синей становилась свинцовой. Севериано,
храбрый моряк, подошел к той стороне пристани, где стояли шхуны. Видя,
что суда не выходят в море, многие ушли с рынка и направились к
подъемной дороге. Большинство, однако, осталось, ибо день был погож,
небо сине, море безмятежно, солнце ярко. Для них ничего не
происходило, ничего не надвигалось.
Севериано подошел и сказал шкиперу Мануэлу и Гуме:
- Сегодня разыграется не на шутку...
- Только сумасшедшие отчалят...
Они задымили трубками. Какие-то люди заходили на рынок и выходили
обратно. Солнце сверкало на щебне мостовой. Какая-то женщина
развешивала на окне скатерть. Матросы на большом корабле мыли
палубу... Ветер сперва легко так пробежал по песку, подымая летучие
песчинки. Севериано спросил:
- Много людей в море?
Шкипер Мануэл посмотрел вокруг. Шхуны покачивались на мелких
волнах.
- Насколько знаю, нет... Кто ушел, останется в Итапарике или в
Мар-Гранде...
- Не хотел бы я быть в море в такую пору...
Старый Франсиско присоединился к беседующим, число которых росло.
- В такой же вот день Жоан Коротышка хлебнул водицы...
Подумать только, ведь Жоан Коротышка был мастером своего дела -
никто не умел рыбачить лучше его на всем побережье от края до края.
Слава его разнеслась широко вокруг. Люди из Пенедо, из Каравелас, из
Аракажу повторяли его имя. Его шхуна заходила дальше всех других, ей
не страшны были штормы и шквалы. Он так хорошо знал вход в гавань, что
его даже вызывали лоцманом. Он выходил навстречу кораблям в бурные
ночи. Разыскивал их далеко в море, прыгая на своем суденышке по
волнам, и приводил в порт, ловко избегая опасных мест гавани, трудной
в дни бури.
Так вот в одну такую спокойную, как эта, ночь - только лишь море
было медного цвета - он отважился выйти. Какой-то корабль заблудился,
не знал, как пристать, впервые пришел в Баию. Жоан Коротышка не
вернулся. Правительство определило вдове пенсию, но потом отняло, из
экономии. И сегодня от Жоана Коротышки осталась лишь добрая слава.
Старый Франсиско, знавший его, рассказывал эту историю, наверно,
раз сто. Но все всегда слушали его с уважением. Говорят, Жоан
Коротышка появляется в здешних местах в ночи, когда ревет буря. Многие
видели, как он плывет в низких тучах над шхунами, ища корабль,
заблудившийся в тумане. И не успокоится, пока не приведет в порт.
Только тогда начнет он свое плавание с Матерью Вод по бескрайним
водам, к берегам бескрайних земель, давно уже заслуженное им.
В такую ночь, как эта, он должен появиться. Когда ветер взовьется
и загудит, сотрясая дома, когда ночь без времени падет на пристань, он
явится искать дорогу затерянному в море кораблю. Проплывет над
шхунами, пугая тех, кто в море...
Какая-то шхуна приближается к берегу. Гонимая ветром, дующим с
большой силой, она бежит по волнам с небывалой быстротой. Паруса
надуты так туго, словно сейчас лопнут. Люди вглядываются:
- Это Шавьер пристает...
- Да, верно, это "Сова"...
Шхуна подходит ближе, и имя ее "Сова" уже ясно прочитывается,
выведенное черной краской.
- Никогда не встречал названия противней... - говорит Мануэл.
- А может, у него особая причина была, - прерывает Франсиско. -
Чужую жизнь никто не знает...
- Да я ничего. Так, к слову...
Ветер крепчал с каждым мгновением, и вода не была уж спокойной,
как недавно. Издалека все громче слышался настойчивый, безжалостный
гул ветра. Набережная быстро пустела. Шавьер с трудом поставил шхуну у
причал и присоединился к товарищам...
- Разыгрывается...
- Много людей на воде?
- Я повстречался только с Отониэлем, но он был уж неподалеку от
Марагожипе...
Море вздымалось, волны были уже высокие, шхуны и лодки подымались
и опускались. Мануэл обернулся к Шавьеру:
- Не обижайся на пустой вопрос, брат, но почему ты прозвал свое
судно таким неласковым именем?
Шавьер нахмурился. Он был большой, крепкий и специально
разглаживал свои мулатские волосы, чтоб не вились.
- Да так пришлось... Все - глупость одна, знаете?
Буря разразилась над городом и над морем. Теперь никого уже не
видно было на рыночной площади, если не считать маленькой группы людей
в клеенчатых плащах, с которых стекал дождь. Ветер выл оглушительно, и
им приходилось почти кричать. Мануэл выкрикнул:
- Так в чем же все-таки дело?
- Ты хочешь знать? Да в женщине было дело... давно это было, на
другом берегу, в южной стороне. Все глупость одна, не стоит труда,
знаете? Кто ж ее разгадает, женщину? Почему она меня звала Совой? Одна
она и могла сказать, а так никогда и не сказала, только все смеялась,
смеялась... С ума могла свести, это да...
Ветер уносил слова. Мужчины наклоняли головы, чтоб лучше слышать.
Шавьер говорил теперь совсем тихо:
- Она меня называла Совой... Не знаю почему. "Эх ты, мой Совушка,
Сова!.." И смеялась, когда я спрашивал... Так и осталась моя шхуна
"Совой"...
Товарищи слушали рассказ равнодушно. Лицо Шавьера вдруг вспыхнуло
гневом. Он крикнул:
- Вы что, никогда не любили? Тогда вы не знаете, что это
несчастье... Я вынесу в сто раз легче, да простит меня господь, - и он
с силой ударил ладонью по губам, - такую вот бурю, как сегодня, чем
обиду от изменщицы, из тех, что все смешки да смешки... Звала меня
Совой, один черт знает почему... Да ладно... А вот ушла-то зачем?
Ничего я ей дурного не сделал. Как-то раз прихожу я домой, а ее и след
простыл... И все вещи оставила... Я даже в море искал, думал, утонула,
может... Выпьем, а?
Все двинулись к "Звездному маяку". Оттуда доносился голос Розы
Палмейрао, она пела. Ветер подымал песок. Шавьер заговорил снова:
- Не стоит труда... Но потом все как-то думается, думается... Вот
я и назвал шхуну "Совой". В память того, как она меня Совой
называла... "Эх ты, мой Совушка, Сова..." Говорила даже, незадолго
перед тем как уйти, что у нее от меня ребенок будет... Так и ушла с
ребенком под сердцем...
- Когда-нибудь воротится... - утешил Гума.
- Мальчик, ты из другого уж времени... А коли она вернется, то я
ее на части раскрошу...
- Шхуна "Сова"... Я все думал...
- Другой бы на моем месте со стыда и сам ушел куда-нибудь
далеко...
Он сказал еще какие-то слова, но их унес ветер. Голос Розы
Палмейрао смолк. Темень сгущалась и давила. Снова послышались голоса,
лишь когда они ступили на порог "Звездного маяка".
Человек в пальто кричал хозяину таверны:
- Я думал, они мужчины... А они трусы, все как есть...
Зала была пуста. Только Роза Палмейрао слушала рассказчика, вся -
внимание. Хозяин, сеу Бабау, разводил руками, не находя ответа.
- Но ведь буря-то была нешуточная, сеньор Годофредо...
- Трусы поганые. Храбрецы на здешнем берегу, видно, повывелись.
Куда девались такие, как Жоан Коротышка? Вот это была крепкая
косточка!
Новые гости подошли к говорившему. Это был Годофредо из Баиянской
компании, глядевший так, словно в него черти вселились.
- Да что случилось, сеньор Годофредо? - спросил Мануэл.
- Что случилось? А вы не знаете? Там "Канавиейрас" не может войти
в гавань...
- А капитан порта знает?
- Знает, черта с два... Он сам англичанин, недавно и прибыл.
Ничего-то еще толком не знает. Ищу кого-нибудь, кого б можно лоцманом
послать.
Он гневно сплюнул:
- Но, видно, храбрые моряки тут повывелись...
Шавьер шагнул вперед. Франсиско, думая, что он сейчас предложит
на такое дело себя, дернул его за плащ.
- Вы вспомнили Жоана Коротышку, сеньор? А что он своей храбростью
заработал? Даже отдых в аду не заработал. Носится тут тенью да людей
пугает. Что заработал-то? Вдове пенсию дали только для виду... Сразу ж
и отняли... Храбрость одна и есть - помереть...
- Но на корабле семьи с детьми...
- У нас тоже семьи... Что заработаем-то?
Сеньор Годофредо ответил уклончиво:
- Вообще-то компания дает двести мильрейсов человеку, который
отважится...
- Дешева жизнь человечья, а? - Шавьер сел и спросил водки.
Роза Палмейрао громко рассмеялась:
- На этом корабле твоя жена едет, Годофредо? Или зазноба твоя?
- Молчи, насмешница, не понимаешь, что ли, что на корабле
полным-полно народу?
В порту не любили сеньора Годофредо. Начал он штурманом на одном
из больших кораблей Баиянской компании, дослужился неведомо как до
капитана. Никогда он свое дело толком не знал. Зато умел всячески
притеснять матросов. После того как он чуть не потопил корабль у входа
в гавань Ильеуса, компания устроила его на хорошее место в одну из
своих контор. И здесь он продолжал притеснять рыбаков, лодочников,
грузчиков как только мог.
- Полным-полно народу. А где все мужчины с пристани? В прежние
времена не допустили бы, чтоб корабль так вот затерялся...
- А все-таки есть на корабле кто-нибудь из вашей семьи?
Годофредо взглянул в лицо Франсиско:
- Я знаю, что вы меня ненавидите...- Он улыбнулся. - Я только
затем и прошу, что там есть кто-то из моих, да? Но я и не прошу, нет.
Я предлагаю деньги. Двести мильрейсов тому, кто пойдет на это дело...
Подошли еще люди. Годофредо повторил свое предложение. Они
глядели на него недоверчиво. Шавьер пил, сидя за столом.
- Никто здесь не хочет идти на смерть, сеньор Годофредо. Пускай
англичанин сам управляется.
Гума спросил:
- Почему не пошлют буксир?
Годофредо вздрогнул:
- Должны бы послать, конечно... Но компания считает, что это
слишком дорого обойдется?.. Я ищу храброго человека. Компания дает
двести мильрейсов...
Ветер хлопал дверью в "Звездном маяке". В первый раз услышали все
гудок корабля, просящего о помощи. Годофредо поднял руки (он казался
таким низеньким в этом широком пальто) и сказал почти ласково, обводя
взглядом людей:
- Я добавляю еще сто из своего кармана... И клянусь, я позабочусь
о человеке, который решится...
Все глядели испуганно, но никто не двинулся. Годофредо обернулся
к Розе Палмейрао:
- Роза, ты женщина, но у тебя больше храбрости, чем у любого
мужчины... Слушай, Роза, двое моих сыновей на том корабле. Они ездили
в Ильеус, на каникулы... У тебя никогда не было детей, Роза?
Франсиско шепнул на ухо Гуме:
- Я ж сказал, что там у него кто-то свой...
Годофредо умоляюще протягивал руки к Розе. Он был так смешон
сейчас - маленький, одетый в роскошное пальто, с жалким лицом, с
дрожащим голосом.
- Попроси их пойти, Роза... Даю двести мильрейсов тому, кто
пойдет... Всю жизнь помнить буду... Я знаю, они не любят меня... Но
там мои дети...
- Ваши дети? - Роза Палмейрао глядела за окно, в ночь.
Годофредо подошел к одному из столиков. Опустил голову на свои
холеные руки. Плечи его подымались и опускались. Словно корабли в
море...
- Он плачет... - сказал Мануэл.
Роза Палмейрао медленно поднялась. Но Гума уже стоял возле
Годофредо:
- Ладно, я пойду...
Старый Франсиско улыбнулся. Он взглянул на свою руку, где у локтя
были вытатуированы имя брата и названия затонувших шхун. Оставалось
место для имени Гумы. Шавьер отставил свой стакан:
- С ума сошел... Да и не поможешь...
Гума вышел навстречу тьме. Глаза Розы Палмейрао светились
любовью. Годофредо протянул руки вслед Гуме:
- Привези моих сыновей...
Гума исчез во тьме ночи. Поднял паруса, поставил шлюп против
ветра. Еще виднелись вдали те, что проводили его до причала. Роза
Палмейрао и старый Франсиско махали ему вслед. Шавьер крикнул:
- Привет Матери Вод...
Шкипер Мануэл обернулся в гневе:
- Никогда нельзя говорить человеку, что он идет на смерть...
Он поднял глаза, проследил тень шлюпа, удалявшегося по свинцовым
волнам:
- Жаль. Он был еще ребенок...
Звезды исчезли. Луна и не всходила этой ночью, и потому на море
не было песен и слов о любви. Волны бежали, тесня друг друга. И это в
самой бухте, далеко еще до волнолома. Как же должно быть там, снаружи,
где море свободно?
"Смелый" с трудом отплывает от пристани. Гума старается
разглядеть что-нибудь впереди. Но все вокруг черным-черно. Самое
трудное - это начало, когда надо плыть против ветра. А потом начнется
бешеный бег по воле взбесившегося ветра, по морю, принадлежащему уже
не лодкам и шхунам, а большим кораблям. Гуме видны еще смутно знакомые
тени там, на берегу. Все еще трепещет, махая ему, рука Розы Палмейрао,
самой храброй и самой нежной женщины из всех, кого приходилось ему
встречать. Гуме только двадцать лет, но он узнал уже любовь не с одной
женщиной. И ни одна не была еще такой, как Роза Палмейрао, не лежала в
его объятьях такой любящей, такой ласковой. Море сегодня сходно нравом
с Розой Палмейрао, когда она не в духе. Море сегодня свинцового цвета.
Вон рыба вспрыгнула над водой. Ее не страшит буря. Напротив, радует -
мешает рыбакам выходить на лов... "Смелый" с трудом пересекает воды
залива. Волнолом уже близок. Ветер носится вокруг старого форта,
влетает в пустынные окна, играючи хлопает по стволам старые, давно уже
бездействующие пушки. Гуме уже не видны знакомые тени на берегу. Может
быть, Роза Палмейрао плачет. Она не такая женщина, чтоб плакать, но
она так хотела иметь сына, совсем забыв, что ей уже поздно. Гума был
для нее и любовником и сыном. Почему в этот смертный час вспомнил он
вдруг мать, что ушла навсегда? Гуме не хочется думать о ней. В любви
Розы Палмейрао есть что-то от любви матери. Она и не моложе, чем его
мать, и часто она ласкает его, как сына, и, забыв о поцелуях страсти,
целует его с материнской нежностью... "Смелый" скачет вверх и вниз по
волнам. "Смелый" продвигается вперед с трудом. Волнорез видится все на
том же расстоянии. Такой близкий и такой далекий. Гума сбросил
промокшую рубашку. Волна прокатилась по палубе из конца в конец. Что
же, наверно, делается там, за гаванью?.. Роза Палмейрао хочет иметь
ребенка. Устала драться с солдатами, отсиживать за решеткой, устала от
ножа за поясом, от кинжала на груди. Она хочет сына, которого можно
будет ласкать, которому можно будет петь колыбельные песни. Как-то раз
Гума задремал в ее объятьях, и Роза пела:
Спи, мой маленький, скорее,
чтобы бука не пришел...
Она забыла, что он ее любовник, и превратила его в сыночка,
укачивая на коленях. Быть может, именно этим она и вызвала гнев
Иеманжи. Только Иеманжа, Матерь Вод, дона Жанаина, может в одно и то
же время быть матерью и женой. Такою она и предстает всем мужчинам
побережья, а всем женщинам она - помощница и покровительница. Сейчас,
наверно, Роза Палмейрао уже дает ей обеты, моля, чтоб Гума вернулся
невредимым. Быть может, обещает даже (на что ни способна любовь)
отдать в дар богине моря нож, что заткнут за пояс, и кинжал, что
спрятан на груди... Другая волна набегает на "Смелого", затопив
палубу. По правде сказать, так думает Гума, трудно вернуться отсюда
живым. Настал, видно, его день... Гума думает об этом без страха.
Настал раньше, чем он ожидал, но ведь должен же был настать
когда-нибудь. Никто не избежит. Гуме жалко лишь, что еще не пришлось
ему любить такую женщину, о какой просил он как-то ночью богиню вод.
Женщину, что подарила бы ему сына, которому "Смелый" достанется, в
наследство, чтоб и сын мог плавать по этому морю и слушать на берегу
рассказы старого Франсиско. И еще жаль, что не удалось постранствовать
по другим морям, повидать другие порты и города. Не удалось уплыть,
подобно Шико Печальному, к неведомым Землям без Конца и без Края.
Теперь он поплывет туда под водою вместе с Иеманжой, кого лодочники
называют дона Жанаина, а негры - царица Айока! Быть может, она увлечет
его к земле Айока, своей родине. Это земля всех моряков, а дона
Жанаина там царица. Земля Айока, далекая, затерянная за горизонтом
земля, откуда приплывает Иеманжа в лунные ночи.
Где же волнолом, почему "Смелый" никак не достигнет его? Гума с
силой налегает на руль, но даже и так трудно вести шлюп против ветра.
"Смелый" проходит в тени, падающей от старого форта. Там вдали, за
гаванью, затерялся корабль, посылающий тревожные гудки. Ветер доносит
крики людей с корабля. Многих людей... Не из-за денег плывет сейчас
Гума сквозь бурю, пытаясь спасти корабль и привести в гавань. Он и сам
не совсем сознает, почему вдруг решился сразиться с бурей. Но только
не из-за денег. Что он сделает с этими двумястами мильрейсами или
больше, если Годофредо выполнит обещание? Купит подарки Розе
Палмейрао, новую одежду Франсиско и, пожалуй, новый парус "Смелому".
Но можно обойтись и без всего этого, и ведь не за двести мильрейсов
человек идет на смерть. И не потому, что два сына Годофредо плывут на
заблудившемся корабле и что сам Годофредо плачет, как покинутый
ребенок. Не потому, нет. А оттого, что с моря доносится печальный
гудок корабля, мольба о помощи, а закон пристани не велит оставлять на
произвол судьбы тех, кто в море взывает о помощи. Теперь Иеманжа
останется им довольна и, если он вернется живым, даст ему женщину, о
какой он просил. Гума не может ответить на печальный гудок. Корабль,
по всей вероятности, где-нибудь возле маяка, старается продержаться в
ожидании помощи, моряки утешают детей и женщин. Корабль без пути,
заблудившийся у входа в порт... Из-за него Гума идет на смерть, из-за
корабля. Потому что корабль, лодка, шхуна, даже просто доска,
плавающая по морю, - это земля, это родина для всех этих людей,
живущих на прибрежье, для племени Матери Вод. Они и сами не знают, что
в корабельных снастях, в рваных парусах шхун и находится та самая
земля Айока, где царицею - их Жанаина.
"Смелый" проходит у волнолома. На старом форте мутный огонек
мигает, снует туда-сюда, как призрак. Гума кричит:
- Жеремиас! Эй, Жеремиас!
Показался Жеремиас с фонарем. Свет падает на море и прыгает,
качаясь, вверх-вниз вместе с волнами. Жеремиас спрашивает:
- Кто идет?
- Гума...
- Черт, что ли, в тебя вселился, мальчик?
- Я иду искать "Канавиейрас", он не может войти в гавань...
- И нельзя было привести его завтра?
- Он гудит о помощи...
"Смелый" ушел за волнолом. Жеремиас все еще кричит вслед,
поворачивая свет фонаря:
- Добрый путь! Добрый путь!
Гума орудуем рулем. Жеремиас тоже не надеется увидеть его еще
раз. Не надеется, что "Смелый" еще когда-нибудь пройдет за волноломом.
Никогда уж не придется Жеремиасу петь для Гумы. Это ведь Жеремиас поет
по ночам о том, как сладко умереть в море... "Смелый" бежит по волнам.
Теперь предстоит ему бешеный бег. Ветер теперь попутный. Шлюп чуть не
опрокинулся, когда Гума пытался изменить направление. Ветер хочет
унести Гуму, бросает волны на палубу, склеивает мокрые волосы, свистит
в ушах. Ветер гуляет по палубе. Ветер свищет в снастях. Ветер гасит
фонарь на корме. Огни города, все более далекие, быстро мчатся мимо.
Теперь это бег без конца и без времени, и судно и кормчий кренятся
набок, и руки впиваются в руль. Куда увлекает его этот ветер? Дождь
мочит его тело, хлещет в лицо. Ничего нельзя различить в темноте.
Только гудок заблудившегося корабля указывает ему путь. Может
случиться, что он пройдет далеко от корабля, может случиться, что
ударится всеми ребрами об остров Итапарика или о любую скалу посреди
моря. Никто не осмелится выйти в море нынче. Даже Жеремиас изумился,
когда он прошел у волнолома. А Жеремиас - это старый солдат. Он живет
там, в покинутом форте, один, как крот, с тех пор как стал слишком
стар для военной службы. Он остался жить здесь, посреди моря, в своей
заброшенной крепости, чтоб не расставаться с пушками, со всем, что
напоминало ему казарму и военный быт. Он шел своим путем до конца. И
Гуна шел своим - путем "Смелого", и уже не шел, а бешено мчался по
бушующему морю. Быть может, он так и не дойдет до цели, и завтра
поутру будут искать его тело. Старый Франсиско напишет татуировкой его
имя на руке и будет рассказывать о его приключениях и безумствах в
кругу рыбаков, на пристани. Роза Палмейрао, наверно, его позабудет и
станет любить других и думать, что хорошо б иметь сына. Но, несмотря
на все это, закон пристани будет исполнен, и жизнь Гумы станет
примером для других в другие времена.
Не слышен более гудок корабля. Огни города уже почти невидимы.
Несмотря на все усилия кормчего, судно сильно отклонилось от
намеченного пути. Оно гораздо правее, чем надо... Берега Итапарики уже
близки. Гума с силой налегает на руль и продолжает свой бег, стараясь
найти направление. Сколько времени море будет так вот гнать его в
бешеном беге, сколько часов прошло уже и пройдет еще? Пора бы уж
кончиться всему этому. Давно пора. Лучше уж пусть сразу настанет час
свидания с Иеманжой, если ему так и не суждено найти заблудившийся
корабль.
...Он слишком молод, чтобы умереть. Он еще мечтает встретить
молодую женщину (такую, как была дона Дулсе, учительница, когда он
ходил в школу), которая будет принадлежать ему одному. А теперь вот он
не оставит после себя сына, а его корабль разобьется в щепы. Он не
страшится смерти, но думает, что еще рано умирать. Он хотел бы умереть
позже, оставив по себе славу, историю своей жизни, которую будут
помнить на побережье... Рано еще умирать. Рано еще уходить в вечное
плавание с доной Жанаиной. Он не бывал еще жрецом на ее кандомбле, не
пел в честь ее священных песнопений, не смеет еще носить на шее ее
фетиш - зеленый камень.
Зато на шее у него висит медаль, которую дала ему дона Дулсе,
когда он уходил из школы. Учительница опечалится, узнав, что он умер.
Она не понимает их жизни, жизни суровой, каждый день рядом со смертью,
и все ждет чуда. Кто знает, может, оно и произойдет... Поэтому Гума не
хочет умирать. Ибо в день, когда произойдет чудо, все будет хорошо и
красиво, не станет такой нищеты, как сейчас, человек не будет
рисковать жизнью за двести мильрейсов.
Кажется, он снова не на верном пути. Слышен гудок корабля,
зовущий на помощь. Но волна, набежавшая на шлюп, слишком высока, она с
силой обрушивается на руль и отступает, унося с собой Гуму. Он плывет,
пытаясь добраться туда, где "Смелый" кружит по воле ветра, одинокий,
со сломанной мачтой. Быть может, все уже заключилось, а у Гумы нет
даже заветного имени, чтоб произнести в свой час. Не настало еще время
для его смерти. И не пришла еще к нему "его женщина"... Он плывет
отчаянно сквозь огромные волны, вот он уцепился за борт шлюпа, вот
схватил руль рукою. Но его несет теперь в сторону от заблудшего
корабля, уже смутно виднеющегося вдали. Он борется с ветром, с водою,
с дрожью своего тела, объятого холодом.
Снова начинается бешеный бег. Гума стиснул зубы. Он не чувствует
никакого страха. Надо покончить разом со всем этим. Близко, совсем
близко светлое пятно освещенного корабля. Дождь падает, свинцовый.
Ветер порвал паруса "Смелого", но Гума уже здесь, у высокого борта
"Канавиейраса", и кричит громко, чтобы услышали там, наверху:
- Трап!
Матросы кидаются к борту. Сбрасывают вниз веревку, чтоб привязать
"Смелого". Потом - опасный подъем по колеблющемуся трапу. Два раза
Гума чуть не сорвался, и тогда бы не было спасения - он был бы зажат
между кораблем и шлюпом и раздавлен.
Гума улыбается. Он весь пропитан водой, но все-таки счастлив. На
пристани думают, верно, в эту пору, что он уже мертв, что тело его
плывет в объятиях Иеманжи.
Гума подымается на капитанский мостик, англичанин вручает ему
судьбу корабля. Машинисты приводят в действие двигатели, кочегары
оживляют огонь, матросы становятся по своим местам Гума ведет корабль.
Гума командует положением. Гума отдает приказы. Только так, наверно, и
может такой человек, как он, стать капитаном большого корабля. Только
с помощью Иеманжи, силою ее волшебства. Это неповторимая ночь в жизни
Гумы. Назавтра уже ни этот важный англичанин, ни сам Годофредо даже и
не заметят его, когда он будет плыть мимо на своем "Смелом". Никто не
назовет его героем. Гума знает это. Но знает и то, что всегда так
было, и разве только чудо, о котором мечтает дона Дулсе, может
изменить такое положение вещей.
Два часа спустя - буря еще свирепствовала над городом и над морем
- "Канавиейрас" приставал к берегу. Паруса "Смелого" были разорваны, в
корпусе зияла дыра от столкновения с кораблем, руль был разбит в щепы.
Рассказывают на пристани, что с тех пор тень Жоана Коротышки
больше не появлялась, ибо корабль уже нашел вход в гавань. И с этого
дня имя Гумы стало часто повторяться на баиянском прибрежье.
ИЕМАНЖА, БОГИНЯ ПЯТИ ИМЕН
Ни у кого на прибрежье нет одного имени. У всех есть еще
какое-нибудь прозвище. Здесь или сокращают имя, или прибавляют к нему
какое-нибудь слово, напоминающее о давнем происшествии, споре,
любовном приключении.
Иеманжа, властительница пристаней, парусных шхун и всех этих
жизней, зовется даже пятью именами, пятью певучими именами, что
знакомы всем. Она зовется Иеманжа, всегда звалась она так, и это ее
настоящее имя, имя Матери Вод, властительницы морей и океанов. Но
лодочникам нравится звать ее дона Жанаина, и негры, любимые ее детища,
которые танцуют в ее честь священный танец и боятся ее больше, чем
другие, с набожным восторгом зовут ее Инае или возносят мольбы к
царице Айока, правительнице таинственных земель, что скрыты за голубой
линией горизонта. Однако женщины с пристани, прямые и смелые, и Роза
Палмейрао, и гулящие женщины, и замужние, и девушки, ждущие женихов,
прозвали ее просто Марией, ибо Мария - красивое имя, наверно, самое
красивое из всех, самое почитаемое, и дали это имя Иеманже как
подарок, как цветы, гребни и кусочки душистого мыла, что приносят в
дни ее праздника к ее скале у мола. Она - русалка, Матерь Вод, хозяйка
моря, Иеманжа, дона Жанаина, Мария, Инае, царица Айока. Она властвует
над морями, она поклоняется луне, приплывая в ясные ночи полюбоваться
лунным сиянием, она любит музыку негров. Каждый год устраиваются
празднества в ее честь на молу и в Монте-Серрат. Тогда ее называют
всеми пятью именами, с прибавлением всех ее званий и прозваний,
приносят ей дары и поют для нее песни. Океан велик, море - бескрайняя
дорога, воды разлились на большую половину мира, и все это принадлежит
Иеманже. И, однако же, она живет на скале у мола в баиянском порту или
в своей подводной пещере возле Монте-Серрат. Она могла бы жить в
средиземноморских городах, в морях Китая, в Калифорнии, в Эгейском
море, в Мексиканском заливе. В древности она жила у берегов Африки, а
это, говорят, близко от земли Айока. Но она приплыла в Баию поглядеть
на воды реки Парагуасу. И осталась жить в порту, поблизости от
волнолома, на вдающейся в море скале, что стала священной. Там она
расчесывает свои волосы (молоденькие черные служанки приносят ей
гребни из серебра и слоновой кости), там она внемлет молитвам женщин -
рыбацких жен, оттуда она насылает бури, там выбирает она, кого из
мужчин должна повести на нескончаемую прогулку по дну морскому. Там,
на молу, и справляют обычно ее праздник, самый красивый из всех
праздников Баии. Самые нарядные процессии, самые неистовые обряды
макумбы, ибо они творятся в честь могущественного божества из тех, что
зовутся ориша и вселяются в медиумов... Она - из первых, из породивших
другие культы. Если б не было опасно произносить подобные слова, то
можно б сказать, что ее праздник даже красивее праздника Ошолуфана,
самого старого и сильного из божеств. Ибо до чего ж хороши вечера и
ночи, когда справляется праздник Иеманжи! Цвет моря колеблется меж
зеленью и голубизною, луна высоко стоит на небе, звезды перемигиваются
с фонарями шхун. Иеманжа лениво расстилает свои волоса по морю, и
ничего нет в целом мире красивее (моряки с больших кораблей,
побывавшие в дальних краях, подтверждают это), чем этот цвет,
образуемый прядями Иеманжи, сплавленными с морской волною.
Анселмо, отец всех святых, несет молитвы моряков Иеманже. Главный
жрец макумбы в этих местах, он и сам был когда-то моряком, плавал к
берегам Африки, научился исконному языку негров, узнал назначение этих
празднеств и этих святых. А когда вернулся, покинул корабль и остался
на баиянском побережье жрецом вместо недавно умершего Агостиньо. И
теперь это он распоряжается празднествами в честь Иеманжи, управляет
макумбой в Монте-Серрат, лечит - по наущенью самой богини - различные
болезни, наполняет попутным ветром паруса шхун, разгоняет часто
налетающие бури. Нет в этих местах, на суше и на море, человека,
который не знал и не почитал бы Анселмо, повидавшего Африку и знающего
молитвы на языке наго. Когда вдали появляется его седая, в жестких
завитках голова, все головы обнажаются.
Совсем не так легко примкнуть к макумбе отца Анселмо. Требуется
быть хорошим моряком, чтоб так вот просто прийти и сесть среди ога,
как называют мужчин, участвующих в этих таинствах. И чтоб вокруг тебя
плясали иаво, дочери святых... Гума, светлый мулат с длинными черными
волосами, тоже скоро будет сидеть на одном из стульев, расставленных в
зале для обряда кандомбле вкруг отца всех святых. С той бурной ночи,
когда он привел в порт "Канавиейрас", слава о нем переходит из уст в
уста, и всем теперь ясно, что Иеманжа отметила его своим
благоволением. Он недолго будет сидеть так, среди ога, окруженный
пляшущими дочерьми святых. На следующем празднике Иеманжи он уже
наденет ее фетиш - зеленый камень, который находят на дне морском, и
вместе с другими ога будет присутствовать при посвящении иаво, черных
жриц.
С ним вместе и негр Руфино наденет священный камень Иеманжи. Они
вместе посвятят себя служению богине моря, женщине с пятью именами,
матери всех моряков, которая один раз, только лишь один раз в жизни,
становится им также и женой. Негр Руфино любит петь, сжав сильными
руками весла и направляя свою лодку, полную живого груза, вверх по
реке:
Я бог Огун, ваш властелин,
так народ меня зовет,
я светлой волны сын,
я внук Матери Вод...
Руфино черный-пречерный негр, но считает себя сыном светлой
волны, Иеманже приходится он внуком, она была матерью его отца, что
был моряком, подобно его деду и другим старикам, память о которых уже
иссякла...
Праздник Иеманжи приближается. Гума пойдет непременно и будет
просить богиню подарить ему женщину, чтоб похожа была на нее саму и
была непорочна и прекрасна, чтоб сверкала своей красотою по набережным
Баии, Города Всех Святых. Ибо Роза Палмейрао уже не раз говорила, что
скоро подымет якорь и распустит парус навстречу другим землям. Она
надеялась иметь сына от этого юного храбреца, сына, чтоб качать его на
руках, привычных к драке, чтоб петь ему колыбельные песни губами,
привычными к крепким словам. Но Роза Палмейрао забыла, что ей это уже
поздно, что она растратила в буйстве свою молодость, - и только и
оставалось в ней, что нерастраченная нежность, желание ласкать и
нянчить какое-то свое существо. Но ребенок не явился, и она теперь
собралась податься в поисках драк и скандалов в другие земли, чтоб
пить и буянить в других кабаках. Странствовать по другим морям и
водам... Уйти... Однако только лишь после праздника Иеманжи, а то не
будет попутного ветра, а то на пути подымутся грозные бури.
Потому-то, что Роза Палмейрао уходит, Гума должен будет напомнить
Иеманже, что час дать ему обещанное настал. Он отнесет ей в дар, кроме
красивого гребня для волос, кусок паруса "Смелого", что порвался в ту
ночь, как он спасал "Канавиейрас".
Близится день праздника Иеманжи... В этот день набережная
опустеет, в море не увидишь ни одного челна. Все пойдут туда, где
живет Иеманжа, богиня с пятью именами.
Иеманжа, приди...
подымись из вод...
Так поют в эту ночь, посвященную Иеманже. Люди собираются на том
месте, где всегда проходит самая большая ярмарка в Баие. Неподалеку, в
Итапажипе, находится порт Ленья, порт лодочников, где тоже бывают
ярмарки. А между обоими этими местами - жилище Иеманжи на морской
скале... Песок хранит следы от килей рыбачьих шхун. Разноцветные
раковины блестят при свете дня. В глубине - тускло освещенная улица.
Голоса, откуда-то издалека, поют:
Русалка, приди к нам, приди
порезвиться на теплом песке...
Ночь праздника Иеманжи... Потому-то здешний народ призывает ее,
чтоб пришла поиграть на песке. Ясно видно, где находится ее подводный
грот: вот он, как раз под луною, обозначенный распущенными волосами
богини, разлетевшимися по глади морской. Если она не выйдет к людям,
они сами отправятся за нею туда. Сегодня - ночь ее праздника, ночь,
когда Жанаина должна веселиться вместе со всеми, кто поклоняется ей.
Русалка встала из волн,
русалка играет в волнах...
Иеманжа играет с морскими волнами, Иеманжа прыгает в морских
волнах. Было время - самые древние старики еще помнят его, - когда
приступы гнева Иеманжи были устрашающими. Тогда она не прыгала и не
играла. Челны и шхуны не имели роздыха, люди метались в горе и страхе.
Бури переполняли бухту высокой водою, вздымали над берегами реку
Парагуасу. В те страшные времена даже дети, даже юные девушки бывали
принесены в дар и в жертву Иеманже. Она уводила их в глубину вод, и
тела их никогда не выплывали на поверхность. Иеманжа была в самой
грозной своей поре, не желала музыки, гимнов и песен, не принимала
цветов, кусочков душистого мыла и гребней для волос. Она требовала
живой плоти. Гнев Иеманжи был грозен. Ей несли детей, вели юных дев -
одна слепая девушка даже сама вызвалась и шла в страшный путь с
улыбкой (надеялась, верно, увидеть так много красоты!), а крохотная
девочка в ночь, как несли ее к воде, плакала и звала мать, и звала
отца, и кричала, что не хочет умирать... Это было тоже в праздник
Иеманжи... Много, много лет прошло с тех пор... Ужасный был год, зима
разбила и унесла с собою множество шхун, редкому челну удалось
выстоять в схватке с диким ветром с юга, и гнев Иеманжи все никак не
утихал. Агостиньо, жрец, справлявший макубу в тот грозный год, сказал,
что дело ясно: Иеманжа требует человечьей плоти. Тогда и отнесли эту
крохотную девочку, потому что она была самым красивым ребенком в
порту, походила даже на саму Жанаину, особенно своими синими-синими
глазами. Буря ревела и металась над пристанью, и волны мыли священный
камень Иеманжи. Шхуны и лодки шли, кренясь из стороны в сторону, и все
слышали крики ребенка, которого несли к воде с завязанными глазами.
Это была ночь преступления, и старый Франсиско и сейчас еще дрожит с
головы до ног, рассказывая эту старую и страшную быль. Полиция
дозналась обо всем, кое-кого посадили в тюрьму, жрец Агостиньо бежал,
мать принесенного в жертву ребенка сошла с ума. Тогда только стал
стихать гнев Иеманжи. Празднества, посвященные ей, были запрещены, и
какое-то время их заменяла торжественная процессия в честь доброго
Иисуса, покровителя мореплавателей. Но здешние воды исконно
принадлежали Иеманже, и мало-помалу праздник ее вернулся в здешние
края, да и гнев ее прошел, кажется, прочно, она уж не требовала
младенцев и юных дев. Лишь случайно какая-нибудь молоденькая женщина
становилась ее рабыней, вернее, любимой служанкой, как то произошло с
женой слепого рыбака, историю которой любит рассказывать старый
Франсиско.
Иеманжа так жестока потому, что она - мать и супруга в одно и то
же время. Воды баиянского залива родились в тот день, когда ее сын
овладел ею. Немногие на этих берегах знают историю Иеманжи и ее сына
Орунга. Но Анселмо знает, и старый Франсиско - тоже. Однако они
никогда не рассказывают эту историю, боясь вызвать гнев Жанаины. А
было так, что Иеманжа родила от Аганжу, бога суши, сына, которому было
дано имя Орунга. И стал он богом воздуха и ветра и всего, что
находится между небом и землею. Орунга бродил по земле, жил в воздухе
и ветре, но перед взором его все стоял образ матери, прекрасной богини
вод. Она была красивее всех, кого он встречал, и все его желания были
устремлены к ней. И как-то раз он не устоял и взял ее силой. Иеманжа
бежала от него, в быстром беге треснули ее груди, и из них вылилась
вся вода, образовавшая баиянский залив, близ которого выросла и сама
Баия, Город Всех Святых. А из чрева ее, оплодотворенного сыном,
родились самые грозные божества ориша, те, что повелевают молниями,
грозами и громами.
Так и случилось, что Иеманжа стала матерью и женой одновременно.
Она любит людей моря, как мать, покуда они живут и страдают. Но в
день, как они умирают, мнится ей, что каждый из них - сын ее, Орунга,
так страстно желавший ее когда-то.
Как-то раз Гума услышал эту историю из уст старого Франсиско. И
вспомнил, что его мать тоже приходила к нему как-то ночью и он тоже
желал ее. Он, подобно Орунга, ощущал это странное страдание, которое
все повторялось... За это, наверно, Иеманжа так любит его, так
охраняет его, когда он выходит на "Смелом" в море. Поэтому, чтоб он не
страдал, как некогда Орунга, она должна подарить ему красивую женщину,
почти столь же красивую, как и сама богиня моря.
Сегодня праздник Иеманжи. Намолу, где каждый год проводит она
какое-то время, ее день - второе февраля. То же самое в Гамелейре,
Мар-Гранде и других местностях. Однако в Монте-Серрат, где ее праздник
пышней и ярче, чем где-либо, ибо справляется в ее собственном жилище,
в гроте Матери Вод, ее день - двадцатое октября. И в день этот
приходят почтить ее жрецы из Аморейры Бон-Деспашо и других селений, со
всего острова Итапарика. А в этом году даже отец Деусдедит пришел из
Кабейсера-да-Понте - присутствовать при посвящении дочерей всех
святых, жриц Иеманжи.
Белый песок стал черным от мелькания черных ступней, попирающих
его. Это люди моря, спешащие на зов своей повелительницы. Все они -
подданные царицы земли Айока, все они изгнанниками живут в других
землях и потому-то и проводят полжизни в море, надеясь достичь земли
Айока. Песнопения и гимны летят над песками, над морем, над лодками и
парусами шхун, над дальним городом в движенье оживленных улиц и,
конечно же, достигают тех незнаемых земель, где скрывается Она:
Иеманжа, приди...
подымись из вод...
Огромной плотной массой движутся люди, топча теплый песок. Вот
стала уже видна наверху, на холме, церковь Монте-Серрат, но не к ней
тянутся все эти изукрашенные татуировкой руки. Они тянутся к морю,
туда, откуда придет Иеманжа, хозяйка их жизней. Сегодня - ее день, и
она придет, чтоб резвиться на песке и справлять свои свадьбы с
моряками, чтоб получать подарки от своих грубых и простодушных женихов
и приветы от девушек, которым вскоре суждено стать ее жрицами. Сегодня
- ее день, и она встанет из вод, чтоб раскинуть свои волоса по песку,
чтоб веселиться, чтоб обещать морякам попутные ветры, добрый груз и
красивых жен.
Они зовут ее:
Иеманжа, приди...
подымись из вод...
Она появится из вод, с длинными своими волосами, цвет которых
таинствен и неопределим. Появится, набрав полные пригоршни раковин, с
улыбкой на губах, И станет забавляться вместе со всеми, вселится в
тело какой-нибудь негритянки и станет равной для негров, лодочников,
рыбаков, шкиперов, станет подобной другим женщинам портового города,
женой, подругой, какою можно обладать, какую можно любить. И тогда
исчезнет черная набережная Баии, скупо освещенная редкими фонарями,
полная призывной, тоскливой музыки, - и все очутятся в волшебных
землях Айока, где говорят на наречии наго и где находятся все, кто
погиб в море.
Но Иеманжа не придет так просто. Одних призывных песнопений тут
мало. Надобно выйти за нею в море, отвезти ей подношения и дары. И вот
уже все, кто только есть на берегу, попрыгали в лодки и разместились
под парусами шхун. Рыбачьи челны набиты людьми, "Смелый" так
перегружен, что кажется, вот-вот пойдет ко дну, шкипер Мануэл стоит на
своей шхуне в обнимку с Марией Кларой, с которой вступил в союз лишь
несколько дней назад, женщины громко поют, а луна освещает всех и все.
Тысячи фонарей наполняют море звездами. Гума идет на "Смелом" вместе с
негром Руфино. Старый Франсиско тоже поет, а Роза Палмейрао везет в
подарок Иеманже красивую, вышитую шелком подушку, чтоб богиня во время
отдыха могла приклонить на нее голову.
Праздничная процессия потянулась по морю. Поющие голоса
становятся громче, и звук их становится каким-то таинственным, ибо
исходит из всех этих лодок, шхун, плотов и ботов, теряясь далеко в
море, там, где вкушает отдых Иеманжа. Женщины всхлипывают, женщины
везут подарки и письма, в каждом из которых содержится какая-нибудь
мольба, какая-нибудь просьба к Матери Вод, исходящая из глубины
простого сердца. Под парусами шхун идет пляска, и все здесь кажется
призрачным: и мерно качающиеся женские тела, и мерные взмахи весел в
руках мужчин, и эта варварская музыка, разносящаяся над морем.
Вот уже окружено жилище Матери Вод. Волоса Иеманжи раскинулись по
морской синеве как раз под самой луною. Женщины бросают в море дары,
предназначаемые богине, и нараспев повторяют свои моленья (...чтоб
мужа моего бури не загубили... У нас двое детишек, кто их кормить
станет, святая Жанаина...), и глядят на воду долгим взглядом: затонет
ли подарок? Ибо если поплывет - значит, Иеманжа не приняла дара, и
тогда несчастье черною тучей нависнет над домом...
Но сегодня Матерь Вод обязательно выйдет к сынам и дочерям своим.
Она приняла дары, она услыхала моленья, она внимает гимнам. И
парусники начинают готовиться в обратный путь. Но вот послышалось с
темного берега громкое ржанье. И при свете луны люди с челнов и шхун
различают на песке черный силуэт коня. Начинается исполнение великого
обета, данного Иеманже. Черный конь с выколотыми глазами не различает
моря, набегающего на берег. А люди на берегу толкают его к морю. Бока
вороного сверкают, хвост синего блеска свисает до земли, высокая грива
разлетается по ветру. Вот он уже в море - это дар Иеманже. Верхом на
черном коне поскачет она под водою к своим далеким священным землям.
Верхом на черном коне станет она объезжать свои моря, любуясь луною...
Черного коня бросают в море, и люди на двух лодках по оба бока влекут
его дальше и дальше на поводу, ибо конь слеп. Ему выкололи глаза
раскаленным железом, отметив его как дар Жанаине. И вот уже отпускают
повод возле самого подводного грота, женщины снова повторяют свои
мольбы (...чтоб муж мой бросил эту ведьму Рикардину и вернулся ко
мне...), и процессия пускается в обратный путь. Конь бьется еще
некоторое время в волнах, плывет, устремив вдаль свои глаза без света,
и потом опускается на дно, к Иеманже. Теперь она может скакать на нем
сквозь штормовые ночи по маленьким портам баиянского побережья,
управляя вихрями, молниями и громами.
Челны и парусники причаливают. Люди высыпали на берег. Иеманжа
приплыла с ними. Это ночь ее праздника, она будет плясать вместе со
всеми в Итапажипе, на кандомбле, устроенном в ее честь. Даже
Деусдедит, жрец из селения Кабесейра-да-Понте, прибыл на праздник
Матери Вод. Она движется вместе с толпой на черном своем коне,
недавнем подарке. Она едет по воздуху, поближе к луне, и так, верхом,
не боится даже встречи со своим сыном Орунга, силой овладевшим ею.
И процессия следует дальше и дальше, медлительно и мерно,
колыхаясь, как челн на воде. Пролетающий ветер несет уснувшему городу
запах морской прели и грохот дикарских песен.
Резкие звуки барабанов, колокольцев и погремушек разносятся по
всему полуострову Итапажипе. Музыканты - в экстазе, как, впрочем, и
все, кто присутствует сейчас на макумбе отца Анселмо, устроенной в
честь Иеманжи. Уже несколько месяцев назад началось посвящение
молоденьких негритянок, "дочерей всех святых". Сначала велели им
совершить омовение со священными травами, потом сбрили волосы на
голове, под мышками и внизу живота, чтоб божество могло свободнее
проникнуть их. Потом началась церемония эфун - раскрашивание лиц и
обритых голов в кричаще-яркие цвета. И тогда приняли они в себя
Иеманжу, проникшую в их тела через голову, под мышками или между ног.
Последний путь богиня избирает, только лишь когда прозелитка
молода и девственна, и делает это как бы в знак того, что избирает ее
своей рабыней и любимой служанкой, которая будет расчесывать ей волоса
и щекотать ее тело.
После всех этих церемоний обращенные проводят долгие месяцы в
полном одиночестве, запертые от людей. Им воспрещено сношение с
мужчинами, они не видят ни улиц в движении, ни моря. Они живут только
для богини вод. Сегодня настал их праздник, теперь они уже доподлинно
станут "дочерьми всех святых", жрицами Иеманжи. Они вертятся в пляске,
бешено раскачиваясь из стороны в сторону, кажется, что сейчас у них
вывихнутся все суставы. Они пляшут даже лучше, чем Роза Палмейрао,
прошедшая обряд посвящения двадцать лет назад. Матерь всех святых,
старая жрица, поет песнопение в честь Иеманжи на языке наго:
А одэ рассэ
о ки Иеманжа...
Негритянки танцуют так, словно внезапно сошли с ума. Жрецы ога -
среди них и Гума с Руфино - смешались с ними в танце, мерно
поворачивая плечи и взмахивая руками, как веслами. В разгар праздника,
уже полностью завладевшего всеми (Иеманжа уже давно среди них, пляшет,
вселясь в тело Рикардины), Руфино толкнул Гуму под локоть:
- Гляди-ка, кто смотрит на тебя...
Гума обводит взглядом всех, но не догадывается, о ком говорит
Руфино.
- Да вон та, смуглая...
- Вон та, приятная такая?
- Не сводит с тебя глаз...
- Да она в другую сторону смотрит...
Плечи движутся все в том же ритме. Иеманжа приветствует Гуму, она
покровительствует ему. Матерь всех святых поет песнопения на языке
наго:
О ийна ара вэ
о ийна онарабо...
Все кружатся в пляске, словно одержимые. Но Гума не спускает глаз
с девушки, указанной ему другом. Несомненно, это и есть его женщина,
та, что посылает ему Иеманжа. У нее гладкие волосы, такие блестящие,
что кажутся влажными, глаза прозрачные, как свежая вода, румяные губы.
Она почти так же хороша, как сама Жанаина, и молода, очень еще молода,
потому что груди ее едва проступают под красным ситцем платья. Все
кругом пляшут, Иеманжа пляшет шибче всех, и лишь она, незнакомая эта
девушка, сидит одна и только глядит время от времени на Гуму всем
своим существом, своими глазами словно из воды, своими влажными
длинными волосами, своей еще только расцветающей грудью. Иеманжа
послала Гуме его женщину, ту, о которой он просил богиню еще
мальчишкой, в день, когда приезжала мать. И Гума ни на мгновение не
сомневается, что будет обладать ею, что она будет спать под парусом
"Смелого", верной спутницей станет ходить с ним на трудный промысел. И
он громко запевает песнь в честь Иеманжи, богини с пятью именами,
матери моряков и одновременно жены их, что приходит к ним в телах
других женщин, так вот внезапно появляющихся в разгар макумбы,
справляемой в ее честь.
Откуда она явилась? Он ринулся искать ее, как только праздник
кончился, но ее нигде не было. И он грустно поплелся вслед за Руфино,
сразу направившимся в "Звездный маяк" со своей неизменной гитарой.
- Кто эта девушка?
- Какая девушка?
- Та, что, ты говорил, смотрела на меня.
- А то не смотрела? Каждый взгляд - как прожектор...
- Откуда ты знаешь ее?..
- Да я и сам видел ее сегодня в первый раз. Лакомый кусочек.
Корма что надо. Обратил внимание?
Гума внезапно пришел в ярость.
- Не смей говорить так о девушке, с которой ты даже не знаком.
Руфино засмеялся:
- Так я ж говорю хорошее... У нее бока...
- Разузнай, кто она, и скажи мне.
- Так тебя задело, а?
- Может же мне понравиться кто-нибудь!
- Если Роза узнает, будет кораблекрушение... Так что считай, что
ты уж утонул.
Гума засмеялся. Они подошли к "Звездному маяку". Вошли. Роза
Пальмейрао сидела за столом и пила стакан за стаканом.
- Ухожу я от вас, милые, нет мне здесь дорожки...
Шкипер Мануэл, сидевший за соседним столиком в обществе Марии
Клары, явно при этом гордясь любовницей, увидел, что вошел Гума, и
крикнул Розе:
- Здесь по тебе скучать будут, девчонка...
- Кто любит меня, уйдет со мною... - И Роза улыбалась Гуме.
Но Гума сел поодаль от нее. Он уже душою принадлежал другой,
словно бы Роза Палмейрао давно покинула эти края. Роза встала и
подошла к нему:
- Ты грустный сегодня?
- Так ведь ты уезжаешь...
- Если ты хочешь, я останусь...
Ответа не последовало. Он глядел в ночь, опускавшуюся на берег.
Роза Палмейрао знала, что значит этот взгляд. Она расставалась так со
многими мужчинами, с некоторыми даже со скандалом. Она была стара, не
подходила она более для такого молодого мужчины, как он. Тело ее еще
красиво, но это уже не тело молодой женщины. И потом, тело ее вызывало
в нем память о матери, так и не обретенной. Они были чем-то похожи,
мать и любовница.
В последний раз образ матери-проститутки растревожил Гуму. Груди
Розы Палмейрао, большие, с кинжалом, спрятанным между ними, напомнили
ему груди матери, тоже измятые ласками. Но сразу же другое видение
встало перед его глазами - едва проступавшие под платьем груди
девушки, которую он видел на кандомбле, ее глаза, как чистая вода,
прозрачные, светлые, так непохожие на глаза Розы Палмейрао.
Девочка-подросток, еще без истории, без куплетов, сложенных о ней, что
глядела на него так просто, не скрывая того, что чувствовала...
- Ты стал важным человеком на пристани... - сказала Роза
Палмейрао.- С тех пор, как спас "Канавиейрас"...
Девочка, наверно, знает, что он - тот самый Гума, который в
бурную ночь один, на своем маленьком шлюпе, спас большой корабль,
набитый людьми... Гума улыбнулся...
Роза Палмейрао тоже улыбнулась. Она уедет отсюда и никого уж
больше не станет любить. Теперь ей хотелось только шума и скандалов -
на весь остаток жизни. Пусть блестит в драках кинжал, что носит она на
груди, нож, что торчит у нее за поясом. Пусть вянет ее красивое тело.
А если и вернется она когда-нибудь в свой порт, усталая от драк и
шума, то затем лишь, чтоб взять на воспитание какое-нибудь дитя,
брошенного ребенка какой-нибудь пропащей женщины. Она станет
рассказывать ему истории из жизни всех этих людей, что видела на
долгом веку своем, и научит его быть храбрым, как надлежит моряку. И
она станет воспитывать этого чужого мальчика как своего сына, как
воспитывала бы того сына, что родился мертвым, сына от первого своего
мужчины, мулата Розалво. Она тогда сама была почти ребенком, любовь не
считается с возрастом. Старуха мать прокляла ее тогда, и так она и
отправилась по свету. Он был бродяга, хорошо играл на гитаре, его
возили бесплатно на шхунах и кораблях, и музыка его оживляла не один
праздник во многих городах побережья. Роза Палмейрао очень сильно его
любила, и было ей всего лишь пятнадцать лет, когда она с ним
познакомилась. Она с ним и голодала, ибо денег у него никогда не
водилось, и терпела от него побои, когда он напивался, и даже прощала
ему похождения с другими женщинами. Но когда она узнала, что ребенок
родился мертвым из-за того, что он, Розалво, нарочно дал ей тогда это
горькое питье, что он не хотел, чтоб дитя родилось живым, тогда она
переменилась сразу и навсегда. Тогда она стала Розой Палмейрао с
кинжалом на груди и ножом за поясом и ушла, оставив любимого мертвым
подле его гитары. Все было в нем ложью - и его песни, и его взгляды, и
его мягкая манера говорить. Он даже не успел испугаться, когда той
ночью, в постели, она воткнула ему в грудь свой кинжал в расплату за
то, что он убил ее нерожденное дитя... Потом долгие месяцы тюрьмы, суд
и незнакомый человек, утверждавший, что она была пьяна в ту ночь. Ее
отпустили. И она стала женщиной, которой ничто не страшно, - такая
слава утвердилась за ней с тех пор и была правдой: у нее просто не
было иного пути... Много лет миновало, много мужчин было и ушло. И
только лишь с Гумой почувствовала она вновь желание иметь ребенка,
малого сыночка, что махал бы ручонками и называл ее мамой. Потому она
так любила Гуму... А он вот больше не любит ее, потому что она стала
стара. Он также не дал ей сына, но вина тут не его, а ее, уже
бесплодной. Ей пора уходить отсюда, ведь он не любит ее.
Они вышли из "Звездного маяка". Падал мелкий дождик... Он обнял
ее за талию и подумал, что она заслужила еще одну ночь любви - за все
добро, что для него сделала. Еще одну ночь. Прощальную, последнюю ночь
под насупленным небом, над морем в мелких завитках дождя. Они
направились к "Смелому". Он помог ей взойти на шлюп, растянулся рядом
с нею. Он пришел сюда для любовной встречи. Но Роза Палмейрао удержала
его (что сделает она сейчас, выхватит кинжал из-за пазухи или нож
из-за пояса?) и сказала:
- Я ухожу отсюда, Гума...
Дождь падал тихий, медлительный, и с моря не слышалось никакой
музыки.
- Ты женишься в ближайшие дни, прибыла твоя невеста... Красивая,
как ты заслуживаешь... Но я хочу от тебя одну вещь на прощание...
- Какую?
- Я хотела ребенка, но я уж стара...
- Ну что ты...
Дождь падал теперь сильнее, толще.
- Я стара, твой сын не зародился во мне. Но ты женишься, и, когда
у тебя будет ребенок, я вернусь сюда. Я стара, волосы мои поседели -
разве не видно? Я очень стара, Гума, я клянусь тебе, что больше ни с
кем не затею ссоры, не поражу кинжалом никого.
Гума смотрел на нее удивленный: ее словно подменили, говорит так
умоляюще, морская глубь глаз устремлена на его лицо, и глаза эти
ласковые, материнские.
- Не затею больше ссор... Я хочу, чтоб ты нашел место для этой
старой женщины в доме твоей жены... Она ничего не должна знать про то,
что у нас с тобой было. И мне ничего больше не надо, ей нечего будет
со мною делить. Я хочу только помогать воспитывать твоего сына, словно
бы я когда-то сама родила тебя... Я по летам гожусь тебе в матери...
Ты позволишь?
Теперь на небе взошли звезды, луна тоже показалась, и нежная
музыка понеслась с моря. Роза Палмейрао тихо гладила по лицу Гуму -
своего сына. Это было в ночь праздника Иеманжи, богини с пятью
именами.
Большой корабль бросает якорь у пристани. Большой корабль
отплывает... Роза Палмейрао отплыла на большом корабле.
Гума смотрел на женщину, машущую ему платком с палубы третьего
класса. Она отправлялась на поиски последних своих приключений. Когда
вернется, найдет она дитя, о ком заботиться, кого-то, кто станет ей
внуком. Корабль плыл уже далеко-далеко, а она все махала платочком, и
люди с пристани махали ей в ответ. Кто-то сказал за спиной Гумы:
- Вот неугомонная... Все бы ей по свету рыскать...
Гума медленно пошел назад. Вечер сгущался понемногу, и дома его
ждал груз, который надо было отвезти в Кашоэйру. Но сегодня ему не
хотелось уходить с набережной, не хотелось переплывать бухту. Вот уже
несколько дней, с момента празднества в честь Иеманжи, он думал только
о том, чтоб встретить девушку, что глядела на него тогда. Ничего не
удалось ему узнать о ней, ибо той ночью масса народу собралась на
празднике отца Анселмо, и многие пришли издалека, даже с дальних
плантаций Консейсан-да-Фейра. Он исходил вдоль и поперек все улицы,
близкие к порту, проверял дом за домом - и не нашел ее. Никто не знал,
кто она такая и где живет. Во всяком случае, здесь, в порту, она не
живет, здесь все друг друга знают в лицо. Негр Руфино тоже не смог
ничего о ней узнать. Но Гума не терял надежды. Он был уверен, что
найдет ее.
Сегодня его ждет груз товаров, который он должен отвезти. Когда
груз будет сложен на его шлюпе, он отплывет в Кашоэйру. Еще раз
поднимется вверх по реке. Жизнь моряка так полна опасностей, что уж
все равно: вниз ли, вверх ли по реке или через бухту... Это дело
обычное, каждодневное, никому не внушающее страха. Так что Гума и не
думает о предстоящем плавании. Он думает о другом: что многое бы отдал
за то, чтоб снова повстречать девушку, которую видел на празднике
Иеманжи. Теперь ведь Роза уехала, он свободен... Он идет по берегу,
тихонько насвистывая. Со стороны рынка слышится пенье. Это поют
матросы и грузчики. Они собрались в круг, в центре которого пляшет
какой-то мулат, напевая задорно:
Я мулат, не отрекаюсь,
сам господь меня поймет:
даже если попытаюсь -
шевелюра выдает!
Остальные хлопают в ладоши. Губы распахнуты в улыбке, тела мерно
раскачиваются в такт мелодии.
Мулат поет:
Не смогу казаться белым,
Хоть лицо мне вымажь мелом, -
больно круты завитки...
Гума подошел к компании. Первый, кого он увидел и едва узнал в
щегольском темно-синем костюме, был Родолфо, о котором вот уж долгие
месяцы не было ни слуху ни духу. Родолфо сидел на перевернутом ящике и
улыбался певцу. Здесь были еще Шавьер, Манека Безрукий, Жакес и
Севериано. Старый Франсиско сидел тут же и пыхтел трубкой.
Родолфо, едва увидев Гуму, замахал руками:
- Мне очень нужно сказать тебе пару слов...
- Ладно...
Мулат уже кончил песню и стоял посреди круга, улыбаясь друзьям.
Он задыхался после быстрой пляски, но глядел победителем. Это был
Жезуино, матрос с "Морской русалки" - большой баржи, плававшей между
Баией и Санто-Амаро. Он улыбнулся Гуме:
- Привет, старина...
Манека Безрукий услышал это ласковое приветствие и пошутил:
- Лучше и не заговаривай с Гумой, Жезу... У парня руль
сломался...
- Что сломалось?
- Потерял направление. Призрак ему явился...
Все засмеялись. Манека продолжал:
- Говорят, мужчина, как ему в голову дурь ударит, баба то есть,
сразу идет ко дну. Вы разве не знаете, что он чуть было не разбил
"Смелого" о большие рифы?
Гума в конце концов обозлился. Он никогда не обижался на шутки,
но сегодня, сам не зная почему, прямо-таки рассвирепел. Если б у
Манеки Безрукого обе руки были здоровые... Но тут вмешались Севериано
и Жакес.
- Какую шкуру подцепил ты на этот раз? - полюбопытствовал Жакес.
- Верно, старая ведьма какая-нибудь, уж песок сыплется... -
подхватил Севериано, разражаясь своим рокочущим, дерзким смехом.
Руфино, заметив, как Гума сжал кулаки, сказал примирительно:
- Ладно, хватит, ребята. Каждый живет, как знает.
- А ты ее ходатай, что ли? - Севериано засмеялся еще пуще. Все
кругом тоже смеялись. Но долго им смеяться не пришлось, ибо Гума
бросился с кулаками на Севериано. Жакес хотел разнять их, но Руфино
оттолкнул его:
- Надо, чтоб один на один...
- Перестань дурью мучиться... Ты кто: мужчина или баба? Рыбацкая
женка...
И Жакес бросился на негра. Руфино отскочил назад и, пробормотав:
"Страшнее кошки зверя нет..." - ловко уклонился от удара, который
хотел нанести ему Жакес, резко повернулся на пятках - и противник так
и шлепнулся оземь во весь свой рост. А Гума тем временем награждал
тумаками Севериано. Прочие глядели на все это, не понимая, что же
здесь происходит. Внезапно Севериано высвободился и схватился за нож.
Старый Франсиско вскрикнул:
- Он убьет Гуму...
Севериано прислонился к стене рынка, размахивал ножом и кричал
Гуме:
- Пошли Розу драться со мной, ты не мужчина, ты баба!
Гума ринулся на него, но Севериано ударил его ногой в живот. Гума
рухнул на землю, и противник так и упал на него с ножом в руке. Но тут
Родолфо, дотоле беззаботно напевавший, рванулся вперед и сжал руку
зачинщика с такой силой, что тот выронил нож. А Гума тем временем уже
поднялся и снова напал на Севериано, и молотил его до тех пор, пока
тот не свалился почти что замертво.
- А ты, видать, мужчина, только когда у тебя нож в руках...
Теперь негр Руфино пел победоносно:
Ну, храбрец, тебе досталось!
Ничего, попомнишь наших!
У тебя такая харя,
Словно ты объелся каши.
Люди медленно расходились. Несколько человек подхватили Севериано
и отнесли его в лодку. Жакес пошел домой, бормоча угрозы. Гума и
Руфино направились к "Смелому". Гума уже прыгнул на палубу, как вдруг
послышался крик Родолфо:
- Ты куда?
Гума обернулся:
- Если б не ты, я был бы уж мертвый...
- Оставь, пожалуйста...
Родолфо вспомнил:
- Мы так мальчишками дрались. Помнишь? Только тогда мы были
противниками.
Он снял свои начищенные ботинки и зашлепал по грязи к причалу:
- Мне надо сказать тебе два слова.
- Что такое?
- Ты не занят сейчас?
- Нет... (Гума был уверен, что тот попросит денег.)
- Тогда садись, поговорим.
- Что ж, я пошел... - Руфино распрощался.
Родолфо провел рукой по напомаженным волосам. От него пахло
дешевым брильянтином. Гума подумал: где же он провел последние месяцы?
В другом городе? В тюрьме за воровство? Толковали, что он на руку
нечист. Крал бумажники, вымогал деньги в долг без отдачи, как-то раз
даже пустил в ход нож, чтоб очистить чьи-то карманы. Тогда его впервые
посадили. Но на сей раз Родолфо приехал нарядный и в долг ни у кого не
просил...
- Ты отплываешь сегодня?
- Да. Направляюсь в Кашоэйру...
- Это срочно?
- Срочно. Груз со склада. От Ранжела, он просил поскорее, это для
карнавала...
- Карнавал будет что надо...
Гума укладывал тюки на дне шлюпа:
- Говори, я тебя слышу отсюда.
Родолфо подумал, что так даже лучше, легче, так он не видит Гумы
и может говорить без стеснения.
- Это запутанная история. Я лучше начну с самого начала...
- Да говори же...
- Ты помнишь моего отца?
- Старого Конкордиа? Помню, конечно... Он еще винный погребок
держал, на базаре.
- Точно. Но мать мою ты не можешь помнить. Она умерла, когда я
родился.
Он поглядел на воду. Помолчал. Потом бросил взгляд в трюм, где
был Гума, раскладывающий тюки.
- Я слушаю, говори.
- Так вот: старый Конкордиа никогда не был женат на ней...
Гума поднял голову и удивленно взглянул вверх. Он увидел, что
Родолфо стоит на корме у самого борта и задумчиво смотрит на воду.
Зачем он пришел? Зачем рассказывает все это?
- Настоящая его жена жила в городе, на одной из улиц верхней
части города. Когда отец умирал, он все рассказал мне... Ты сам
видишь, я ничего не сделал, не пошел к этой женщине, его жене - что
мне было там делать? Остался здесь с этим дырявым корытом, что мне
оставил старик и на котором плавал раньше он сам. А потом я выбрал
другую жизнь, здешняя меня не очень-то тянет.
Гума поднялся наверх, уложив уже груз. Он сел напротив Родолфо.
- Жизнь и правда не легкая... Но что ж остается?
- Так и есть... Ушел я и с тех пор и качусь из одного места в
другое.
Он опустил голову:
- Ты ведь знаешь, что я уж понюхал тюрьмы... Так вот, недавно иду
я себе спокойно, достал немного деньжонок - выгодное дельце
подвернулось с полковником Бонфином... Вот тут-то я и наткнулся на
сестру...
- У тебя есть сестра?
- Да я и сам не знал. Старик ни разу не обмолвился про дочку.
Велел только разыскать его жену, она, мол, знает, что у него сын есть,
и примет, и растить станет, как своего.
- И у нее была дочь...
- В тот день, о котором я рассказываю, мы и встретились. Она
знала обо мне и разыскивала. С тех пор как мать умерла, - около года.
- А где ж она столько времени жила?
- У тетки, верней, у дальней родственницы какой-то.
- Родственницы старого Конкордиа?
- Нет, видно, матери. Не разберешь толком.
Гума никак не мог понять: какое он-то имеет отношение ко всему
этому? Зачем Родолфо рассказывает ему эту историю?
- Так вот, друг. Девчонка меня разыскала. Говорила, что поможет
мне встать на верный путь, много чего говорила, умно так. И вот что я
тебе скажу: клянусь богом, лучше этой девчонки я в жизни не
встречал... Она моложе меня, восемнадцать лет всего. Исправить меня
она, конечно, не исправит, я уж, верно, совесть-то совсем потерял. Кто
ступит на эту дорожку, тому с нее не сойти...
Он помолчал, зажег сигарету:
- Раз отвык работать, то уж не привыкнешь...
Гума тихонько принялся насвистывать. Ему было жаль Родолфо. О нем
плохо говорили в порту: что и на руку нечист, и ни на что не годен. Он
завяз в этой жизни, теперь ему не выбраться даже с помощью этой доброй
сестры.
- Она как начнет меня распекать, я обещаю все, жаль мне ее
становится. Говорит, что я плохо кончу. И права.
Он широко развел руками, словно чтоб развеять весь этот разговор,
и объяснил наконец:
- Так вот, сестра хочет, чтоб я привел тебя к ним...
- Меня привел? - Гума даже испугался.
- Ну да... Эти ее родственники ехали на "Канавиейрасе", когда ты
его спас. Ты тогда поступил как настоящий мужчина. А люди эти ездили в
Ильеус улаживать какие-то дела. Ничего они там не уладили и
возвращались назад. Они овощную лавку держат, на улице Руя Барбозы.*
Все в третьем классе ехали, она думала, что все погибли! Поблагодарить
тебя хочет... (* Имеется в виду Руй Барбоза, знаменитый бразильский
государственный деятель, один из основателей Бразильской республики,
оратор и писатель, родившийся в 1849 г. в Баие.)
- Глупости. Всякий на моем месте, сделал бы то же самое. Мне
просто повезло: буря не так сильна была...
- Она тебя видела. На празднике Иеманжи. Пришла, только чтоб тебя
увидеть. Она была на кандомбле старого Анселмо.
- Смуглая, с гладкими волосами?
- Да, да...
Гума словно онемел. Он в ужасном испуге смотрел на Родолфо, на
парус "Смелого", на море. Ему хотелось петь, кричать, прыгать от
радости. Родолфо спросил:
- Да что на тебя вдруг нашло?
- Ничего. Я уже знаю, кто это...
- Вот и хорошо. Как отвезешь груз, так сразу же собирайся, и
пойдем. А я ей скажу, что ты обещал.
Гума с яростью смотрел на свой шлюп и на тюки ткани, которые
подрядился отвезти. Ему хотелось идти немедля к сестре Родолфо.
- Ладно, договорились.
- Ну, прощай. Известишь тогда...
Родолфо прыгнул на берег, держа в руках ботинки. Гума крикнул
вслед:
- Как ее имя?
- Ливия!
Гума поднял паруса "Смелого", снялся с якоря и пустил шлюп по
ветру. Шкипер Мануэл шел на "Вечном скитальце", уже за волноломом.
Никто в те времена не плавал так ходко, как шкипер Мануэл на своем
судне. Гума посмотрел на "Вечного скитальца": он шел быстро, паруса
надувались ветром. Ночь опустилась уже густая. Гума разжег трубку,
зажег фонарь, и "Смелый" послушно заскользил по волнам.
Близ Итапарики он нагнал шхуну шкипера Мануэла:
- Побьемся об заклад, Мануэл?
- А тебе докуда?
- Сначала в Марагожипе, оттуда в Кашоэйру.
- Тогда состязаемся до Марагожипе.
- Ставлю пятерку...
- И еще десятку, если ты проиграешь, - крикнул негр Антонио
Балдуино, гость на судне Мануэла.
- Согласен...
И парусники пошли вместе, взрезая спокойную воду. На палубе
"Скитальца" Мария Клара запела. В этот момент Гума понял, что
проиграет. Нет такого ветра, что противостоял бы песне, когда она
хороша. А та, что поет Мария Клара, чудо хороша. Судно шкипера Мануэла
приближается к цели. А "Смелый" плывет словно нехотя, ибо и Гума весь
во власти песни. Огни Марагожипе уже видны за рекой. "Вечный скиталец"
проходит мимо "Смелого", чуть не задев его бортом, Гума бросает
пятнадцать мильрейсов, шкипер Мануэл кричит ему:
- Счастливый путь!
Шкипер Мануэл доволен, что выиграл еще одно состязание на
быстроту и что его слава на побережье еще укрепится. Но Гуме тоже
сопутствует слава. Он хороший моряк, рука его тверда на руле, и
храбрец он, каких мало. В ночь, когда чуть не погиб "Канавиейрас",
никто не хотел выходить в море, только у него хватили храбрости. Даже
шкипер Мануэл не осмелился. Даже Шавьер, со своей тайной тоской.
Только он, Гума. С тех пор слава его передается из уст в уста на
побережье и в порту. Он из тех, кто оставляет после себя легенду,
историю, над которой могут поразмыслить другие.
"Смелый" спешит сквозь тихую ночь по кроткой реке. Вот он входит
в глубокий полукруг гавани Марагожипе. Гума счастлив. Ее зовут Ливия.
Он никогда прежде не встречал женщины с подобным именем. Когда она
будет с ним, шкипер Мануэл проиграет все состязания, потому что она
станет петь, подобно Марии Кларе, старинные песни моря. Иеманжа
услышала его наконец и посылает ему женщину, о которой он просил.
Есть песня, в которой говорится о том, какая несчастливая судьба
у жены моряка. Говорят также, что сердце моряка изменчиво, как ветер,
дующий в паруса, и не пускает корня ни в одном порту. Но каждое судно
несет имя своего порта, начертанное на корпусе крупными буквами и
видное всем. Оно может плавать по многим местам, может не приставать к
родному берегу много лет, но порта своего не забудет и когда-нибудь
обязательно вернется. Так и сердце моряка. Никогда не забудет моряк
женщину, которая принадлежит ему одному. Шавьер, у которого на каждой
улице по зазнобе, так и не забыл ту, что звала его Совушкой и как-то
ночью вдруг ушла от него, беременная. И Гума тоже не забудет Ливию,
эту вот Ливию, которую он еще и разглядеть-то не успел хорошенько... А
вот и берег Марагожипе.
На пристани уже ждет человек. Сговариваются, что на обратном пути
"Смелый" захватит груз сигар. Гума выпивает рюмку в ближайшем кабачке
и снова пускается в путь.
В этих местах надо плыть побыстрее. Именно здесь и появляется
белый конь. Никто и не помнит, когда он в первый раз появился, он
бежит не останавливаясь. Никто не знает, почему он мчится так вот по
этим чащам, что подступили к самой реке. Развалины старых феодальных
замков, когда-то возвышавшихся здесь, заброшенные и поросшие травой
плантации - все это принадлежит белому коню-призраку, что мчится не
останавливаясь. А кто увидит белого коня, тот с места не сойдет.
Известно, что чаще всего он появляется в мае, это главный месяц его
набегов... Гума плывет вперед и вперед на своем шлюпе и помимо воли
всматривается в густые окрестные чащи - владение коня-призрака.
Говорят, это мучается грешная душа свирепого феодала, некогда
хозяина многих плантаций, убивавшего людей и заставлявшего лошадей
работать до тех пор, пока те не падали мертвыми. Вот он и преобразился
в белого коня и навеки обречен бежать по берегу этой реки, бежать без
устали, расплачиваясь за содеянное. На спине у него тяжкий груз, не
легче того, какой взваливал он на спины своих лошадей. Хребет его
трещит под этим грузом, а он все скачет и скачет сквозь чащу леса.
Земля дрожит под его копытом, а кто увидит его, тот с места не сойдет.
И тогда лишь остановит он бег свой по этим землям, некогда сплошь
покрытым его плантациями, когда кто-нибудь сжалится над ним и снимет
со спины его груз - огромные корзины, набитые камнями на постройку его
замка. Много уж лет мчится он так по прибрежным чащам...
Что там за шум? Наверно, белый конь... Сегодня Гуме хочется
углубиться в чащу, встретить белого коня и снять со спины его груз,
освободить этого бывшего рабовладельца, владеющего теперь лишь
собственным рабством. Сегодня Гума счастлив. "Смелый" бежит по волнам
реки. Быстро бежит, подгоняемый стуком копыт коня-призрака. Быстро
бежит еще и оттого, что Гума обязательно хочет вернуться завтра же,
вернуться в свой порт, чтоб увидеть Ливию.
Никогда раньше плавание не казалось ему таким долгим. А столько
еще надо успеть! Разгрузиться в Кашоэйре, принять новый груз в
Марагожипе, дойти вниз по течению до Баии. Слишком долгое плавание для
человека, так торопящегося вернуться. Но ничего, скоро уж с ним будет
она, Ливия. Взойдет вместе с ним на палубу "Смелого", станет петь для
него песни, поможет выиграть все состязания. Потому-то и надо спешить,
ведь это плавание такое длинное - целых два дня...
Шумные приветствия встречают Гуму. Таверна полнится людьми.
Пристань Кашоэйры всегда такая шумная, людная, суда приходят со всех
сторон, а сегодня у причала высится еще и большой пароход Баиянской
компании. Часа в три ночи он отплывает, и поэтому морякам не до сна, и
они проводят оставшиеся часы в портовой таверне, попивая тростниковую
водку и целуя женщин. Гума садится за столик, тоже намереваясь выпить.
Слепой музыкант играет на гитаре у раскрытой двери. Женщины охотно
смеются, даже когда смеяться не над чем - только чтоб угодить гостям.
Одна только тихо жалуется новому знакомому на свою жизнь:
- Уж так тяжело... И на обед не соберешь...
Какие-то люди рассказывают Гуме про драку, что накануне вечером
завязалась между матросами и местными парнями. Из-за женщины. В одном
таком доме, понятно? Парни были под хмельком, один хотел зайти в
комнату к женщине, а она там была не одна, и был у нее Траира, матрос
со "Святой Марии". Парень стал было барабанить ногами в дверь, Траира
поднялся, дернул дверь изнутри, парень так и повалился за порог. Потом
вскочил да как примется выкрикивать разные слова, и все кричал, что
эта женщина его и чтоб грязный негр убирался вон, коли не хочет, чтоб
ему рожу расквасили. Парней было человек шесть и все они гоготали и
тоже кричали Траире, что пусть поторапливается, а то ему несдобровать.
Ну, тут кровь бросилась Траире в голову, и он сцепился с обидчиками.
- Один против шести, представляешь... Где ж ему их одолеть, это
было бы чудом, - объяснял толстый негр по имени Жозуэ. - Дрался он
здорово, и хоть самому порядком досталось, но за честь свою постоял.
Ну, тут народ собрался, толпа целая, такая заваруха пошла... Парни те
перетрусили, пустились наутек, а один так даже под кровать забился...
Все смеялись. Гума тоже.
- Правильно... Нечего дурить...
- Ты еще главного не знаешь. Парни те, оказывается, в торговле
работают. Так что сегодня толки по всему городу пошли. На каждом углу
толкуют. Сам понимаешь - баба замешана. А так как сейчас здесь военные
учения проходят, так, говорят, нынче сразу же после учений прямо из
военной школы все они собираются отправиться в дом к той женщине -
поджидать нас, чтоб свести счеты за вчерашнее.
- Так они хотят...
- Думают, что стоит надеть форму, и храбрецом станешь, -
засмеялся высокий мулат.
- Мы как раз собираемся туда. Пойдем с нами.
Гума отмахнулся: нет. В другой раз он обязательно пошел бы с
большим удовольствием, он любил поглядеть на такие дела. Но сегодня
ему хотелось вернуться на свой шлюп и слушать песню, любую песню, что
море донесет до его слуха, чтоб думать о Ливии.
- Как так? Ты не идешь с нами? - изумился Жозуэ. - Вот уж этого я
от тебя не ожидал. Я думал, ты хороший товарищ.
- Так я ж тут вовсе ни при чем, - пытался оправдаться Гума.
- Как ты сказал? Ты что, не моряк, что ли?!
Гума понял, что ничего не поделаешь, придется пойти. Если он не
пойдет, то ему на всем побережье никто больше руки не подаст.
- Ладно, забудьте, что я сказал. Принимаю вызов.
- Так мы и думали...
Вскоре явился и сам Траира, слегка навеселе. Его приветствовали
восторженными криками:
- О, Траира! Вот это настоящий мужчина!
Траира радостно отозвался:
- Добрый вечер всей команде. И да здравствуют моряки!..
Гума мало знал этого человека. Тот не бывал почти в Баие, больше
все плавал по портам побережья с грузом табака. Траира был плотный
мулат с лицом шоколадного цвета, аккуратно подстриженными усиками и
бритой головой. Жозуэ познакомил их:
- Это вот Гума, храбрый негр. Истинно храбрый.
- А мы уж знакомы, - сказал Траира.
Он широко улыбался, зажав зубочистку в углу рта. На нем была
полосатая рубаха, и, обращаясь к Гуме, он склонялся в комическом
поклоне:
- Я много слыхал про вас... Это вы тогда?..
- Он, он. Взял свое суденышко, нырнул в эту чертову бурю и привел
"Канавиейрас", хоть кругом был сущий ад и конец света.
- Ну что ж, сегодня храброму человеку будет где развернуться.
- Жозуэ мне уже рассказывал...
- Вначале-то я был один. Ну, меня как ударили в борт, я чуть ко
дну не пошел. А тут, глядь, прибой - подкрепление явилось.
- Мы их так разукрасили... - И Жозуэ сжал кулак, потом разжал,
потом снова сжал и со всей силы опустил на трактирную стойку. Этот
таинственный жест означал, очевидно, что они едва не прикончили этих
наглых парней.
- А теперь они хотят с нами расквитаться. Чуть не целая рота ждет
нас...
С улицы раздавался ритмический шум шагов многих ног. Это шли с
учений. Слышалась команда: "Направо..." И шум шагов в повороте. Жозуэ
спросил еще водки.
Траира предложил:
- Пошли, ребята. А то опоздаем, они скажут: испугались.
Бросили монетки на стойку и вышли. Двенадцать человек. Матросы с
парохода не пришли, им надо было оставаться на борту, на рассвете
отплывали. Один даже огорчился:
- Такой случай пропустить! Обидно даже. Когда я из-за любой
ерунды в драку лезу... Надо же...
Двенадцать храбрецов, мирно беседуя, направлялись к улице гулящих
женщин. Они говорили обо всяких житейских вещах, словно забыв о
предстоящем сражении. Вспоминали разные случаи, происшедшие, когда они
ходили на лов. Один, тощий такой, рассказывал бесконечную историю про
то, как он ел вяленую рыбу у своего кума в Сан-Фелисе. Траира слушал,
весь внимание, чуть склонив к плечу бритую голову, блестевшую в
темноте, когда они проходили под фонарем. Но, войдя в улицу гулящих
женщин, все двенадцать разразились громкими криками:
- Вот и мы! Вот и мы!
Прохожие испуганно оглядывались. Странная компания. Издали видно,
что моряки, ибо идут неуверенным шагом, широко расставляя ноги, как по
палубе. Вразвалку, словно борясь с сильным ветром. Какой-то парень лет
девятнадцати сказал своему спутнику постарше:
- Это моряки. Уйдем отсюда.
Спутник пожал плечами, затягиваясь сигаретой:
- Ну и что же? Такие ж люди, как мы. Бояться нечего.
Однако все вокруг насторожились. Какой-то старик проворчал,
проходя:
- И что только смотрит полиция? Шайка бездельников. Честный
человек не может спокойно пройти по улице, - и с тоской смотрел на
женщин, свесившихся из окон.
Группа моряков прошла мимо говоривших. Тот, что курил сигарету,
выпустил клуб дыма прямо в лицо Жозуэ.
- Ты это нарочно, гад?
Нет, не нарочно. Парень оправдывался с дрожью в голосе. Спутник
поддержал его. Жозуэ глядел грозно. Товарищи ждали немного поодаль.
- Тебя что, шпионить послали?
- Да мы уж домой собрались. Мы никакого не имеем отношения,
начальник.
- Никому я не начальник. Нечего болтать зря.
Траира крикнул Жозуэ:
- Дай ему хорошенько, и пошли дальше, слышишь? А то опоздаем.
Тут младший начал умолять:
- Не бейте меня, ради бога. Я ничего плохого не сделал.
Жозуэ опустил кулак:
- Тогда уходи с глаз долой.
Повторять второй раз не пришлось... Когда Жозуэ догнал товарищей,
Гума опросил:
- Что произошло?
- Ерунда. Пареньки чуть со страху не померли...
Они вошли в один из домов. Из внутренних комнат навстречу им
вышла, покачивая бедрами, толстая мулатка:
- Чего вам здесь надо?
Жозуэ решил сразу же взять быка за рога:
- Как здоровье, мать?
- Может, я и чертова мать, да только не твоя. Вы зачем сюда
явились? Шуметь, как вчера? А полиция потом с меня спрашивает. Давайте
отсюда, давайте...
- Да бог с тобой, Тиберия. Мы пришли только позабавиться с
девочками. Что уж, нам и к женщинам ходить нельзя?
Содержательница дома свиданий смотрела недоверчиво.
- Я знаю, зачем вы пришли. Вы только и умеете, что затевать
драки. Думаете, верно, что так нам здесь хорошо живется, своей чесотки
мало...
- Да нам бы только пивка выпить, Тиберия.
Они вошли. В большой зале женщины, сидевшие вокруг стола,
взглянули на них испуганно. Один из товарищей сказал Гуме:
- Они нас за диковинных зверей приняли? Или за души с того света?
Одна из женщин, стареющая блондинка, сказала Траире:
- Ты опять пришел воду мутить, бесстыдник? Дьявол тебя срази.
Меня сегодня в участок вызывали...
- Я пришел затем лишь, чтоб нашу вчерашнюю любовь завершить,
Лулу.
Сели за стол. Появилось пиво. Женщин было только пять. Тиберия
предупредила:
- На всех вас у меня женщин не хватит. На пятерых только...
- Остальные пусть в другие дома идут, - предложил Траира.
- Но сначала выпьем пивка все вместе. - Жозуэ ударил кулаком по
столу, требуя еще пива.
Потом некоторые ушли в другие дома. Они вернутся, как только
услышат шаг курсантов, возвращающихся с учений, и окружат дом Тиберии,
чтоб, когда начнется заваруха, быть на месте. Из двенадцати за этим
столом останутся только Траира, Жозуэ, тощий мулат, мужчина со шрамом
на подбородке и Гума, с которым Жозуэ, совсем уже пьяный, нипочем не
желал расставаться.
- Ты даже не знаешь, какой я теперь тебе друг... Посмей только
кто-нибудь сказать про тебя плохое в моем присутствии...
Человек со шрамом сказал:
- Я вашего отца знавал когда-то. Говорят, он отправил подальше
одного типа...
Гума не ответил. Одна из женщин завела патефон. Жозуэ утащил
какую-то мулаточку в заднюю комнату. Траира ушел со стареющей
блондинкой. Тиберия считала кувшины из-под пива, выпитого компанией.
Человек со шрамом уснул, уронив голову на стол. Одна из женщин подошла
к нему:
- А как же я? Одна останусь?
Человек со шрамом пошел за нею нехотя, как на аркане. Тощий мулат
сказал:
- Я-то, собственно, драться пришел. Но раз уж я здесь... - и тоже
подхватил женщину.
Гуме досталась совсем молоденькая, со смуглым лицом. Она очень не
походила на продажную женщину. Наверно, недавно попала сюда. В комнате
она сразу же стала раздеваться.
- Ты меня угостишь рюмкой коньяку, мой хороший?
- Можно...
- Тиберия! Коньяку!
Уже в одной рубашке, она взяла заказанный бокал, чуть приоткрыв
дверь. Выпила залпом, предложив предварительно Гуме:
- Хочешь?
Он щелкнул языком: нет, спасибо... Она растянулась на постели.
- Чего ты там ждешь? (Гума сидел в ногах постели.) Не хочешь?
Гума снял сапоги и куртку. Она сказала:
- Все сдается мне, что не за этим вы все пришли сегодня.
- Да нет. За этим самым.
Свеча освещала комнату. Она объяснила, что лампа перегорела,
"здесь в Кашоэйре так плохо с электричеством, знаешь?.." Гума,
растянувшись на постели, смотрел на лежащую рядом женщину. Она так
молода еще. А здесь скоро станет старухой. Такую же жизнь вела,
наверно, и его мать. Несчастная судьба. Он спросил женщину:
- Как тебя зовут?
- Рита. - Она повернулась к нему: - Рита Мария да Энкарнасао.
- Красивое имя. Но ты ведь не здешняя, верно?
Рита поморщилась.
- Видишь ли... Я здесь потому, что... - Она закончила фразу
неопределенным взмахом руки и печальным взглядом. - Я вообще-то из
столицы штата.
- Из Баии? Да ну?
- А что ж тут удивительного... Или ты подумал, что я деревенская
какая-нибудь?
- Я подумал только, что ты слишком молода для такой жизни...
- Горе веку не разбирает.
- А сколько тебе лет-то?
Тень от горящей свечи чертила причудливые зигзаги по стенам
комнаты с глинобитным полом. Женщина вытянулась на постели и взглянула
на Гуму:
- Шестнадцать. А зачем тебе, извини за вопрос?
- Ты еще очень молода, а уже ведешь такую жизнь. Слушай: я знал
одну женщину (он думал о матери), она очень быстро состарилась от этой
жизни.
- Ты что, пришел мне проповедь читать? Ты кто: моряк или поп?
Гума улыбнулся:
- Нет, я так... пожалел просто.
Женщина села на кровати. Руки ее дрожали.
- Не нуждаюсь в твоей жалости. Зачем ты пришел? Что тебе нужно?
И (кто знает почему) вдруг закрылась простыней от внезапно
нахлынувшего стыда. Гуме было грустно, и ее слова не казались ему
обидными. Он находил ее красивой, ей было всего только шестнадцать
лет, и он думал, что вот, верно, и мать была когда-то такой же. Ему
было жаль ее, и от ее жестких слов становилось еще грустнее. Он
положил руку ей на плечо и сделал это так мягко и нежно, что она
пристально посмотрела на него.
- Извини...
- Знаешь, кто была женщина, о которой я тебе только что
рассказал? Моя мать. Когда я ее видел, она была еще молода, но была уж
развалиной, как корабль, потерпевший крушение... Ты красива, ты
девочка еще. Почему же все-таки ты здесь? - Он теперь почти кричал,
сам не зная зачем. - Нечего тебе здесь делать. Сразу видно, что совсем
тебе не место здесь.
Она еще плотнее закуталась в простыню. Она дрожала, словно ей
было очень холодно или словно ее ударили хлыстом. Гума уже
раскаивался, что так кричал.
- Нечего тебе здесь делать. Почему ты не уйдешь? (Голос его был
нежен, как у сына, говорящего с матерью. Он и говорил этой женщине все
то, чего не пришлось сказать матери.)
- Куда? Кто сюда попадет, тому уж не выбраться. Засасывает, как
трясина. Я уж смирилась. Ты пришел, чтоб сделать мне больно. Зачем?
Разве от этого лучше будет?
Огонь свечи то затухал, то разгорался снова.
- Я не из Баии, нет, я тебе наврала. Я там и не бывала никогда. Я
из Алагоиньяс, а сюда меня стыд загнал... Человек тот был коммивояжер.
Я от стыда свой край покинула. Сыночек мой умер.
Он положил обе руки на голову Риты. Она тихонько плакала,
прижавшись головой к его груди.
- Скажи: что же мне теперь делать?
В дверь постучали. Гума услышал голос Жозуэ:
- Гума!
- В чем дело?
- Они уже здесь... Выходи.
С улицы слышались шаги и шум голосов. Женщина схватила Гуму за
локоть:
- Что там?
- Это курсанты, с учений. Сейчас такая каша заварится. - И он
хотел соскочить с кровати.
Она ухватилась за него обеими руками, на лице ее выразился испуг,
глаза еще полны были слез. Она ухватилась за него как за последнюю
надежду, за дерево, растущее на краю пропасти.
- Ты не пойдешь, нет...
Он ласково погладил ее по щеке.
- Да ничего не случится. Пусти...
Она глядела на него, не понимая.
- А со мной-то что будет? Со мной? Ты не пойдешь, я не пущу... Ты
мой, ты не можешь теперь на смерть идти... Если ты умрешь, я убью
себя...
Он опрометью бросился из комнаты и в коридоре все еще слышал,
несмотря на грозные крики и нарастающий шум скандала, ее плач и ее
голос, вопрошавший:
- А я-то? Я тоже умру... Я убью себя...
Курсантов из военной школы было человек семьдесят, почти вся
школа, кроме семейных, благоразумно оставшихся дома. Если бы их было
меньше, весь скандал окончился бы иначе. Они буквально наводнили
комнаты, нанося удары направо и налево, не разбирая, где мужчины и где
женщины. Моряки приняли бой. Никто не заметил: Траира ли первый
схватился за нож или курсант первый выстрелил. Когда прибыла полиция,
моряки уже скрылись через задний двор, перепрыгнув стену и рассеявшись
по пристани, - опасное место для преследования людей моря. Курсант,
получивший удар ножом, умер. Второй был легко ранен - в руку. Кровавый
след, который оставил, выходя, Траира, доказывал, что в него стреляли,
и сержант школы уверял, что стреляли в грудь, он сам видел, как
курсант навел пистолет.
- Но мулат, уже раненный, поразил его ножом. Потом вышел,
согнувшись, как старик. Пуля попала в грудь, я ручаюсь. Он не дойдет
до пристани...
Женщина тоже была мертва. Она кинулась между Гумой и направленным
на него пистолетом, но никто не обратил внимания на Риту - подумаешь,
важность: проститутка. Все жалели убитого курсанта: мальчик из хорошей
семьи, сын адвоката, пользовался доброй славой по всей округе.
Начальник участка почесал голову (он спал, когда его вызвали),
взглянул на труп Риты, толкнул ногой:
- А эта зачем?
Стареющая блондинка была перепугана.
- Не знаю, что на нее нашло. Выбежала из комнаты, как безумная,
вцепилась в мужчину, который только что у нее был, хотела затащить
обратно. Тут началась стрельба, она заслонила его собой, ну и
получила, что причиталось ему...
- Она была его любовница?
- Да то-то и есть, что она с ним познакомилась только сегодня
вечером... - Женщина покачала головой. - Не знаю, что на нее нашло...
Другие тоже не понимали. Никто не понимал. Никто не знал, что она
лишь снова обрела чистоту, оставив эту жизнь. Не для этой жизни она
родилась и оставила ее во имя своей любви. И Тиберия, содержательница
публичного дома, широко раскрыв испуганные глаза, повторила то же:
- Не знаю, что на нее нашло...
Гума бросился в воду далеко от того места, где стоял "Смелый".
Поплыл, достиг шлюпа, взобрался на борт. Чья-то тень поднялась
навстречу ему, и послышался шепот:
- Гума, ты?
Это был Жозуэ. Обнаженный до пояса. Вода в реке подымалась, и
шлюп оказался довольно далеко от причала.
- Ну и ад был... Траира здесь. Я его вплавь приволок. Сам чуть не
задохся.
- Зачем ты его сюда?..
- Плох он, Гума. Довезти бы до Баии... Если найдут здесь, схватят
беднягу обязательно. И еще с пулей в животе...
Набережная была пустынна. Пароход Баиянской компании, ярко
освещенный, принимал немногих своих пассажиров. Лодки скрылись. Жозуэ
объяснил:
- Когда я дотащил его до берега, весь наш караван уж поднял
якоря. Только "Смелый" оставался на месте. Если б у меня была шхуна, я
б сам его отвез. Но на моей лодчонке его живым не довезти.
- Где ты положил его?
- Там, в трюме. Я перевязал ему рану, сейчас он, кажется,
задремал...
- Что мне с ним делать?
- Отвези его к доктору Родриго, он хороший человек, сделает, что
может. Потом Траира сумеет замести следы.
- Ладно.
Гума навел фонарь на Траиру, лежащего внизу. Кровь больше не
текла из раны. Траира казался мертвецом. Только дыхание указывало, что
он еще жив. Фонарь освещал посеревшее лицо и бритую голову. Жозуэ
сказал:
- Поторопись, друг, а то полиция вот-вот нагрянет.
Он помог Гуме поднять парус и, когда шлюп отошел, бросился в
воду. На прощанье махнул рукой:
- До встречи... Можешь на меня рассчитывать всегда.
Покидая гавань, Гума наблюдал необычное оживление на баиянском
пароходе. По трапу подымалось много людей, все громко говорили.
Вероятно, полиция. Гума крепко сжимал руль, "Смелый" бежал по волнам
со всей быстротой, на какую способен. Гума погасил фонарь и вел судно
осторожно - в реке много мелей и ночь темна. Он услышал первый гудок
баиянского парохода. "Мне остается один час", - подумал он. Один час,
чтоб опередить пароход, чтоб уйти на такое расстояние, когда
полицейский досмотр станет уже невозможным. Надо укрыться в
каком-нибудь глухом рукаве реки, покуда пароход пройдет мимо. Если
станут осматривать шлюп и найдут умирающего Траиру, то его, Гумы,
жизненный путь можно считать оконченным. Может, даже и не арестуют. В
здешних краях это не обязательно. Просто пустят плыть по воде с ножом
в боку - для примера. Траире уже бесполезно мстить, он умрет скоро, но
на ком-то они обязательно захотят отомстить. Убитый курсант был из
хорошей семьи, пользующейся влиянием... Гума огляделся вокруг. Море
было спокойно, добрый ветер дул с ровной силой, надувая парус. Море
помогает своим людям. Море - друг, ласковый друг...
"Смелый" скользит по синей воде. Гума ловко обходит внезапно
открывшуюся мель. Теперь он плывет по узкому каналу. Глаза его зорко
вглядываются в темноту, рука на руле тверда. Траира стонет в трюме.
Гума заговаривает с ним:
- Траира... Ты слышишь меня, Траира?
В ответ стоны слышатся громче. Гуме никак нельзя сейчас оставить
руль. Слишком опасно пустить "Смелого" по воле волн в этом канале.
- Я сейчас подойду... Подожди минуту.
Но стоны слышатся все более частые, все более страдальческие.
Гума думает, что Траира, наверно, сейчас умрет. Умрет на его шлюпе, и
полиция найдет его здесь... И выместит на нем, Гуме. Но не это его
пугает. Ему не хочется оставаться одному с трупом Траиры, погибшего
из-за глупого скандала. Траира не должен был пускать в ход нож. Если
противников оказалось так много, то разве было бы трусостью отступить,
оставив поле битвы за ними? Гума задумался. И все же кто ж поступил бы
иначе, чем Траира? Кто из них в подобном случае не схватился бы за
нож? Но спорить не о чем: Траира умирает. Надо как-то избежать
досмотра, чтоб довезти мертвеца до порта, где можно отдать его тем,
кто его оплачет.
Вот канал уже пройден. Гума зажег фонарь и спустился в трюм.
Траира лежит на боку, ему каким-то чудом удалось повернуться. Тонкая
струйка крови стекает из раны. Гума наклоняется:
- Тебе нужно что-нибудь, брат? Мы идем в Баию.
Угасающий взгляд Траиры останавливается на нем.
- Воды...
Гума приносит кувшин, наклоняется, прислоняет горлышко ко рту
умирающего. Траира пьет с трудом. Потом снова медленно поворачивается
животом вверх. Пристально смотрит на Гуму.
- Это Гума?
- Ну да, я.
- Парень тот умер, так ведь?
- Так...
- Никогда я не убивал человека... Сам себе могилу роешь...
- Так уж случилось.
- Что станется теперь с моей женой?
- Ты женат?
- Женат. Три дочки у меня. В Санто-Амаро. Что с ними будет?
- Ничего плохого. Ты поправишься, вернешься к ним.
- Полиция гонится за нами?
- Мы ее перехитрим.
- Иди к рулю, не задерживайся.
Гума идет к рулю. Идет, задумавшись о том, что вот, оказывается,
у Траиры есть жена и три дочери. Кто прокормит теперь такую семью?
Правильно говорит старый Франсиско, что моряк не должен жениться. В
один прекрасный день приходит беда, и дети остаются без хлеба. И
все-таки он, Гума, хочет жениться. Хочет привести Ливию на свой шлюп,
хочет иметь сына... Глухой голос Траиры снова зовет:
- Гума!
Он спускается к нему. Траира делает тщетную попытку приподнять
голову.
- Ты слышал гудок баиянского парохода?
- Нет.
- Я слышал. Он сейчас уже отплывает. Ничего не выйдет. Они на
корабле, ведь верно?
Гума знает, что он говорит о полиции. Верно, зачем отрицать...
Траира продолжает:
- Они нас догонят. И убьют.
Тишина. Фонарь освещает лицо Траиры, искаженное болью.
- Есть один выход. Я все равно умру. Ты помоги мне подняться, я
брошусь в воду. Когда они нас догонят, меня уж не найдут...
- Ты с ума сошел, приятель. Я еще умею управлять судном.
- Дай воды.
Гума идет за водой. Теперь действительно слышен гудок баиянского
парохода. Через минуту он снимется с якоря и пойдет в погоню за ними.
Когда с палубы завидят парусник с людьми, все будет потеряно. Пароход
поплывет дальше, а вооруженные полицейские прикончат их. Скажут потом,
что они оказали сопротивление, хотя Гума даже и не сможет оказать
сопротивление: нож годен лишь в прямой схватке - грудь с грудью, а
полицейские перепрыгнут на шлюп, уже нацелив свои парабеллумы и ружья.
Нынче ночью они вместе с Траирой отправятся на свидание к Жанаине,
царице вод. Он не увидит больше Ливию, не увидит больше старого
Франсиско... "Смелый" летит по волнам стрелою, подгоняемый ветром.
"Смелый" отдаст кормчему всю быстроту, на какую способен, но это
последний бег "Смелого". Он будет продырявлен пулями, может быть,
затонет вместе со своим хозяином. Его фонарь не засветится больше в
этой гавани, он не пересечет больше эту реку, не помчится весело,
состязаясь в быстроте со шхуной шкипера Мануэла... Там, в большой зале
публичного дома, остался мертвый курсант, осталась и убитая женщина.
Гума только сейчас вспомнил о ней. Она умерла, спасая его, и была
молода и красива. Оставила эту жизнь, ибо не для такой жизни родилась.
Если б она не умерла, то не расставалась бы уж со стаканом, спилась бы
и состарилась раньше времени. Она умерла, как жена моряка. Она не была
публичной женщиной, случайно убитой в перестрелке. Она была женой Гумы
- Иеманжа знает это и наверняка возьмет ее с собою в плавание к землям
Айока и сделает ее своей любимой служанкой, из тех, что расчесывают
волоса богини, когда она отдыхает на большом камне у мола... Она была
молода и красива. Она умерла из-за любви к моряку, и поэтому, хоть
тело ее будет предано земле, Иеманжа, без сомнения, придет за нею,
чтоб взять ее к себе в служанки. Гума расскажет Ливии эту историю. И
если у них родится дочь, он назовет ее Ритой... Слышится гудок
баиянского парохода. Разносится над каналом. Скоро пароход поравняется
с ними, спустит, шлюпку с полицейскими и исчезнет в темноте. Тогда все
будет кончено... "Смелый" мчится изо всех сил. Мчится навстречу
гибели, ибо пробил его час. Нынче они отправятся в вечное плавание к
землям Айока, что прекраснее всех других земель. Там Рита, наверно,
уже ждет.
Внезапно Гума слышит какой-то шорох. Словно кто-то ползет по
палубе. Да, ползет. Очень медленно, очень тихо, в сторону борта. Гума
на мгновение оставляет руль и всматривается. Это Траира хочет
броситься в воду. Гума кидается к нему, чтоб остановить, и Траира еще
борется с ним из последних сил, он решил разом покончить со всем этим,
он не желает, чтоб Гума жертвовал собой из-за него. Бритая голова
поблескивает в свете фонаря. Гума волочит его на прежнее место. Траира
смотрит на него с благодарной гордостью. Он тоже твердо знает закон
пристани и твердо знает, что Гума выполнит этот закон. Что ж делать,
придется умирать вместе. Траира спрашивает:
- У тебя есть второй нож?
- Есть. Зачем?
- Дай мне. Я хочу умереть как мужчина. У меня еще хватит сил
увести с собою кого-нибудь из них... - Он с трудом улыбается.
Гума отдает ему нож и возвращается к рулю. Он тоже будет
защищаться. Не согласится умереть, как рыба, вытащенная из воды. Он
выпустит нож, только когда упадет, чтоб умереть. Он не увидит больше
Ливию, она выйдет замуж за другого, у нее будут дети от другого. Но
когда Гума упадет, сраженный, последнее, что он произнесет, будет имя
Ливии. Жаль, что здесь сейчас нет Руфино. Негр написал бы татуировкой
имя Ливии на руке Гумы.
Внезапно в темноте блеснул свет фонаря чьей-то шхуны. Кто бы это
мог быть? Скоро он узнает. Если друг, то это может оказаться
спасением. Парусник приближается. Это шхуна Жакеса. Еще сегодня утром
они дрались на песке прибрежья. Но Гума знает, что он может обратиться
за помощью. Так велит закон пристани.
В ответ на световой сигнал Гумы шхуна Жакеса останавливается.
Жакес поражен. Он целый час ждал возможности расквитаться с Гумой за
утреннюю драку. Но, узнав о случившемся, о преследовании, об умирающем
Траире, Жакес сразу же забыл о недавних обидах. Вдвоем они переносят
Траиру на шхуну Жакеса. Раненый задыхается, он близок к смерти. Гума
предупреждает:
- Жду в Марагожипе.
- Договорились.
- Счастливого пути...
Оба парусника отплывают одновременно. Теперь уж ничего не
случится. Никому не придет в голову осматривать шхуну Жакеса,
направляющуюся в Кашоэйру. А на "Смелом" ничего подозрительного не
найдут. Никто не может с твердостью сказать, что Гума замешан в
недавних беспорядках, разве что женщины, а они не выдадут. Он
свободен.
"Смелый" все же подвергся досмотру (Гума успел смыть пятна крови
в трюме), но ничего не нашли и оставили в покое. Жакес вскоре
вернулся. Гума уже грузил ящики с сигарами. Потом парусники пошли
вместе, Жакес все равно опоздал, куда собирался, и теперь мог идти с
Гумой до конца. Траира не умер. Из трюма шхуны Жакеса слышались его
стоны. Утро стояло ясное, когда они дошли до Баии. Баиянский пароход
давно уж стоял на причале. На пристани все уже знали о вчерашнем
происшествии. Жакес остался на шхуне, Гума отправился разыскивать
доктора Родриго. Траира все стонал в трюме. И говорил о жене, о семье,
о трех дочерях. В бреду ему представлялся огромный корабль -
трансатлантик, бросающий якорь у причала. Корабль пришел за ним,
Траирой, чтоб отвезти на дно морское, и был уже вовсе и не корабль, а
огромная черная грозовая туча, причалившая к берегу. Корабль бросает
якорь... Туча бросает якорь... Буря пришла за ним, Траирой, убившим
человека, пришла, чтобы увести с собою. Где жена, где дочери, почему
не машут ему с пристани на прощание? Ведь Траира уезжает от них на
большом корабле, на большой черной туче. Нет, нет, он не уедет, как
может он уехать, если здесь нет жены и дочек, чтоб махать ему платком
на прощанье? Траира, уже на борту большого корабля, на борту тучи, в
самом средоточии бури, все говорит о жене, о семье, о трех дочерях:
Марта, Маргарита, Ракел.
В порту считалось непререкаемой истиной, что доктор Родриго
принадлежит к семье моряков и что родители его и деды были
потомственными моряками, а более далекие предки пересекали моря и
океаны на своих судах, что и являлось их единственным промыслом в
жизни. Ибо иначе совершенно невозможно было бы объяснить, почему врач
с высшим образованием и дипломом покинул красивые улицы города и
поселился в жалком домишке на побережье вместе со своими книгами,
котом и графинами крепких напитков. Несчастная любовь тут не
подходила. Доктор Родриго был еще слишком молод для такой неизлечимой
болезни. Безусловно, - утверждали матросы, рыбаки и лодочники, - он из
моряцкой семьи и тянется к морю. И поскольку он тощ и слаб и не
способен, таким образом, управлять судном или таскать на спине тяжелые
мешки, то и решил лечить моряков, возвращая к жизни тех, кого буря
выпустила из своих когтей полумертвыми. Он же обычно давал денег на
похороны бедняков и помогал потом их вдовам. Удавалось ему и спасать
из тюрьмы тех, что были задержаны в пьяном виде. Много хорошего делал
он людям моря, и в порту его уважали, а слава его дошла до таких
глухих мест, куда доходила лишь слава о подвигах самых храбрых
моряков. Но было в его жизни кое-что, о чем моряки не знали. Быть
может, только учительница, дона Дулсе, знала, что он пишет стихи о
море, ибо доктор скрывал свои поэтические опусы, считая их слабыми и
недостойными темы. Дона Дулсе тоже не до конца понимала, почему он
все-таки живет именно здесь, будучи состоятелен и уважаем в богатых
кварталах города. Одевался он в поношенное платье, без галстука, и
когда ему не надо было идти к больным (многих из которых он лечил
бесплатно), то все больше сидел у окна, курил трубку и смотрел на
вечно новую панораму моря.
Люди с пристани по вечерам заходили к нему послушать радио,
музыку из других стран, завлекавшую воображение. Они уже привыкли к
своему доктору и смотрели на толстые, нарядные книги как на друзей
(поначалу они побаивались этих книг, служащих преградой между ними и
доктором Родриго) и почти всегда кончали тем, что выключали радио и
сами пели для доктора свои любимые песни моря.
Его жизнь на побережье, среди моряков, целиком отданная им, не
была тайной для одного лишь старого Франсиско, как-то раз сказавшего
ему:
- Ваш отец был моряком, правда ведь, доктор Родриго?
- Насколько мне известно, нет, Франсиско.
- Значит, дед...
- Деда я не знал, а отец как-то не нашел времени о нем
рассказать, - улыбался Родриго.
- Моряком был, - уверял Франсиско. - Я знал его. Командовал
большим кораблем. Хороший человек. Все в округе его любили.
И Франсиско был искренне убежден, что действительно знал деда
Родриго, несмотря на то, что сам только что выдумал это. Отсюда и
пошел этот слух, которому все верили: что Родриго - из семьи
потомственных моряков. И все ждали, что в один прекрасный день доктор
Родриго женится на учительнице Дулсе. Они встречались, прогуливались
вместе, беседовали... Но никогда не возникал у них разговор о свадьбе.
Однако на побережье все ждали этой свадьбы и даже обсуждали
подробности праздника. А самые близкие друзья доктора иногда даже
позволяли себе некоторые намеки, но Родриго только улыбался, сжимался
как-то, словно стараясь плотнее укрыться в свое поношенное платье, и
менял тему разговора. И возвращался к своим книгам, к своим больным
(особенно один чахоточный мальчик занимал его мысли и почти все его
время) и к созерцанию моря.
Вначале доктор Родриго часто бывал в городе. Он надеялся, что его
предложения о гигиенических мерах по улучшению жилищ моряков найдут
отклик. Потом перестал бывать. Дона Дулсе все ждала чуда. Придет чудо
- и тогда жизнь на побережье станет прекрасной. И тогда доктор Родриго
сможет писать о море стихи поистине прекрасные, столь же прекрасные,
как и само море.
Гума входит в комнату, служащую доктору приемной, Толстая женщина
стоя слушает жалобы матери чахоточного мальчика, которого та держит за
руку. Мальчик худенький, кожа да кости, все время кашляет, и кашель у
него такой сильный, что вызывает слезы на глаза. Молоденькая девушка,
сидящая в углу, с ужасом смотрит на него и закрывает рот платком. Мать
мальчика рассказывает:
- Иной раз думаю, прости меня господи, - и она бьет себя ладонью
по губам, - что лучше б было, коли бог забрал бы его к себе...
Страданье-то какое... Для всех нас страданье. Всю-то ночь кашляет,
кашляет, конца не видно... Какая ж ему, бедняжечке, радость в жизни
дана, раз он и играть-то с другими детьми не может? Иной раз думаю:
помоги нам господи, возьми его от нас... - Она проводит рукавом по
глазам и плотней застегивает курточку на малыше, который кашляет и
кажется далеким, далеким от всего, что происходит.
Толстая женщина сочувственно кивает головой. Девушка в углу
спрашивает:
- Когда же он заболел?
- Да вот простудился, потом все хуже и хуже, так и впал в
чахотку...
Толстая женщина советует:
- А вы не хотите свести его к отцу Анселмо? Говорят...
- Да уж водила... Не помогает... Доктор Родриго уж так заботится,
ровно отец родной...
- Иеманжа хочет взять его к себе, - заключает толстая женщина.
Гума спрашивает:
- Доктор Родриго скоро освободится, Франсиска?
- Не знаю, Гума. Там у него Тибурсио, он ранен в ногу... А вы
что, больны?
- Нет. У меня дело к нему...
Мальчик снова принялся кашлять. Толстая женщина обращается теперь
к Гуме:
- Вы ведь знаете Мариану, да? Жену Зе Педриньо?
- А-а, знаю.
- Так у нее тоже была чахотка. Высохла, как треска сушеная.
Харкала кровью так, что казалось, вот-вот сердце выхаркает. Так вот,
отец Анселмо дал питье, все как рукой сняло.
- А моему Мундиньо не помогло. Отец Анселмо даже сам посоветовал
обратиться к доктору Родриго. Доктор сделал все, что только мог.
Видно, нет надежды...
Дверь комнаты, служащей кабинетом, отворилась, Тибурсио вышел,
прихрамывая. Доктор показался на пороге в белом халате. Худое,
костистое лицо его было серьезно. Поздоровался с Гумой:
- Заболел, Гума?
- Мне нужно поговорить с вами, доктор. Дело очень срочное.
- Войдите. - Он обернулся к женщинам: - Подождите немного.
Через несколько минут оба вышли из кабинета, Родриго уже в
пиджаке, с чемоданчиком в руках. Он предупредил женщин:
- Зайдите через два часа. Срочный случай. - У двери он обернулся:
- Не забудьте дать мальчику лекарство, дона Франсиска. Перед едой...
Они уже шагали по набережной, когда Родриго попросил:
- Теперь расскажите мне, что произошло.
Гума рассказал. Доктору все можно было сказать, он свой, как если
б сам был моряком. Гума рассказал о схватке, о смерти Риты, о том, как
был ранен Траира.
- Курсант умер. А Траира совсем плох, бедный...
Они зашлепали по грязи причала, прыгнули на палубу шхуны Жакеса.
Доктор Родриго соскочил в трюм. Траира бредил и звал дочерей - Марта,
Маргарита, Ракел. И все узнавали теперь, что Марта уже взрослая-
восемнадцать лет, красавица, что Маргарита любит бегать по прибрежным
камешкам и плескаться в реке, у нее длинные волосы и, хоть ей всего
четырнадцать, на нее уже заглядываются... Но больше всего тосковал
Траира по Ракел, которой нет еще трех, и говорить толком не умеет, и
такие чудные выдумывает слова...
Жакес сказал:
- Он забывается уж...
Марта, Маргарита, Ракел... Он звал их и звал, непрерывно,
настойчиво. Марта хорошо шила и даже начала вышивать приданое - жених
может появиться каждый день... Маргарита бегала по камешкам, каталась
по песку, плавала как рыба... Ракел болтала что-то невнятное,
рассказывала о чем-то старой кукле, которая одна ее понимала. Ракел он
звал чаще других, это о ней, Ракел, больше всего болела его душа.
Ракел разговаривала со старой куклой, говорила ей, что забросит в
угол, что папа обещал привезти новую с золотыми волосами... И
умирающий отец все звал Ракел, звал Марту, Маргариту, звал и свою
старуху, что ждет его и, наверно, нажарила для него рыбы к ужину, как
всегда.
Родриго осмотрел рану, умирающий уже никого и ничего не слышал,
не замечал ничьего присутствия. Он видел только трех своих девочек,
пляшущих вокруг него, радостно прыгающих рядом, весело смеющихся, -
Марта, Маргарита, Ракел. Новая кукла была на руках у Ракел, та, что он
привез ей из этого путешествия. Он теперь плывет на корабле, похожем
на тучу, а Марта, Маргарита и Ракел пляшут на пристани, пляшут,
взявшись за руки, как в те счастливые дни, когда он, Траира,
возвращался из долгих странствий и бросал на стол привезенные подарки.
Марта одета в подвенечное платье, Маргарита прыгает по камешкам, что
собрала на берегу реки, Ракел прижимает к груди новую куклу...
- Придется оперировать.
- Что вы сказали, доктор?
- Надо извлечь пулю... Да и то вряд ли... Придется доставить его
ко мне домой. У него есть семья, так я понял?
Траира звал:
- Марта, Маргарита, Ракел...
- А как мы его доставим? - спросил Жакес.
В конце концов решили: в подвесной койке. Сначала направили судно
к пустынному берегу гавани. Положили Траиру на койку-сеть, продели
шест и понесли на плечах. Дома у Родриго инструменты всегда были
наготове, и операция была начата сразу же. Гума и Жакес помогали и
видели кровавый разрез, вынутую пулю, вновь зашитую рану. Это походило
на то, как чистят рыбу. Теперь Траира спал, не говорил больше о
дочерях, не звал их.
- Он поправится, доктор?
- Боюсь, что он не выдержит, Гума. Слишком поздно. - Доктор
Родриго мыл руки.
Гума и Жакес стояли и смотрели на товарища. Бледно-серое лицо,
бритая голова, огромное тело, забинтованный живот... Казалось, он уже
ушел от них, уже не принадлежит этому миру. Гума промолвил:
- У него есть семья. Жена и три дочери. Моряк не должен жениться.
Жакес повесил голову: он собирался жениться через месяц. Доктор
Родриго спросил:
- А где находится его семья?
- Он проживал в Санто-Амаро... Где-то в тех местах...
- Надо сообщить...
- Наверно, уже знают... У плохих вестей ноги длинные...
- Полиция, наверно, там уже была.
Дон Родриго сказал:
- Идите по своим делам, я позабочусь о нем.
Они вышли. Гума в дверях обернулся и взглянул на лежащего без
сознания и тяжко дышащего человека. Доктор Родриго, оставшись один,
обратил свой взгляд на море за окном. Тяжела жизнь моряка. Гума
говорит, что моряк не должен жениться. Обязательно настанет день,
когда семья будет обречена на нищету, обязательно придется голодать
каким-нибудь Мартам, Маргаритам и Ракелам... А дона Дулсе ждет чуда...
Родриго хотел было вернуться к своей поэме о море, но умирающий рядом
человек, казалось, восставал против всей этой описательной лирики,
посвященной морю. И в первый раз в жизни Родриго подумал, что если
писать поэму о море, то надо, чтоб это была поэма о нищей и
страдальческой жизни моряков.
Потом пришла смерть - спокойная. Траира уже не плыл на корабле.
Доктор позвал Гуму и Жакеса. Траира увидел три тени вокруг своего
ложа. Он уже не стонал. Он вытянул руку, прощаясь, но не с доктором и
двумя друзьями прощался он. Он видел трех дочерей вокруг своей
постели, трех дочерей, что будили его, ибо солнце высоко стояло в небе
(солнце и впрямь залило комнату) и пора было вставать и выходить в
море на своей лодке. Он протянул руку, ласково улыбнулся (доктор
Родриго ломал руки, стоя в изголовье), прошептал имена: Марта,
Маргарита, Ракел, повторил: Ракел - и уплыл на своей лодке...
ГРАФЫ, МАРКИЗЫ, ВИКОНТЫ И СКОРПИОН
Городок Санто-Амаро, где Гума недавно пристал со своим шлюпом,
был родиной многих знатных людей империи, графов, маркизов, виконтов,
но, что важнее, был родиной Скорпиона. Именно по этой причине и не по
какой другой - не потому что славился своим сахаром графами,
маркизами, виконтами и водкой, - Санто-Амаро был одним из городов,
особенно любимых моряками. Здесь родился знаменитый Скорпион, ступал
по этим улицам, здесь пролилась его кровь, здесь он орудовал ножом и
пистолетом, побеждал в атлетических играх капоэйры, пел свои самбы.
Близехонько отсюда, в Маракангалья, его разрезали на куски, и в небе
над этой местностью горит его звезда, большая и светлая, почти такая
же большая, как звезда знаменитого храбреца и разбойника Лукаса да
Фейра. Он превратился в звезду, ибо это - удел храбрых.
Санто-Амаро - родина храброго негра по прозвищу Скорпион... Об
этом думает сейчас Гума, лежа на юте своего судна. Еще недавно мысли
Гумы были направлены совсем в другую сторону. В тот день, когда умер
Траира, он собирался вечером к Ливии и только о ней были его думы. Но
сейчас ему вновь и вновь беспокойно приходят на память и слова старого
Франсиско, и песня, что так часто слышится над морем ("Несчастлива та,
что станет женой моряка..."), и смерть Траиры, оставившая сиротами
трех девочек. Моряк должен быть свободен, говорит старый Франсиско. Об
этом в песне поется, и печальные происшествия, случающиеся чуть ли не
ежедневно, подтверждают это. Моряк должен быть свободен... Не для
любви, не для вольной жизни - для смерти, для свадьбы с Иеманжой,
хозяйкой моря. Ибо для смерти живут они все, такой близкой, такой
знакомой, что ее уж и не ждут, что о ней уж и не думают. Моряк не
имеет права приносить в жертву любимую женщину. И не в том дело, что
жизнь его бедна, дом нищ, ужин из жареной рыбы скуден и карман пуст.
Это вынесет любая, здесь все женщины к этому привыкли, ибо одни из них
родились тут же, в порту, а другие - дочери пришлых рабочих,
поденщиков, таких же бедняков. К бедности-то они все привыкли, а часто
и к чему-нибудь похуже бедности. Но не могут же они привыкнуть к
внезапно врывающейся в дом смерти, к тому, что вот вдруг и осталась ты
одна - без мужа, без опоры, без крова и без пищи, дабы быть потом
проглоченной фабрикой или, еще хуже, - улицей, если ты молода и хороша
собой. Гума приходит в ужас при мысли, что подобная судьба может
постичь Ливию, самую красивую из женщин побережья, что она вынуждена
будет отдаваться другим мужчинам, зазывая их из окна для того, чтобы
прокормить сына, который в один прекрасный день тоже станет моряком и
сделает несчастной другую женщину. Из-за решетчатого окна (словно в
тюрьме для осужденных пожизненно) мелькнет на миг ее лицо, все то же,
что сейчас, без тайны и страдания, и она взмахнет рукой, зазывая
проходящего мимо мужчину. А сын ее, сын Гумы, сын моря, будет спрятан
от чужих глаз, чтоб не слышно было, как он плачет о своей матери. И
она раскроет первому встречному тайну своего тела, чтоб накормить
сына, который когда-нибудь тоже покинет жену свою внезапно и навеки,
уплыв с Иеманжой к землям Айока, исконным землям всех моряков, где
обитает единственная, кем можно обладать без опаски, - Жанаина, богиня
с пятью именами, мать и супруга в одно и то же время, чем она и
таинственна, чем она и страшна. Никто не припомнит, чтоб хоть один
моряк, имеющий семью и детей, дожил до старости, ежедневно уходя в
море на своей лодке или шхуне. Иеманжа ревнива, и в гневе она
оборачивается богиней бурь Инае и насылает дикие вихри и черные тучи.
Бесполезно тогда слать ей подарки, предлагать девушек для услуг, ей
нужны мужчины - ее сыны и мужья вместе.
Вот по этой-то причине, не желая, чтоб судьба Ливии была
несчастной, и уехал Гума в ту ночь в Санто-Амаро с намереньем на
обратном пути забрать груз ящиков с вином. Он попросту бежал, чтоб не
пойти с Родолфо к Ливии, не видеть ее чистых глаз, не желать ее еще
больше. Потому он лежит сейчас на палубе своего судна, стоящего на
причале в Санто-Амаро, городе графов, виконтов и маркизов, городе
Скорпиона.
Слышите, моряки и докеры всех морей и портов, - Скорпион родился
здесь... Гума смотрит на небо, где он горит звездой. Если светит
полная луна, то глаза человека, смотрящего в небо, обращаются сперва
на луну, а потом ищут звезду Скорпиона, самого храброго негра на всем
побережье. Небо освещено душами храбрых, что зажглись звездами после
их смерти, - Зумби дос Палмарес, вождь восставших рабов, Лукас да
Фейра, отчаянный искатель приключений, за ними - другие, другие.
Скорпион... Там, между луной и Лукасом да Фейра, есть место, где
заблестит после смерти разбойник Виргулино Феррейра Лампиан, гроза
богачей, только это случится еще не скоро...
Но никто из них не был сыном моря, никто не мчался на легком
паруснике под морским ветром. Один только Скорпион. Он был истинный
сын моря, умел управлять рулем, ловко причалить лодку к берегу, плыть
на всех парусах под звуки музыки. Потому он так и любим на всех
пристанях. И это именно здесь, в Санто-Амаро, - слышите, моряки со
всего света, грузчики, докеры, лодочники, слышите, доктор Родриго и
учительница дона Дулсе, слышите все, кто трудится окрест на воде и на
суше? - именно здесь он родился. А близехонько отсюда, в Маракангалье,
изрубили его на куски, но - заметьте это себе, моряки со всех концов
света, - убили его изменой, во время сна, когда он мирно спал в
подвесной койке, которая, покачиваясь, как на воде, более чем что-либо
иное напоминает на суше о лодках, шлюпках и шхунах.
Так что он родился здесь. На баиянском побережье родилось много
храбрых моряков. В Баие, столице штата, городе семи ворот, родятся
самые красивые женщины побережья. Ливия тоже там родилась. Если бы
повстречалась она Скорпиону, - думает Гума, затягиваясь трубкой на
палубе своего судна, - он обязательно увлекся бы ею и из-за нее пырнул
бы ножом троих, а то - четверых. Храбрый был моряк. А на побережье нет
женщины красивей Ливии, той, что пришла на праздник Иеманжи, только
чтоб увидеть Гуму, ибо Гума тоже храбрый, он не раз уже подвергался
опасности и намерен когда-нибудь отправиться на большом корабле в
чужие края - искать приключений. Он любит Ливию, он так долго ждал ее,
и она любит его, в чем и призналась тогда, на празднике, чистым
взглядом своих глаз, без тайны и без обмана. А кроме того, Гума ведь
обещал Розе Палмейрао, что у них с Ливией будет сын и Роза вернется,
чтоб воспитывать его, играть с ним, забыть о своей прежней жизни,
полной скандалов, драк, насилья и смерти... Известно, правда, что
Скорпион не был женат. Но ведь он не знал Ливии, его уж не было, когда
она родилась. Из-за такой женщины, как Ливия, любой моряк обо всем на
свете забудет, забудет и о том, что когда-нибудь может оставить ее
одну в нищете, с сыном или с тремя дочерьми, как у Траиры, - Марта,
Маргарита, Ракел.
Гума даже не слышит музыки, доносящейся с пристани. Он лишь
чувствует ее, она проникает в его мысли, и это та самая старая песня,
в которой говорится, что ночь создана для любви. Ночи Скорпиона не
всегда бывали отданы любви. Много раз были они полны схваток,
преступлений. А иной раз служили пособницами бегства, как случилось в
ту ночь, когда, сразив четверых солдат, он углубился в рощу, раненный
двумя пулями в подбородок и одной - в руку. Ночь та была темна, и его
преследовали долго, окружили рощу, он бросился в воду и, раненный,
плыл, не останавливаясь, как и положено моряку, покуда какая-то лодка
не подобрала его и не отвезла к негритянскому жрецу на исцеление... И
все же и у Скорпиона бывали ночи любви. Ночами, полными луной и
музыкой, когда вода в реке голубая, он предавался любви, обнимая Марию
Жозе, или Жозефу да Фонте, или Алипию, или другую женщину, которую
только что встретил. Но никогда не было у него единственной, той, что
связана с ним судьбою, что будет влачить свою жизнь в нищете, когда он
погибнет. Многие женщины оплакивали его, да и не только женщины - все
побережье его оплакивало, а похороны его были пышней, чем у любого
маркиза, барона или графа родом из Санто-Амаро. Оплакивали потому, что
он был добр, щедр к бедным, всегда готов отстоять с ножом в руке
исконные права моряков. Но ни одна из женщин не плакала по нем, забыв
о его храбрости, доброте, подвигах, - просто как о близком человеке, о
своей опоре, своем счастье. Правду говорят старые люди и старые песни
- моряк не должен жениться... Гума беспокойно ворочается на досках.
Ночь дана для любви, но для любви-приключения, любви случайной, на
прибрежном песке, на берегу реки, у стены опустевшего рынка, с первой
встречной.
Ночь дана для любви, поет какой-то негр у берега Санто-Амаро.
Другая песня (история баиянского побережья вся переложена в стихи -
АВС, самбы, песни, эмболады) уверяет, что у жены моряка одна судьба:
ждать на берегу, не покажется ли вдалеке парус, ждать в бурные ночи,
не выбросит ли море мертвое тело. Скорпион так и не женился, он был не
только моряк, но еще и жагунсо, наемный стрелок, и, кроме весел, было
у него ружье, а кроме обычного ножа, какой носит за поясом каждый
моряк этих мест, был у него еще и кинжал. А вспомнить Розу
Палмейрао?.. Хоть и женщина, а стоит двоих мужчин, - и тоже ведь
никогда так и не было у нее семьи, сына. Жакес, намеревавшийся сыграть
в этом месяце свадьбу с Жудит, молоденькой мулаткой, сиротой без отца,
стал после смерти Траиры сомневаться: стоит ли? Он тоже спасся
бегством - уплыл в Кашоэйру, чтобы так же, как и сейчас Гума, лежать
на юте своего судна, курить трубку, слушать музыку и думать... У Ливии
такие чистые глаза, словно она не ждет от жизни ничего плохого.
Связать ее жизнь с судьбой моряка - значит сделать ее несчастной,
правильно поется в песне. Гума охвачен гневной досадой, ему хочется
кричать, броситься в воду - "так сладко в море умереть...", - затеять
драку на ножах, один против десяти, как Скорпион.
Звезда Скорпиона мерцает на небе, словно подмигивая. Она большая
и светлая. Женщины уверяют, что он наблюдает все злые дела людей
(графов, маркизов, виконтов и баронов) Санто-Амаро и видит все
несправедливости, каким подвергаются моряки. Придет день, и он
вернется на землю, чтоб отомстить за них.
Он вернется в ином обличье, никто не догадается, что это
Скорпион. Его звезда исчезнет с небес и засияет на земле. Быть может,
это и есть чудо, которого ждет дона Дулсе, тот заветный день, о
котором говорит в своих стихах доктор Родриго. Быть может, с того дня
моряки смогут спокойно жениться, лучше обеспечивать своих жен и быть
уверенными, что те не умрут от голода после смерти мужа и не будут
вынуждены идти на улицу. Когда настанет такой день? Гума вопрошает об
этом луну и звезды.
Скорпион был храбрец, захватить его удалось лишь изменой, и тело
его изрубили на мелкие куски, которые пришлось потом собирать для
погребения. Он боролся против графов, маркизов и виконтов, которые все
были владельцами плантаций, зеленых полей сахарного тростника и
устанавливали тарифные таблицы для фрахта парусников и лодок. Он делал
набеги на плантации, уносил хоть немного из того, что принадлежало
всем этим богачам, и распределял потом среди вдов и сирот, чьи
кормильцы погибли в море. Бароны, виконты, маркизы и графы произносили
речи в парламенте, беседовали запросто с самим доном Педро II,
императором бразильским, пили дорогие вина, насиловали девушек-рабынь,
пороли негров, обращались с моряками и лодочниками как со своими
слугами. Но Скорпиона они боялись, он был для них хуже черта, при
одном звуке его имени их пробирала дрожь. Они бросали против него
целые полки своих вооруженных людей, отряды полиции. Но не могли
справиться со Скорпионом, ибо не нашлось на всем побережье, в городах
и селениях, на море и на реке, ни одной женщины, которая не молила бы
Иеманжу защитить его. И не было такой шхуны, лодки или баржи, где он
не нашел бы убежища. Дрожали бароны, дрожали графы из Санто-Амаро,
просили бога сделать так, чтоб Скорпион пощадил их земли, обещая
взамен пощадить какую-нибудь негритянку, какого-нибудь негра,
какого-нибудь моряка. Ибо феодальные сеньоры испытывали ужас перед
Скорпионом.
В один прекрасный день Скорпион вернется. Гуме надо будет
подождать с женитьбой до этого дня. Никто не знает, каким образом
вернется Скорпион. Он может даже оборотиться многими людьми, и на
пристани будет тогда волнение, и все будут требовать новых тарифов для
фрахта судов, новых законов, защиты прав вдов и сирот.
Ливия ждет, Гума знает это. Ночь дана для любви, и Ливия ждет
его. Родолфо, наверно, обиделся, что он не пришел. Родолфо не знает,
что Гума бежал от них, не желая, чтоб у Ливии была несчастная судьба.
Но сейчас им овладевает неудержимое желание вернуться, увидеть ее
снова, стоять и смотреть на нее. Ливия должна пойти с ним, должна
провести много ночей на палубе "Смелого". А если он умрет, у нее
должно хватить мужества не стать уличной женщиной. Ночь дана для
любви, а для Гумы "любовь" означает "Ливия". Ему не нужно случайных
любовных утех с первой встречной. Ливия послана ему самой Иеманжой, он
не может противиться воле богини. Лодочники, рыбаки, шкипера с
парусных шхун боятся любви. Что-то решит Жакес, отправившийся в
Кашоэйру обдумывать свои дела? Гума ведь не хотел, чтоб у Ливии была
несчастливая доля, - но что он может поделать? Судьба творится помимо
нас, ей нельзя прекословить. И судьба Ливии такая же, как у других
женщин побережья. Ни она, ни Гума, ни даже Скорпион, обратившийся в
звезду, не могут изменить судьбу. Гума поедет к Ливии, не нужно было
ему бежать от нее, эта ночь, озаренная яркой луной и столькими
звездами, создана для любви. В такую ночь никто не думает о бурях и
штормах, опасности и смерти... Гума думает о том, как Ливия красива и
как он любит ее.
Санто-Амаро - это вотчина Скорпиона. Не важно, что здесь родились
знатные сеньоры империи, владеющие бессчетным числом рабов. Это нам не
важно, моряки. Здесь родился Скорпион, самый храбрый моряк из тех, что
плавали когда-либо в этих водах. Бароны, графы, маркизы и виконты спят
рядом с развалинами феодальных замков в закрытых гробницах, которые
постепенно поедает время. Но Скорпион сияет в поднебесье яркой
звездой, испуская свой свет на развернутый парус "Смелого", быстро
уплывающего к родной гавани в поисках Ливии. В один прекрасный день
Скорпион вернется, - слышите, моряки со всего света? - и тогда все
ночи будут для любви, и новые песни зазвучат на пристани и в сердцах
людей.
Море послало Гуме самый быстрый ветер - норд-ост, подгоняющий
судно к берегам Баии. С лодок, проплывающих мимо, со шхун,
встречающихся на пути, с рыбацких плотов, с барж, груженных дровами,
отовсюду слышится приветствие:
- Счастливого пути, Гума...
Счастливого пути, ведь он едет искать Ливию. Луна освещает ему
путь, морская дорога длинна и добра. Дует норд-ост, свирепый норд-ост,
ветер бурь. Но сегодня он - друг, помогающий быстрей пересечь этот
трудный рукав реки. Норд-ост доносит мелодии с речного берега - песни
прачек, напевы рыбаков. Акулы вспрыгивают над водой у самой бухты. На
освещенной палубе корабля, входящего в гавань, - танцы. У борта
какая-то парочка тихо беседует под луной. "Счастливого пути", -
говорит Гума и машет рукой. Они машут в ответ, улыбаясь, удивленные
приветом незнакомого моряка.
Он едет за Ливией, он едет за красивой женщиной, которую подарит
морским просторам. Пройдет немного времени, и тело Ливии станет
пахнуть морем, а волосы станут влажными от брызг соленой воды. И она
станет петь на палубе "Смелого" песни моря. Она услышит о Скорпионе, о
заколдованном коне, узнает истории всех кораблекрушений. Она будет
принадлежать морю, как весло, как парус, как песня.
Норд-ост дует все сильней, наполняя паруса. Лети, "Смелый", лети,
уже видны вдалеке огоньки Баии. Уже слышен барабанный перестук
кандомбле, пенье гитар, протяжные стоны гармоник. Гуме кажется, что он
уже слышит чистый смех, Ливии. Лети, "Смелый", лети!
Шесть месяцев острого стремления к ней, к близости с нею...
"Смелый" резал волны моря и реки, "Смелый" уходил в рейс и
возвращался, а острота не сглаживалась. Гума ничего не мог поделать...
В тот день, когда вернулся из Санто-Амаро, он увидел ее сразу же по
прибытии. Он пошел к ней с Родолфо, как обещал, и она показалась ему
еще красивее - такая робкая, с такими ясными глазами. Родственники, у
которых она жила, дядя и тетка, владельцы овощной лавчонки, все свои
надежды возлагавшие на красоту Ливии (она может сделать хорошую
партию), вначале горячо благодарили Гуму за спасение, но потом стали
глядеть как-то не очень дружелюбно. Они полагали, что Гума зайдет,
выслушает слова благодарности и отправится дальше своей дорогой. К
чему ему, собственно, задерживаться здесь? Чего Ливия может ждать от
простого моряка? И чего могли ждать все они от человека беднее их
самих?
В течение шести месяцев, чтоб увидеть ее и перекинуться
двумя-тремя словами (говорила она одна, он молча слушал), Гуме
приходилось выдерживать косые взгляды дяди с теткой. Взгляды, полные
злобы, недоброжелательства, презрения. Он спас им жизнь, это правда,
зато теперь хотел отнять у них единственную надежду на лучшую жизнь в
будущем. Но несмотря на косые взгляды, на язвительные слова, сказанные
громким шепотом, специально чтоб он их услышал, Гума продолжал
приходить в своем неизменном (и единственном) кашемировом костюме, в
котором он чувствовал себя непривычно и неловко.
На второй неделе знакомства он написал Ливии письмо. Хотел было
показать доне Дулсе, чтоб исправила ошибки и расставила почаще знаки
препинания, да постеснялся и послал как есть:
"Здравствуйте горячо уважаемая Л... С приветом к Вам от всей души
и от всего сердца.
Неумелою рукой но с сердцем полным безумной страсти к тебе пишу я
эти неразборчивые строки.
Ливия любовь моя прошу хорошая моя чтоб ты прочитала внимательно
это письмо чтоб сразу же могла послать ответ, хочу получить ответ
прямой и искренний от твоего сердца моему.
Ливия Вы знаете что любовь вырастает из поцелуя и кончается
горькою слезой? Но милая я думаю что если ты отвечаешь мне взаимностью
у нас будет совсем наоборот, наша любовь уже родилась с первого
взгляда, она должна расти и никогда не кончится правда ведь любимая?
Прошу чтоб ты мне ответила на все вопросы, которые я поставил
понимаешь? Моя хорошая я думаю что твое сердце это золотая раковина
где скрыто слово ДОБРОТА.
Ливия любовь моя я наверно родился уже любя тебя не в состоянии
больше скрывать эту тайну и не в состоянии больше выносить огромную
боль какую чувствует мое сердце объявляю тебе правду обожаемый мой
ангел поняла?
Ты будешь для меня единственной надеждой, я отдаю Вам свое сердце
чтоб идти общей дорогой, боюсь что я тебе не нравлюсь но мое сердце
всегда принадлежало тебе и так и останется до последних секунд моей
жизни.
Когда я увидал тебя мой ангел то потерял рассудок и такая была
моя страсть к тебе что чуть сразу же не сказал наконец настал момент
чтоб ты услыхала мои мольбы.
Я пишу это письмо чтобы облегчить свое сердце, никого на всей
земле не люблю так как Вас, уважаю и желаю чтобы ты была со мною
всегда для нашего вечного счастья.
Прошу окажи мне услугу не показывай никому это письмо чтоб не
могли надсмеяться над сердцем полным страсти а не то я способен
разбить руль любому кто надо мной посмеется. Надеюсь что Вы мне
ответите положительно обещаю твое письмо тоже никому не показывать
пускай это будет между нами наш общий секрет.
Прошу ответить срочно чтоб я знал сочувствуете ли Вы сердцу
полному страсти к тебе, но хочу получить ответ искренный от твоего
сердца моему слышишь?
Твой ответ послужит утешением моему страдающему сердцу понимаешь?
Прошу простить ошибки и плохой почерк.
Вы наверно заметите что с середины письма почерк изменился это я
поменял перо поняла? Писал один дома без помощи и думая о Вас ясно?
Притом примите привет от твоего Г... который так тебя любит и
уважает всем сердцем ясно?
Гумерсиндо
СРОЧНО".
По правде говоря, это письмо чуть не послужило причиной ссоры.
Дело в том, что начал писать его совсем не Гума, а "доктор"
Филаделфио. Впрочем, Филаделфио его почти никто и не называл, а все
знали просто за "доктора". Он писал истории в стихах, песни и АВС из
жизни портового люда. Он был всегда под хмельком, сердился, если кто
ставил под сомнение его ученость (он учился целый год в монастырской
школе), зарабатывал по нескольку монет, составляя разные письма - для
людей семейных, для женихов и невест для случайных любовников. Он
произносил речи на крестинах, на свадьбах, на открытии новых магазинов
и на церемонии спуска на воду новых судов. Его очень любили в порту, и
все помогали ему заработать на еду и на выпивку. Ручка с пером за
ухом, чернильница в кармане, желтый зонт, сверток бумаги, книга о
спиритизме под мышкой... Он всю жизнь читал эту книгу и никак не мог
дочитать до конца, дошел лишь до тридцатой страницы, но считал себя
спиритом. Тем не менее он ни разу не был на спиритическом сеансе,
испытывая истинный ужас перед душами с того света. Каждый вечер он
усаживался где-нибудь вблизи рынка и там, взгромоздившись на
какой-нибудь ящик, писал записки для влюбленных, чьим постоянным
наперсником оставался при всех обстоятельствах, драматически
расписывал болезни и нужду семей лодочников в их письмах к
родственникам и друзьям, составлял даже послания к самой богине
Иеманже от всех своих земляков, не нуждаясь в подсказке, ибо жизнь их
знал назубок. Когда к нему приближался Руфино, он смеялся своим
тоненьким смехом, пожимал плечами и спрашивал:
- Кто твоя новенькая?
Руфино называл имя, "доктор" писал письмо - всегда одно и то же.
Завидев знакомого, предупреждал:
- Элиза сейчас свободна Руфино ее уже бросил.
И писал письмо к Элизе от другого. Так он зарабатывал себе на
жизнь, а главное - на выпивку. Как-то раз он за десять тостанов создал
для Жакеса такой шедевр, что даже сам гордился. Это был акростих,
который Жудит теперь всегда носила на груди:
Покою навек я лишился,
Ранено сердце во мне,
О, навек я с весельем простился,
Сохнет душа по тебе,
Тобою я полон одной,
И до смертного часа я твой.
Написал название - "Прости", сам растрогался, взглянул на Жакеса
влажными глазами и сказал:
- Мне надо было заниматься политикой, парень. Здесь, в порту, мне
выдвинуться невозможно. Я б такие речи произносил - самого Руя за пояс
бы заткнул...
Прочел акростих вслух, переписал своим ровным почерком, получил
десять тостанов и сказал:
- Если после этого она не сдастся, как лодка, опрокинутая бурей,
я верну тебе твои деньги...
- Ну что вы...
- Да, да, верну... Так-то вот...
Когда наступала пора празднеств в Кашоэйре и Сан-Фелисе, он
отправлялся на судне какого-нибудь знакомца моряка писать письма,
сочинять стихи и послания на ярмарках этих городов, куда слава о нем
дошла раньше его.
Он был неизменным наперсником всех. Много раз приходилось ему
сочинять ответ на письмо, сочиненное им же самим. Благодаря его
посредничеству не одна девушка вышла замуж и родился не один ребенок.
И не одной семье, находящейся далеко, приходилось ему сообщать
печальную весть о смерти моряка, не вернувшегося из плавания. В такие
дни он напивался больше обычного.
Гума давно уже ждал часа, когда "доктор" будет свободен (или
менее занят), чтоб поговорить с ним. В тот вечер как раз клиентов было
мало, и "доктор" задумчиво ковырял щепочкой в зубах, ожидая, не
появится ли кто-нибудь, чтоб обеспечить ему ужин. Гума приблизился:
- Добрый вечер, доктор.
- Дай тебе бог попутного ветра, ты пришел вовремя. - "Доктор"
любил говорить правду.
Гума помолчал, не зная, как приступить к делу. "Доктор" подбодрил
его:
- Так что же, место Розы так и будет пустовать? Я могу тебе такую
поэму сочинить, что ни одна не устоит.
- Я за тем и...
- Ну, какую ты рыбку ловишь, а? Как ее зовут?
- Вот этого мне б как раз не хотелось говорить...
"Доктор" обиделся:
- Я здесь двенадцать лет, никто во мне не сомневался. Я нем, как
могила, будто не знаешь?
- Да я не то чтоб сомневаюсь, доктор. Потом я скажу...
- Тебе нужно настоящее любовное письмо, так я уразумел?
- Я хотел, чтоб вы мне набросали письмецо, чтоб там было
сказано...
- Давай к делу: дама какого разряда?
- Очень красивая.
- Я спрашиваю (досадно, он хотел сказать "я осведомляюсь", да
сбился в последний момент), девица она, гулящая женщина или морячка? -
Под "морячками" он понимал мулаточек, подавальщиц из таверны, которые
водили любовь с моряками из чувства, а не из выгоды, не требуя
никакого вознаграждения.
- Это серьезная девушка, я хочу жениться на ней.
- Тогда тебе нужно достать апельсинового цвету и положить в
конверт. И на бумаге чтоб было сердце, пронзенное стрелой, а еще лучше
- два сердца.
Гума отправился разыскивать требуемый материал. "Доктор"
предупредил:
- Такое письмо обойдется в два крузадо. Но зато уж письмо будет -
пальчики оближешь. (Крузадо - старинная бразильская монета.)
Когда Гума вернулся, то "доктор" сразу же принялся составлять
письмо и каждую фразу прочитывал вслух. Вместо имени любимой проставил
лишь букву Л., как просил Гума.
Ссора вышла в том месте письма, где говорилось: "Моя хорошая я
думаю что твое сердце это золотая раковина где скрыто слово доброта".
Ибо первый вариант был, что сердце - это золотой ларец. Гума с ларцом
не согласился и предложил раковину. Ларец - это что-то тяжелое, вроде
сундука. Какая красота в нем? Никакой... Но Гума забыл, что "доктор"
указаний не принимал. И потому ответил, что или будет ларец, или
вообще не будет письма. И кто вообще пишет, он или Гума? Гума вырвал
письмо из рук ученого, отнял также перо с чернильницей и отправился на
свой шлюп. Зачеркнул ларец и заменил раковиной. И сам, испытывая при
этом огромную радость, дописал письмо до конца. Закончив, он добавил
объяснение о перемене почерка и отправился искать "доктора".
- Вот, возьмите за работу...
- Ты не хочешь, чтоб я закончил?
- Нет. Но я плачу... - И Гума вынул из кармана обещанные деньги.
"Доктор" положил заработок в свой карман, захлопнул крышку на
чернильнице и очень серьезно посмотрел на Гуму:
- Ты видал когда-нибудь ларец?
- А как же? Даже возил один на моем судне в Марагожипе...
- И он не был золотой?
- Нет, кованый.
- А золотого ты никогда не видел?
- Никогда.
- Потому ты и говоришь, что раковина лучше. Если б ты видел
золотой ларец, то не спорил бы.
И письмо так и пошло - с раковиной. Гума сам отнес его в тот же
день по адресу. Ливия была дома, он посидел немножко и, уже собравшись
уходить, сказал ей:
- Я хочу дать вам кое-что. Но поклянитесь, что распечатаете,
только когда я уйду.
- Клянусь...
Он отдал письмо и опрометью бросился из комнаты. Остановился
только у самого моря и целую ночь провел без сна, мучительно думая:
что же она ему ответит?
Ответила она устно, когда он пришел на следующий день:
- Я готовлю приданое...
Дядя и тетка, возлагавшие такие надежды на замужество Ливии,
узнав о предложении Гумы, порвали с ним и не велели впредь ступать на
порог их дома. Никто не знал, в каких краях сейчас Родолфо, Гуме не у
кого было искать помощи. Когда не был в плавании, он проводил долгие
часы, блуждая вокруг дома Ливии, только чтоб увидеть ее хоть на
мгновение, перекинуться парой слов, договориться о встрече. Страсть
его все росла. В конце концов он открылся Руфино. Негр поковырял
палочкой землю и сказал:
- Один только вижу путь...
- Какой?
- Украсть девушку.
- Но...
- Ничего такого тут нет. Ты с ней сговариваешься, крадешь ее
ночью, укрываешь на шлюпе, плывешь в Кашоэйру. А как вернешься,
родственникам придется согласиться.
- А с кем я ее оставлю в Кашоэйре?
- С матерью жены Жакеса, - сказал Руфино после короткого
раздумья.
- Пойдем к Жакесу, спросим, как он на это посмотрит.
Жакес женился несколько месяцев тому назад. Теща живет в
Кашоэйре, Ливия, разумеется, может пожить у нее, пока Гума
договаривается с родственниками. Жакес согласился сразу. Гума
отправился бродить вокруг дома Ливии, чтоб улучить минуту и
договориться с ней обо всем.
Ему удалось поговорить с Ливией, она была согласна, она тоже
мучилась. Условились на следующую субботу, поздним вечером, дядя и
тетка идут в гости. Она как-нибудь ухитрится остаться дома одна, тогда
можно будет бежать... Договорившись о побеге, Гума отправился в
"Звездный маяк", где заплатил за выпивку для всех и согласился с
"доктором", что ларец красивей раковины. Золотой, разумеется.
Стоял июнь, месяц южного ветра и частых бурь. В июне Иеманжа
насылает южный ветер, а он жесток. Пересекать залив в эту пору крайне
опасно и бури неистовей, чем когда-либо. Рыбацким лодкам и парусным
шхунам в этот месяц приходится туго. Даже большим пароходам Баиянской
компании угрожает опасность.
Этой ночью июньское небо застлано было тучами, напрасно Иеманжа
приплыла взглянуть на луну. Южный ветер бежал по остывшему, сырому
прибрежью, заставляя людей ежиться, плотней запахивать клеенчатые
плащи. Гума еще засветло занял наблюдательный пост на углу улицы Руя
Барбозы. Руфино был с ним, и оба не сводили глаз с дома Ливии. Они
видели, как дядя с теткой запирали лавку, слышали, как в комнате
хлопотали, видно, убирали со стола, потом старики вышли. Гума вздохнул
с облегчением: ей удалось остаться дома. Он следил за стариками до
самой трамвайной остановки: тетка улыбалась, дядя читал газету...
Тогда Руфино отправился за Ливией. Гума остался на углу. Когда Руфино
постучал, соседка звала Ливию:
- Ты решила остаться, Ливия? Тогда иди к нам, поболтаем...
Ливия увидела Руфино, шепотом сказала ему что-то, потом
обернулась к соседке:
- Тетя забыла сумку... Прислала сказать, чтоб я принесла.
Вошла в комнату, взяла большую сумку и зонт, на прощание еще
сказала соседке:
- Она ждет на трамвайной остановке. Возьму и зонтик, верно, дождь
будет.
Соседка опустила глаза:
- Ручаюсь, что зонтик она захватила... Да, будет дождь.
И Ливия ушла. Они пересекли площадь, спустились на подъемнике, и
перед глазами Ливии лег морской берег, а за ним море, новая ее родина.
Гума закутал ее в клеенчатый плащ, Руфино шел впереди, чтоб уберечь их
от встречи со знакомыми, а дождь уже падал, мелкий и холодный. У
причала Руфино распрощался.
Стоял июнь, месяц южного ветра, когда Ливия сменила город на
море. "Смелый" двинулся против ветра и шел, накренившись, багряный
свет фонаря освещал ему морскую дорогу. Гума склонился над рулем.
Какой-то лодочник у входа в гавань пожелал счастливого плавания.
Первый раз в жизни Ливия ответила на морское приветствие:
- Счастливого плавания...
Южный ветер разметал ей волосы, от моря, исходил какой-то новый,
дотоле ей не ведомый, запах, и в груди ее поднялась радость,
вылившаяся в песню. Ливия приветствовала океан самой прекрасной песней
из всех, какие знала, и так "Смелый" пересек фарватер и вошел в
гавань, ибо прекрасные песни, что поют морячки, усмиряют ветер и море.
Ливия была счастлива, а Гума так уж был счастлив, что впервые в жизни
не заметил надвигавшейся бури. Ливия улеглась у его ног, и волосы ее
развевались на ветру. Песня Ливии постепенно замерла. Оба молчали.
Теперь только южный ветер насвистывал свою песню смерти.
Буря напала внезапно, как обычно случается в июне. Южный ветер
яростно потряс парус "Смелого". Свет фонаря освещал огромные валы у
рейда. За годы, проведенные на море, не раз приходилось Гуме сражаться
с бурями. Некоторые оканчивались трагически для многих рыбаков,
лодочников и капитанов шхун. Раз ночью он один вышел в море, чтоб
привести в гавань заблудший корабль, буря так свирепствовала тогда,
что никто не осмелился... И никогда Гума не знал страха. Смерть была
его давняя знакомая, он привык к ней, привык думать, что и сам
когда-нибудь очутится на дне морском. Сегодня буря обещала быть
сильной, как никогда. Огромные валы кидались друг на друга, словно
состязаясь в силе. Однако Гума встречался и не с такими бурями и
никогда не испытывал страха. Почему же сегодня ему так страшно, почему
он так боится, что ветер загасит фонарь? Первый раз в жизни сердце его
бьется учащенно от страха перед морем. Ливия устала от напряженного
ожидания, в каком жила весь этот день, от опасений, что все может
провалиться в последнюю минуту, если дядя с теткой будут настаивать,
чтоб она пошла с ними в гости, и сейчас растянулась на досках у ног
Гумы, стоящего у руля. Он чувствует ласковое прикосновение ее длинных
волос, раздуваемых ветром. Он тянется к ней всем существом, а ведь
может случиться, что им и не придется быть вместе. Быть может,
поплывут они оба к землям Айока, так и не соединившись. Но час смерти
еще не настал, ибо они еще не насладились друг другом, жажда их еще не
утолена, и лишь когда тела их соприкасаются случайно и мгновенно, они
дрожат от наслаждения, несмотря на бурю, несмотря на неистовый рев
бушующих вокруг гигантских валов. Гума не хочет умирать, не слившись
хоть раз с Ливией, ибо тогда он и после смерти будет обречен все
возвращаться и возвращаться на место своей гибели в поисках своей
желанной.
Ливия, ничего еще не знающая о жизни моря, спрашивает, широко
раскрывая испуганные глаза:
- Оно всегда такое, Гума?
- Если б оно всегда было такое, то человек после второго плавания
оставался бы на дне.
Тогда Ливия поднялась и крепко прижалась к Гуме:
- Мы можем умереть сегодня?
- Не обязательно... "Смелый" хорошее судно. И я кое в чем
разбираюсь... - И, несмотря на бурю, Гума улыбнулся Ливии.
Она еще крепче прижалась к его плечу. И прошептала:
- Если ты думаешь, что мы умрем, то приди ко мне сейчас. Так
будет лучше.
Гуме хочется того же. Тогда они умрут, уже узнав друг друга,
утолив свою жажду. Так они умрут с миром. Но он знает, что, если
удастся пересечь вход в гавань и достичь реки, он будет спасен и
найдет место, куда пристать. Невозможно далее плыть против этого
крепкого ветра, который завладевает судном и отбрасывает его далеко в
сторону. Фонарь еще не погас, спасение еще возможно.
Дождь захлестывает палубу, платье на Ливии промокло и прилипло к
телу, с Гумы ручьями течет вода. Паруса принимают полный удар ветра, и
"Смелый" кренится, хочет выровняться, уступает, почти ложась на бок, и
отойдя от первоначального пути, удаляется все больше и больше в
сторону открытого моря, того, что принадлежит уж не им всем, а
огромным трансатлантикам и черным грузовым гигантам. Гума удерживает
руль из последних сил, все-таки управляя своим судном, вопреки
бешеному натиску ветра и волн. Ливия прижимает голову к его плечу,
умоляя:
- Если нам суждено умереть, приди ко мне...
- Может быть, и выдюжим...
На небе ни одной звездочки, не для любви эта ночь. Даже не слышно
песен с пристани, только ветер воет. Но Гума и Ливия хотят любви этой
ночью, которая может оказаться последней. Все так изменчиво и быстро в
жизни на море. Даже любовь быстра. Волны омывают шлюп и тела людей на
палубе. Трудно сражаться с ними. Все, чего Гуме удалось добиться за
долгие часы, - это удержаться в заливе, не быть унесенным в открытое
море. Вон какой-то корабль входит в гавань. Тысячи огней освещают его.
Волны ломают хребты о его высокий корпус, не властные над ним. Но они
властны над маленьким парусником Гумы, который иногда целиком
скрывается под каким-нибудь гигантским валом. Одна лишь Ливия придает
Гуме силы, только страсть к ней, только желание жить для нее
заставляют его продолжать борьбу. Никогда не испытывал он страха перед
бурей. Сегодня - впервые. Сегодня он боится умереть, так и не узнав
любовь Ливии.
Удалось наконец войти в реку. Но и здесь хозяйничает буря. Фонарь
"Смелого" гаснет под ударом ветра. Ливия попыталась было вновь зажечь,
да истратила целый коробок спичек, так ничего и не добившись. Гума
старается направить судно в маленькую заводь, где можно переждать
шторм. Их мало здесь, в начале реки. Разве что в тех местах, где
вершит свой бег конь-призрак, есть одна такая. Однако для моряка лучше
остаться во власти бури, чем оказаться там и слышать собственными
ушами тяжелый скок белого коня, что был когда-то жестоким феодалом,
владельцем бесчисленных плантаций и рабов Но пути назад у Гумы нет,
они уже вблизи той заводи. Уже ясно различим стук копыт. Вот
промчался, возвращается вспять, вот опять глуше. Конь-привидение
скачет по берегу реки, сумы, набитые камнями, бьют его по спине и
бокам, молнии вырисовывают во тьме его силуэт.
Ливия поет тихонько и неясно, призывая Гуму. Но белый конь скачет
по берегу - лучше отдаться буре и умереть. А как, наверно, хорошо
прижаться телом к девичьему телу Ливии! Молния, разрезав ночь,
высветила невдалеке маленькую заводь.
- Гума, смотри... мы можем пристать вон там.
Зачем думать о белом коне? Он не навлечет на нее смерть этой
ночью, ее венчальною ночью. Белый конь скачет по берегу, но Ливия поет
и не боится его. Она боится бури, южного ветра, грома - гневного
голоса Иеманжи, молнии - гневного блеска ее глаз.
И Гума причаливает шлюп в маленькой заводи...
Много лет спустя один человек (старик, что уж и сам потерял счет
своим летам) говорил, что не только лунные ночи даны для любви. Ночи
бурь и гнева Иеманжи тоже хороши, чтоб любить. Стоны любви - это самая
прекрасная на свете музыка, от которой молнии останавливаются в небе,
преображаясь в звезды, а гигантские валы, набегая на песок прибрежья,
где укрылись влюбленные, разбиваются на мелкие волны. Ночи бурь тоже
хороши для любви, ибо в любви есть музыка, звезды и добро.
Музыка слышалась и в стонах любви, вырывавшихся у Ливии. Звезды
зажглись в ее глазах, и молнии остановились в небе. И гордый крик Гумы
остановил гром. Огромные валы делались кротки, набегая на песчаную
отмель маленькой заводи мелкими волнами. А Гума с Ливией были так
счастливы, и была так хороша эта черная ночь без луны и без звезд, так
полна любви, что конь-призрак почувствовал, как груз упал с его спины
и искупление его заключилось. И никогда уж больше не слышно стало его
бешеного скока по речному берегу близ маленькой заводи, куда с тех пор
моряки водят своих подруг.
Родственники Ливии бушевали, угрожали убить обоих. Гума оставил
Ливию у тещи Жакеса и возвратился в Баию. Родолфо, появившийся
внезапно, как всегда, пытался успокоить стариков, не дал им сообщить в
полицию. Гума встретил его в порту. Родолфо постарался было изобразить
на лице гнев, но это ему не удалось. Он обнял Гуму:
- Я по-настоящему люблю сестру. Ты знаешь, что я человек
поконченный, но она... Я хочу, чтоб она была счастлива. Тебе вот что
надо сделать...
Гума перебил:
- Я хочу жениться на ней. В том, что я украл ее, виноваты
старики... Не соглашались...
Родолфо засмеялся:
- Да я все знаю. Я их уговорю, не сомневайся. У тебя есть деньги,
чтоб все оформить?
Гума рассказал Родолфо все, и на следующий день тот объявил, что
свадьба состоится через двенадцать дней в церкви Монте-Серрат и в
Гражданском управлении. Больше всех обиделся старый Франсиско. Он
всегда находил, что моряк жениться не должен. Женщина - только помеха
в жизни моряка. Однако ничего не сказал: Гума человек взрослый,
вмешиваться в его жизнь негоже. Но одобрять... Нет, он не одобряет. В
особенности теперь, когда жизнь так трудна, тарифы на перевозку грузов
на лодках и парусных судах так низки... Он заявил Гуме, что съезжает с
квартиры:
- Поищу какой-нибудь другой угол, где бросить якорь...
- Вы с ума сошли, дядя... Вы останетесь здесь - и все тут.
- Твоя жена будет недовольна...
- Вы меня почитаете за глупого гусака. В вашем доме кто
распоряжается? Вы или прохожий?
Старый Франсиско пробормотал себе под нос что-то непонятное. Гума
продолжал:
- Она вам понравится. Право, она хорошая.
Старый Франсиско еще ниже склонился над рваным парусом, который
чинил. Вспомнил собственную свадьбу.
- Ну и праздник был, все даже удивлялись. Народ со всей округи
собрался к нам жареную рыбу есть. Даже твой отец явился, а он, знаешь
ведь, бродяга был отчаянный, никто никогда не знал, где его и
искать-то. Не упомню, чтоб столько народу когда собиралось. Разве что
на похоронах жены.
Старик задумался, игла, которой он чинил парус, замерла в
воздухе.
- К чему жениться? Все равно плохо кончится. Я не хочу накликать,
нет, просто к слову пришлось...
Гума знал, что старый Франсиско прав. Тетка умерла от радости,
когда однажды в бурю старый Франсиско вернулся невредимым. Умерла от
радости, но другие умирали почти всегда от печали, узнав, что муж не
вернулся из плавания.
Поэтому доктор Родриго взглянул на Гуму с каким-то испугом, когда
тот пришел приглашать его на свадьбу. Гума хорошо знал, о чем тогда
думал доктор Родриго, так пристально глядя на него. Наверняка
вспоминал день, когда умер Траира, - ушел на корабле или на грозовой
туче своего бреда, все зовя и зовя дочек. Ракел все-таки получила
новую куклу, только не от отца, вернувшегося из плавания. Гума помнил
о нем, помнил и о других. Они остались навеки в море и плыли теперь к
Землям без Конца и без Края. Как может женщина здесь, на побережье,
жить без мужа? Иные стирают белье для семей из верхнего города, иные
становятся проститутками и пьют по ночам в "Звездном маяке". И те и
другие одинаково печальны - печальны прачки, что все время плачут,
печальны проститутки, что все время смеются... Доктор Родриго протянул
Гуме руку и улыбнулся:
- Обязательно приду поздравить тебя... - Но голос его тоже был
печален. Он думал о Траире и о других подобных ему, прошедших через
его врачебный кабинет.
Только дона Дулсе искренне обрадовалась и светло улыбнулась:
- Я знаю, жизнь от этого станет еще труднее. Но ты ее любишь,
правда ведь? Хорошо делаешь, что женишься. Так не может продолжаться
вечно. Я все думаю, Гума... - И в голосе ее звучала детская надежда.
Она ждала чуда, Гума знал это, все на пристани знали. И ее любили,
любили сухое ее лицо, кроткие глаза под очками, худую, начавшую уже
горбиться фигуру. И водили к ней детей на учение - месяцев на пять,
шесть. А она жадно искала того слова, какому надлежит их научить,
слова, способного свершить чудо...
Она крепко сжала руку Гумы и попросила:
- Приведи ее сюда, я хочу на нее посмотреть...
Ну, а "доктор" Филаделфио, сунув пальцы в карман грязной жилетки,
засмеялся довольным, тоненьким смешком:
- Пойдем отметим... - Потом вспомнил: - Если б ты в письме
написал "ларец", она б уж давно согласилась...
И опрокинул стаканчик в "Звездном маяке" за здоровье Гумы и его
суженой. Впрочем, за их здоровье выпила вся таверна. Некоторые были
уже женаты, другие собирались жениться. Большинству, однако, не
хватало духу принести женщину в жертву своей моряцкой жизни.
Ливия посетила дону Дулсе. Дядя с теткой уже помирились с ней и
даже пришли повидаться. Принесли приданое, и все начали готовиться к
празднику. Старый Франсиско совершенно влюбился в Ливию. Он был так
счастлив, что казалось, будто это он сам женится, а не племянник. На
пристани только и разговоров было, что о свадьбе Гумы, которая в конце
концов и состоялась в один из субботних дней, сначала в Гражданском
управлении, куда пошло мало людей (Руфино был посаженым отцом и чуть
ли не полчаса старательно выводил свою подпись под свадебным
контрактом), потом в церкви Монте-Серрат, полной цветов. Тут уж
собрался весь портовый люд, пришедший взглянуть на Гуму и его невесту.
Все нашли, что хороша. Многие глядели на Гуму с завистью. В уголке
собралась компания молодых парней. Там переговаривались:
- Счастливец: пригоженькая... Сам бы женился, коли б мог...
Кругом смеялись:
- Эх, брат, уж поздно...
Кто-то сказал:
- Тебе надо только немножко подождать... Когда она вдовой
останется...
Никто больше не смеялся. Только какой-то старый моряк укоризненно
махнул рукой в сторону парней:
- Такие вещи не говорятся...
Сказавший горькие слова сконфуженно опустил голову, а его недавно
женившийся товарищ почувствовал, как по спине пробежал холодок, словно
вдруг подул свирепый ветер с юга.
Ливия была сегодня такая милая, нарядная, и Гума улыбался, сам не
зная чему. Холодный июньский вечер опускался над городом. Набережная
была уже освещена. Все спустились вниз по холму.
Вечер был сырой и туманный. Люди кутались в плащи, дождь падал
тонкий, колющий. На кораблях, несмотря на ранний еще час, зажглись
огни. Шхуны со спущенными парусами тыкались мачтами в серо-свинцовое
небо... Воды моря словно остановились этим сырым вечером, когда
праздновали свадьбу Гумы. Старый Франсиско дорогою рассказывал Руфино
историю своей собственной женитьбы, и негр, уже немного навеселе,
слушал, отпуская время от времени соленые шуточки. Филаделфио
обдумывал речь, какую вскоре произнесет за праздничным столом, и
заранее предвкушал успех. Дождь падал на свадебную процессию, в то
время как колокола церкви Монте-Серрат возглашали своим звоном
пришествие ночи. Песок прибрежья был изрыт лужами, и какой-то корабль
тихо и печально отплывал от пристани в буро-свинцовую тьму...
Замыкали процессию дона Дулсе и доктор Родриго. Она все говорила
ему что-то, и шли они, взявшись за руки, словно жених и невеста,
только спина у невесты немножко уж сгорбилась и глаза с трудом
различали дорогу, несмотря на очки. А жених все больше молчал и
попыхивал трубкой.
- Маленький Мундиньо умер... - сказал он.
- Бедная мать...
- Я сделал все, что мог. Спасти его было невозможно. Здесь, во
всяком случае. Отсутствие самой примитивной гигиены, никаких
условий...
- Он ходил ко мне в школу. Хорошо учился. Он далеко бы пошел...
- Ну, в школу-то он недолго бы ходил.
- У этих людей нет возможности, доктор. Сыновья нужны им, чтоб
помогать зарабатывать на хлеб. А многие из моих учеников такие
способные, понятливые... Гума, например...
- Вы ведь много лет уже здесь, правда, дона Дулсе?
Она слегка покраснела и отозвалась:
- Да, давно. Грустно все это...
Доктор Родриго не понял как-то, относились ли эти слова к ее
собственной жизни или к жизни всех этих людей. Она шла рядом с ним,
еще больше сгорбившись, и дождь серебрил ей волосы.
- Иногда я думаю... Могла бы я уехать отсюда, найти лучшее
место... Но мне жаль этих людей, они так привязаны ко мне. А мне между
тем нечего сказать им...
- Как так?
- К вам в дом никогда не приходили плакать женщины? Не приходили
вдовы, только что потерявшие мужей? Я видела много свадеб. Шли
счастливые, как сейчас Ливия... А потом они же приходят плакать о
мужьях, оставшихся в море. И мне нечего сказать им...
- Недавно умер человек у меня в кабинете, если только можно
назвать это кабинетом... Умер от раны в животе. Все только о дочерях
говорил... Он был лодочник...
- Нечего мне ответить этим женщинам... Вначале я еще во что-то
верила и была счастлива. Верила, что когда-нибудь бог сжалится над
этими людьми. Но я столько тут навидалась, что теперь уж ни во что не
верю. Раньше я хоть утешать умела...
- Когда я приехал сюда, Дулсе (она взглянула на него, когда он
назвал ее просто Дулсе, но поняла, что он говорит с нею как брат), я
тоже верил. Верил в науку, хотел изменить к лучшему жизнь этих
людей...
- А теперь?
- Теперь мне тоже нечего им сказать. Говорить о гигиене там, где
есть только нищета, говорить о лучшей жизни там, где есть только
опасность смерти... Я потерпел поражение...
- А я жду чуда. Не знаю какого, но жду.
Ливия издали улыбалась доне Дулсе. Доктор Родриго поднял воротник
плаща.
- Все ждете чуда... Это доказывает, что вы еще сохранили веру в
своего бога. А это уже кое-что. А я уже потерял веру в мою богиню.
До них донесся гул голосов, смех старого Франсиско в ответ на
какую-то шутку Руфино, счастливый возглас Гумы, ласковый зов Ливии.
Тогда дона Дулсе сказала:
- Не от небес жду я чуда. Слишком много молилась я святым, а люди
вокруг все умирали и умирали. Но я сохранила веру, да. Я верю в этих
людей, Родриго. Какой-то внутренний голос говорит мне, что это они
свершат чудо, которого я жду...
Доктор Родриго взглянул на дону Дулсе. Глаза у учительницы были
добрые и улыбались. Он подумал о своих не получившихся стихах, о своей
науке, в которой потерпел провал. Он взглянул на людей, весело
смеющихся вокруг них. Шкипер Мануэл только что выпрыгнул на берег со
своего "Вечного скитальца" и теперь прямо бежал об руку с Марией
Кларой навстречу новобрачным. И громко смеялся, извиняясь за
опоздание. Доктор Родриго сказал:
- Какое чудо, Дулсе? Какое чудо?
Она шла рядом, какая-то преображенная, похожая на святую. Кроткие
глаза были устремлены куда-то далеко в море. Чей-то ребенок подбежал к
ней, и она положила ему на голову свою высохшую руку:
- Чудо, да.
Ребенок шел теперь рядом с ними в сырой темноте приближающейся
ночи. Дулсе продолжала:
- Вы никогда не воображали себе это море, полное новеньких шхун с
белоснежными чистыми парусами, которые вели бы в плавание моряки,
получающие за свой труд столько, сколько он действительно стоит? Не
воображали моряцких жен, будущее которых было бы обеспечено, детей,
что ходили бы в школу не шесть месяцев, а все годы, нужные для
обучения, а некоторые наиболее способные могли бы поступить в
институт? Представляли ли вы себе посты спасательной службы на реках,
у входа в гавань... Иногда я воображаю себе все это...
Ребенок шел рядом, слушая молча и не понимая. Ночь была
промозгла, море словно остановилось. Все было печально и бледно. Голос
доны Дулсе продолжал:
- Я жду чуда от этих людей, Родриго... Чуда, похожего на луну,
что сейчас осветит эту зимнюю ночь. Все проясняя, все делая
прекрасным... Родриго посмотрел на луну, всходившую на небе. Луна была
полная и все освещала, преображая море и ночь. Вспыхнули звезды, песня
раздалась со стороны старого форта, люди как-то выпрямились, свадебный
кортеж стал вдруг наряден. Ночная сырость исчезла, уступив место
сухому холодку. Луна осветила ночь над морем и берегом.
Шкипер Мануэл шел в обнимку с Марией Кларой, и Гума улыбался
Ливии. Доктор Родриго посмотрел на чудо ночи. Ребенок улыбался луне.
Доктору Родриго показалось, что он понял, о чем говорила Дулсе. Он
взял ребенка на руки. Это правда. Когда-нибудь эти люди совершат чудо.
И он сказал тихонько, обращаясь к Дулсе:
- Я верю.
Процессия входила в дом Гумы. Старый Франсиско кричал:
- Входи, народ, входи, этот дом для всех. В тесноте, да не в
обиде...
Когда доктор Родриго и дона Дулсе прошли мимо, он спросил:
- О чем говорили? Свадьба-то скоро?
Доктор Родриго отозвался:
- Мы говорили о чуде.
- Время чудес миновало... - засмеялся Франсиско.
- Нет еще, - горячо отрезала дона Дулсе. - Но чудеса теперь иные.
Луна входила в дом через окошко.
Жеремиас принес гитару. Другие взяли с собой гармоники, и негр
Руфино тоже прихватил свою шестиструнную. Голос Марии Клары был
сегодня достоянием всех. И стали петь песни моря, начав с той, где
говорится, что ночь дана для любви (и при этом все улыбались Гуме и
Ливии), и кончив той, где говорится о том, как сладко умереть в море.
Танцы, конечно, тоже были, И все хотели танцевать с невестой и пили
тростниковую водку, и ели сласти, присланные доной Дулсе, и фасоль с
вяленым мясом, приготовленную старым Франсиско под руководством
Руфино. И смеялись, смеялись, забыв и о сырости ночи, и о южном ветре,
особенно хлестком в июне. Скоро праздник святого Жоана, и костры
зажгутся по всему побережью, потрескивая в темноте.
Гума ждал, чтоб все ушли. С тех пор как он увез тайком Ливию и
обнимал ее на песке заводи в ту бурную ночь, ему ни разу не удалось
даже дотронуться до нее. А с того дня его чувство к ней все росло и
росло. Он смотрел на гостей, которые смеялись, пили, разговаривали.
Совершенно очевидно, что рано домой не собирался никто. Шкипер Мануэл
рассказывал длинную историю о какой-то драке:
- Он ему как даст... И туда его, и сюда. От бедняги только мокрое
место осталось...
Попросили Руфино спеть. Ливия положила голову на плечо Гуме.
Франсиско потребовал тишины. Руфино тронул струну своей гитары, голос
его разнесся по комнате:
Деньги миром управляют,
управляют миром деньги...
Песня продолжалась. Голос певца был стремителен, как волны в
бурю. Строки набегали одна на другую:
Яму вырою большую,
мачту в яме укреплю
и за косы пришвартую
ту, которую люблю.
И взглядывал на мулаточек, сидевших у стены, и пел именно для
них, ибо ему нравилось менять женщин, а женщинам нравилось лежать с
ним на песке прибрежья. Про него говорили в порту, что он "лодочник
хоть куда, как ударит веслом, так и причалит где надо"... А на это
большая ловкость нужна...
Нас учили наши предки,
как кому невесту брать
ягуару - прыгать с ветки,
а змее - в земле копать.
Эдак тот, а этот так,
ведь любовь-то не игрушка,
и пастух, коль не дурак,
знает, где его телушка.
Все вокруг смеялись, мулаточки так и стреляли глазами в Руфино.
Шкипер Мануэл сопровождал задорную мелодию, крепко ударяя себя
ладонями в колени. Руфино пел:
Как узнать, кому печальней,
коли дурь-то забрала:
бьет кузнец по наковальне,
ну, а поп - в колокола.
И теребил струны гитары. Ливии нравились задорные куплеты, хотя
она, конечно, предпочла бы какую-нибудь из старых песен про море из
тех, что пелись только в здешних местах. В них говорится про такое
важное... Руфино заканчивал:
Я боль зубная сердца,
я послан за грехи,
я жечь могу без перца,
пеку я без муки.
Скажу, чтоб не забыли:
я - куст, моя любовь,
вчера меня срубили,
я нынче зелен вновь.
После всех этих хвастливых намеков Руфино полошил наконец гитару
в уголок и стал стрелять глазами по сторонам:
- Спляшем, что ли, народ, день-то сегодня радостный...
Пошли плясать. Гармоники просто изнемогали, сходясь и расходясь,
как волны. Шкипер Мануэл рассказывал доктору Родриго:
- Дни идут суровые, доктор. Плавать сейчас куда как опасно. Этой
зимой много людей останется у Жанаины...
Шум праздника разносился до самой пристани. Пришел сеу Бабау,
принес несколько графинов с вином, это был его подарок новобрачным. На
сегодня он закрыл "Звездный маяк", все равно никто не придет, весь
народ здесь собрался... И сразу же подхватил даму и закружился по
зале. Самба набирала силу, пол гудел под ногами, отстукивающими
чечетку. Потом пела Мария Клара. Ее голос проникал в ночи, как голос
самого моря. Гибкий, глубокий... Она пела:
Ночь, когда он не вернулся,
ночью печали была...
Голос ее был нежен, несмотря на силу. И, казалось, исходил из
самой глуби морской и, как и тело ее, пахнул сырым песком прибрежья и
соленой рыбой. Все в комнате сидели тихо и слушали полные внимания.
Песня, которую она пела, была их исконной песней, песней моря:
Он ушел в глубину морскую,
чтоб остаться в зеленых волнах.
Старая морская песня. Почему говорится в них всегда о смерти, о
печали? А между тем море такое красивое, вода такая синяя, луна такая
желтая. А слова и напевы этих песен такие печальные, от них хочется
плакать, они убивают радость в душе.
Отправлюсь я в земли чужие,
не плачьте, друзья, надо мной,
уплыл туда мой любимый
под зеленой морскою волной.
Под зеленой морскою волной уплывут когда-нибудь все эти моряки.
Мария Клара поет, ее любимый тоже проводит все дни и ночи на море. Но
она и сама родилась на море, возникла из моря и живет морем. Поэтому
песня эта не говорит ей ничего нового, и сердце ее не сжимается от
страха, как сердце Ливии, от слов этой песни:
Под зеленой морскою волной...
Зачем Мария Клара поет эту песню на ее свадьбе? - думает Ливия.
Словно она - враг ей. И сам голос ее подобен подступающей буре.
Старуха, много лет назад потерявшая мужа, плачет в углу. Морская волна
уносит все... Море и дарит и отымает. Все дарит, все отымает. Мария
Клара поет:
Отправлюсь я в земли чужие...
К этим землям отправятся в свой день все моряки. К далеким землям
Айока... Гума улыбается, полуоткрыв губы. Ливия опускает голову ему на
плечо, впервые чувствуя страх за жизнь любимого. А если он
когда-нибудь останется в море, что будет с нею? В песне поется, что
все уйдут в свой день "под зеленой морскою волной".
Ливия дышит прерывисто. Песня кончается. Но в холодной июньской
ночи голос этой песни не молкнет, достигая набережной, кораблей, шхун
и рыбачьих лодок. И стучит и стучит в сердца всех людей, собравшихся
сегодня в доме Гумы. И чтоб забыть голос этой песни, все снова
пускаются в пляс, а кто не пляшет, тот пьет.
Манека Безрукий подымает большую чашу и кричит:
- Пейте! Крепка проклятая!
Дождь падает за окошком. Тучи скрыли луну.
Ее свадебным маршем была печальная песня горя. Песня, заключающая
суть всей жизни моряков. "Ушел, чтоб остаться в волнах" - так могла
сказать любая женщина, провожая мужа в плавание. Печальная судьба у
Ливии. Брат то появляется, то исчезает, никто не ведает, зачем и куда.
И на свадьбу не явился, вот уж несколько дней, как от него ни слуху ни
духу. Поначалу взял на себя все - ходил оформлять бумаги, назначил
день, а потом вдруг исчез. Никто ничего не знал о его жизни - где он
жил, чем питался, где мог приклонить свою красивую голову с
напомаженными волосами. А муж каждый день уходит, чтоб остаться в
зеленых морских волнах. Когда-нибудь вместо него вернется мертвое
тело, а душа отправится в плавание к бескрайним землям Айока.
Ливия снимает платье и утирает слезы. Она не чувствует сейчас
страстных желаний. А ведь жажда ее еще не утолена, ведь только раз
привелось ей изведать близость своего мужчины. И вот сегодня они
поженились, сегодняшняя ночь дана для любви, а она, Ливия, грустна,
печальная песня погасила ее любовную жажду. Отныне она всегда, обнимая
Гуму, будет представлять себе его мертвое тело, прибитое волной к
берегу. Отныне всегда будет она помнить, что муж уходит, чтоб остаться
в волнах. Она смогла бы радостно предаться ему, и полной была бы ее
любовь, лишь если бы они могли бежать отсюда сегодня же ночью. Бежать
подальше от этого моря, в сухие, суровые земли сертанов, бежать от
злого волшебства зеленых этих волн. Там мужчины и женщины думают о
море спокойно. Они не знают, что море - жестокий властелин, убивающий
людей. В одной из песен, что сложены в сертанах, рассказывается про
жену Лампиана, знаменитого разбойника, властвующего в тех местах, -
как она плакала, что у нее нет платья цвета дыма из пароходных труб.
Пароходы бывают только на море, а в море никто не властвует, даже
такой храбрец, как Лампиан. Море само - властелин, хозяин человеческих
жизней, море таинственное и страшное. И все, что существует на море и
у моря, окружено тайной... Ливия сжимается в комочек под одеялом и
плачет. Теперь уж навсегда дни ее будут полны страдания. Она каждый
день будет смотреть, как Гума уезжает, чтоб остаться в зеленых морских
волнах. (Сертаны - внутренние засушливые районы Бразилии.)
И тогда она принимает внезапное решение. Она всегда будет уходить
в море вместе с ним. Она тоже станет морячкой, будет петь песни моря,
узнает все ветра, все рифы в излучинах реки, все тайны морских глубин.
Ее голос тоже будет смирять бури, как голос Марии Клары. Она будет
стремительно плыть на "Смелом" в состязаниях на быстроту и побеждать
силою своих песен. И если когда-нибудь ее муж уйдет в глубины вод, она
пойдет с ним, и они отправятся вместе в вечное плавание к неведомым
землям Айока...
Гума из-за двери спрашивает, можно ли уже войти. Ливия вытирает
глаза и отвечает, что можно. Свет свечи вянет, расцветают рассветные
вздохи и слова. Он уйдет, чтоб остаться в волнах, поплывет по зеленому
морю. Она громко плачет и прижимается к нему, и оба торопятся, словно
смерть уже кружит над их брачной постелью, словно они в последний раз
вместе.
Внезапно врывается рассвет, и Ливия клянется, что сын ее не будет
моряком, не будет плавать под парусом шхун и шлюпов, не будет слушать
печальных песен, не будет любить предательское это море... Какой-то
густой мужской голос поет, что море - ласковый друг. Нет, сын Ливии не
будет моряком. У него будет спокойная жизнь, и жена его не будет
страдать, как страдает Ливия. Он не уйдет, чтоб остаться в зеленых
волнах.
Внезапно врывается рассвет, и Гума думает, что сын его будет
моряком, и научится управлять шхуной искусней, чем шкипер Мануэл,
сумеет вести лодку еще лучше, чем Руфино, и когда-нибудь отправится в
плавание на огромном корабле к берегам далеким, дальше, чем те, где
бродит Шико Печальный. Море - ласковый друг, сын будет плавать по
морю.
Внезапно врывается рассвет, и снова расцветают рассветные вздохи
и слова.
ТРУДНЫЙ ПУТЬ В БОЛЬШОЕ МОРЕ
Трудные месяцы наступили на пристани. Рейсов мало, платежи за
фрахт низкие, многим пришлось добывать себе на жизнь рыбной ловлей.
Гума был в хлопотах, таскал прибывавшие грузы, брался за любую, хоть
самую опасную работу. Ливия почти всегда сопровождала его. Верная
обету, данному самой себе, она старалась постоянно быть возле мужа. Но
как-то, во время бури, Гума признался ей, что плавание становится
много труднее, когда она рядом. Он, никогда не знавший страха, впадал
в панику, едва заметив, что небо хмурится, а они все еще в море. Он
боялся за жизнь ее, Ливии, и потому испытывал ужас перед ветром и
бурей. Тогда Ливия стала ездить с ним реже - только когда он бывал в
духе. Случалось, что он и сам ее звал, увидев по глазам, что ей этого
хочется:
- Хочешь со мной, чернявая?
Он называл ее чернявой, когда говорил особенно ласково. Она
радостно бежала одеваться и на вопрос, почему она так любит
сопровождать его, никогда не отвечала правды: что опасается за его
жизнь. Говорила, что ревнует, боится, что в каком-нибудь порту он
изменит ей с другой. Гума улыбался, попыхивая трубочкой, и говорил:
- Глупа ты у меня, чернявая. Я плыву и думаю о тебе.
Когда она не ездила, когда оставалась дома со старым Франсиско,
слушая морские были, истории о кораблекрушениях, утопленниках, сердце
ее полнилось ужасом. Она думала о том, что муж сейчас в море, на
ветхом суденышке, во власти всех ветров. Кто знает, вернется ли он,
или труп его прибьет к берегу волна и положат его в сеть и понесут
домой случившиеся рядом люди. А вдруг вернется с впившимися в мертвое
тело, шевелящимися раками, как произошло с Андраде, историю которого
так часто рассказывает старый Франсиско, покуда чинит паруса, а Ливия
помогает ему.
Никогда не смогла она позабыть ту песню, что пела Мария Клара в
день ее свадьбы: "Он ушел в глубину морскую, чтоб остаться в зеленых
волнах". Каждое утро смотрела она на то, как муж уходит навстречу
смерти, и не могла удержать его, и не осмеливалась сказать хоть слово.
Другие женщины равнодушно провожали своих мужей. Но они родились здесь
и не раз видели, еще детьми, как волна выбрасывала на песок мертвое
тело - их отца, дяди или старшего брата. Они знали, что так оно и
бывает, что это закон моря. Есть на побережье нечто худшее, чем
нищета, что царит в полях и на фабриках, - это уверенность в том, что
смерть подстерегает в море в нежданную ночь, во внезапную бурю. Жены
моряков знали это, это была предначертанная им судьба, вековой рок.
Никто не восставал. Плакали отцы и матери, узнав, что сын погиб, рвали
на себе волосы жены, узнав, что муж не вернется, уходили в забвение в
непосильную работу или проституцию, покуда сыновья не вырастут и... не
останутся в свой час на дне морском... Они были женщинами с берега
моря, и сердца их были покрыты татуировкой, как руки их мужчин.
Но Ливия не была женщиной с берега моря. Она пришла сюда из любви
к мужчине. И она страшилась за него, искала средств спасти его или,
если то невозможно, погибнуть с ним вместе, чтоб не плакать о нем.
Если ему суждено утонуть, то пусть утонет и она... Старый Франсиско
знает много былей, но только о море. День-деньской рассказывает он
разные истории, но истории эти полны бурь и кораблекрушений. С
гордостью рассказывает он о гибели отважных - шкиперов и лодочников,
которых знал лично, и сердито сплевывает каждый раз, когда на язык ему
приходит имя Ито, который, чтоб спастись самому, загубил четверых,
плывших на его шхуне. Ибо ни один моряк не вправе поступать подобным
образом. Таковы истории, рассказываемые старым Франсиско. Они не
утешают сердце Ливии, напротив, прибавляют в нем горечи, заставляют не
раз глаза ее наполняться слезами. А у старого Франсиско всегда
наготове новая история, повествующая о новой беде. Ливия часто плачет,
еще чаще убегает и запирается в доме, чтоб не слышать. И старый
Франсиско, уже дряхлеющий, продолжает рассказывать самому себе, скупой
на жест и на слово.
Потому-то Ливия так обрадовалась, когда Эсмералда, подружка
Руфино, поселилась по соседству с ними. Это была красивая мулатка,
крепкая, полногрудая, крутобедрая, лакомый кусочек. Много говорила,
еще больше смеялась грудным заливчатым смехом и не слишком была
озабочена судьбой Руфино, влюбленного в нее без памяти. Болтала все
больше о нарядах и помадах, о туфельках, что недавно видала в витрине,
- красота! - но Ливия привязалась к соседке: та отвлекала ее от
мрачных мыслей о смерти. Мария Клара тоже иногда заходила, но Мария
Клара, родившаяся и выросшая на море, больше всего на свете любила
море, разве что шкипера Мануэла еще больше. Пределом ее желаний было,
чтоб он оставался самым искусным моряком по всей округе, чтоб оставил
ей сына и отважно ушел в плавание с Иеманжой, когда пробьет его час.
После классов заглядывала иногда и дона Дулсе перекинуться
несколькими словами с Ливией. Но забавнее всех была Эсмералда, с ее
дразнящим голосом, с ее задорно покачивающимися бедрами, с ее пустой,
веселой болтовней. Целый-то день она была занята: что-то у кого-то
брала взаймы, носилась в дом и из дому (старый Франсиско только
облизывался да подмигивал ей, а она смеялась: "Гляньте-ка: старая
рыба, а туда же..."), все время о чем-то спрашивала. Руфино плавал на
своей лодке вверх и вниз по реке, проводил одну ночь дома, а неделю
неизвестно где, она и значения этому не придавала. Как-то раз, застав
Ливию в слезах, она сказала ей:
- Глупая ты, как я погляжу. По мужику плачешь... Пускай они там с
другими бабами возятся, нам-то что? Ты посмотри на меня, я и внимания
не обращаю...
- Да я не о том совсем, Эсмералда. Я боюсь, что он из
какого-нибудь плавания не вернется, умрет...
- А мы все разве не умрем? Я вот не тревожусь. Этот умрет -
другого найду.
Ливия не понимала. Если Гума умрет, она умрет тоже, ибо, кроме
того, что она не перенесет тоски по нем, не создана она для тяжелой
работы, а тем паче не способна торговать собой, чтоб заработать на
хлеб.
Эсмералда не соглашалась. Если Руфино умрет, она найдет другого,
жизнь продолжается. Да он у нее и не первый. Первый утонул, второй,
настоящий муж, ушел грузчиком на корабле да и остался в чужих краях, а
третий удрал с другой на своей лодке. Она не горевала особенно-то,
жизнь продолжалась. Разве знала она, какая судьба ждет Руфино и что
ему в один прекрасный день может в голову взбрести? Ее занимали новые
платья, ладно сидящие на ее крутых бедрах, брильянтин, чтоб
распрямлять жесткие завитки волос, яркие туфельки, чтоб бегать по
пляжу. Ливия смеялась до слез над ее болтовней. Эсмералда развлекала
ее... Лучшей соседки и представить себе невозможно. Ей, Ливии, просто
повезло. Иначе как проводила бы она свои дни? Слушая нескончаемые
истории старого Франсиско о трагедиях на море, думая о страшном дне,
когда муж утонет?
Но стоило лодке Руфино пристать к берегу, как Эсмералду словно
подменяли. Она чинно усаживалась у его ног и кричала Ливии:
- Соседка, мой негр приехал. Сегодня у нас праздничный обед...
Руфино был от нее без ума, кое-кто даже говорил, что она его
ворожбой держит, что будто бросала в море записочки самой Иеманже,
чтоб его приворожить, Руфино водил ее в кино, иногда они ходили
танцевать в "Океанский футбольный клуб", куда спортивные команды и не
заглядывали, но где зато по субботам и воскресеньям устраивались танцы
для портового люда. Они казались счастливой парой, и Ливия частенько
завидовала Эсмералде. Даже когда Руфино напивался и всех задевал,
Эсмералда не боялась за него. Сердце ее было спокойно.
Иногда Ливия ждала Гуму в тот же день и так и не уходила с
пристани, стараясь различить средь показавшихся вдали парусов парус
"Смелого". Появится какой-нибудь похожий - и уж сердце ее так и рвется
от радости. Она попросила Руфино вытатуировать ей на округлившейся
руке, пониже локтя, имена Гумы и "Смелого". И смотрела то на свою
руку, то на море, пока не убедится, что ошиблась, что это вовсе не
"Смелый" там вдали, а чужая какая-то шхуна. Значит, надо ждать
следующего паруса. Вон там на горизонте показался один, уж не он ли? И
надежда вновь наполняла ее сердце. Нет, опять не он. Все еще не он...
Случалось ей проводить целый вечер, а иногда и часть ночи в подобном
ожидании. И когда становилось ясно, что сегодня Гума не вернется, что
его что-то задержало, она возвращалась домой с тяжестью на сердце.
Напрасно Эсмералда говорила ей:
- Плохие вести сразу доходят. Если б случилось что-нибудь, мы б
уж знали...
Напрасно старый Франсиско старался отыскать в усталой памяти
такие случаи, когда люди задерживались в море, иной раз на целый месяц
пропадет человек, а потом вдруг и явится... Не помогало... Она не
спала, ходила взад-вперед по комнате, часто слыша (дома примыкали друг
к другу) любовные стоны Эсмералды в объятьях Руфино... Она не спала, и
в голосе ветра чудился ей голос Марии Клары, поющий:
Ночь, когда он не вернулся,
ночью печали была,
навеки волна морская
любовь у меня отняла.
Отправлюсь я в земли чужие,
не плачьте, друзья, надо мной,
уплыл туда мой любимый
под зеленой морскою волной.
А если сон одолевал ее и усталость бросала плашмя на постель, то
ей снились кошмары, полные диких видений, буйные бури и тела
утопленников в шевелящихся черных раках.
И успокаивалась она, только заслышав знакомый голос, наполненный
радостью, громко зовущий сквозь полночь иль раннее утро:
- Ливия! Ливия! Погляди-ка, что я тебе привез...
Но почти всегда первой глядела Эсмералда, которая мигом
появлялась на своем пороге, крепко обнимала Гуму, прижимаясь полными
грудями и спрашивая:
- А мне ты ничего не привез?
- Тебе Руфино привозит...
- Этот-то? Да он и сухого рыбьего хвоста не привезет...
Ливия выходила, глаза ее еще блестели от недавних слез, глядела
на Гуму и даже и не верила, что это действительно он, - столько раз
видела она его мертвым в своих снах...
Как-то в пятницу Гума предложил ей:
- Хочешь поехать со мной, чернявая? Я везу черепицу в поселок
Мар-Граде, Мануэл тоже едет. Так что можно будет побиться об заклад...
- Насчет чего? - спросила Ливия, боясь, что тут пахнет ссорой.
- Да мы с ним как-то состязались в быстроте, он выиграл. Давно. А
вот теперь посмотрим... Ты станешь петь, чтоб "Смелому" бежать
легче...
- Разве это поможет? - улыбнулась она.
- А ты не знала? Ветер помогает тому, кто лучше поет. В тот раз
он выиграл только потому, что Мария Клара пела красивую песню. А у
меня петь было некому.
Он подхватил жену за талию, заглянул ей в глаза:
- Почему ты плачешь, когда меня нету дома, а?
- Неправда. Кто сказал?
- Эсмералда. Старый Франсиско тоже намекал. Ты скрываешь
что-нибудь?
Глаза у нее были без тайны. Чистые и ясные, как вода, светлая
вода реки. Ливия провела рукой по буйным волосам Гумы:
- Я бы, если б от меня зависело, каждый раз ездила с тобою...
- Ты за меня боишься? Я умею править рулем...
- Но все гибнут...
- Там тоже, - и он указывал вдаль и вверх, на город, - там тоже
умирают. Ничего не поделаешь.
Ливия обняла его. Он бросил ее на постель, зажал ей губы своими,
торопясь, как всегда, как торопятся люди, не знающие, что будет с ними
завтра. Но на пороге показалась Эсмералда, прервав своим веселым
голосом ласку Гумы.
Гума вышел, отправился грузить шлюп. Под вечер Ливия оделась
понарядней и поехала по подъемной дороге в верхний город - навестить
дядю с теткой. Она была в хорошем настроении. Завтра она отправится с
Гумой в плавание в поселок Мар-Гранде, что означает Большое Море, а
оттуда дальше, в Марагожипе. Так что они целых два дня проведут вместе
и почти все время - на море.
Вечером Гума вернулся. Он знал, что Ливии нет дома, потому и не
торопился особенно. Опрокинул рюмочку в "Звездном маяке" (сеу Бабау
хлопотал у стойки, прихрамывая, "доктор" Филаделфио писал письмо для
Манеки Безрукого и пил стакан за стаканом) и теперь стоял, беседуя с
Эсмералдой, которая, вся разрядившись, выставилась в окошко.
- Не хотите ли зайти, сосед?
- Да не беспокойтесь, соседка.
Она приглашала, улыбаясь:
- Зашли бы. В ногах правды нет.
Он уклонился. Да право же, не стоит, он уж почти дома, Ливия,
верно, скоро придет... Эсмералда сказала:
- Вы кого боитесь? Ее или Руфино? Так Руфино в отъезде...
Гума взглянул на мулатку с испугом. Правда, она его обнимала при
встрече, терлась грудью, позволяла себе всякие вольности, но такой
прямой атаки еще не было. Она просто предлагалась, тут не могло быть
сомнений... Мулатка хоть куда, слов нет. Но она любовница Руфино, а
Руфино ему друг, и он не может предать ни Руфино, ни Ливию. Гума решил
сделать вид, что не понял, но этого не понадобилось. Ливия шла вверх
по улице. Эсмералда сказала:
- В другой раз...
- Ладно.
Теперь ему хотелось любовной встречи, не состоявшейся утром,
потому что помешала Эсмералда, не состоявшейся сейчас, потому что
помешала дружба. Дружба или Ливия, идущая вверх по улице? Гума
задумался. Эсмералда была лакомый кусочек. И предлагалась ему. Она -
любовница Руфино, а Руфино друг Гумы, оказавший ему немало услуг,
бывший шафером на его свадьбе. А потом, у Гумы есть жена, самая
красивая женщина в порту, зачем ему другая? У него есть женщина,
которая его любит. Зачем ему пышущее здоровьем тело Эсмералды? Бедра
Эсмералды колышутся, как корма корабля, мулатские крепкие груди словно
готовы выпрыгнуть из-под платья. И у нее зеленые глаза, странно:
мулатка - и зеленые глаза... Что сделал бы Руфино, если б Эсмералда
изменила ему с Гумой? Убил бы обоих наверняка, уплыл бы потом в море
без компаса, Ливия приняла бы яд... А глаза у Эсмералды зеленые...
Ливия зовет:
- Иди, обед простынет.
Пусть стынет... Он увлекает ее в комнату.
- Ты сначала мне что-то покажи.
Она вся так и трепещет в постели. У него есть жена, самая
красивая женщина в порту. Он никогда не предаст друга.
Утро выдалось великолепное, солнечное. Октябрь в этих местах -
самый красивый месяц. Солнце еще не печет, утра светлые и свежие,
ясные утра, без тайны и угрозы. С ближних парусников до самой базарной
площади доносится запах спелых плодов. Сеу Бабау покупает ананасы,
чтоб настаивать на них вкусную водку для посетителей "Звездного
маяка". Толстая негритянка проходит по базару с подносом, уставленным
банками со сладкой маниоковой кашей - мингау. Другую окружили любители
маисового повидла - мунгунсы. Оба блюда, как и все баиянские
лакомства, сложны для приготовления, требуют большого кулинарного
искусства... Старый Франсиско купил два ломтя маниокового мармелада...
Какая-то шхуна отчаливает, окончив погрузку. Рыбачьи челны
отправляются на лов, обнаженные по пояс рыбаки хлопочут над сетями.
Рынок ожил, весь в движении, люди выходят из вагонов подъемной дороги,
соединяющей два города - верхний и нижний.
Шкипер Мануэл уже на пристани. Мария Клара, в красном ситцевом
платье, с лентой в волосах, стоит подле. Старый Франсиско, всегда
просыпающийся с петухами, подходит к ним:
- Уезжаешь, хозяин?
- Жду Гуму. Молодожены, они, знаете, запаздывают...
- Да уж он почти полгода как женился...
- А можно подумать, что вчера, - сказала Мария Клара.
- Живут дружно, это главное.
Легки на помине. У Ливии глаза еще опухшие от бессонной ночи.
Гума идет, устало свесив руки, уверенный, что проиграет состязание.
- Считай, что ты выиграл, Мануэл. Я пошел ко дну.
Ливия бесхитростно рассмеялась, сжала руку мужа:
- Все будет хорошо...
Шкипер Мануэл лукаво приветствовал:
- Ты не торопишься...
Ливия теперь разговаривала с Марией Кларой, которая заметила:
- Ты очень располнела. Обрати внимание.
- Да нет, это я так.
- Смотри, скоро новый шкипер появится!
Ливия покраснела:
- Не шкипер и не рыбак. Мы об этом пока не думаем... Денег едва
хватает на двоих.
Мария Клара призналась:
- Вот то-то и есть. Но я говорю Мануэлу: если ты хочешь, то я
тоже согласна. Боюсь только, вдруг девчонка выскочит...
Шкипер Мануэл был уже на своей шхуне. Старый Франсиско направился
было к группе мужчин, беседующих возле базара. Но остановился, чтоб
посоветовать Гуме:
- Как будете обходить остров, постарайся обогнать Мануэла. Он в
таких маневрах не слишком силен.
- Хорошо, - отозвался Гума, заранее уверенный, что проиграет.
На базаре люди держали пари. Многие ставили на шкипера Мануэла,
но Гума, после спасения "Канавиейраса" и в особенности после случая с
Траирой (о котором в порту все-таки узнали), тоже имел своих
восторженных почитателей.
"Вечный скиталец" двинулся первым. Ветер был попутный, он сразу
вырвался вперед, взяв курс на волнолом. Гума только что поднял якорь
"Смелого". Ливия держалась за канаты паруса. Со стороны волнолома
донесся голос Марии Клары:
Лети, мой парусник, лети
с попутным ветром по пути...
У волнолома "Скиталец" дожидался "Смелого". Оттуда начиналось
состязание. Шлюп Гумы пошел вперед, совершая первые ловкие маневры. На
пристани стояла группа людей в ожидании. "Смелый" почувствовал ветер,
паруса надулись, он скоро достиг "Скитальца". И началось. Шкипер
Мануэл шел немного впереди, Мария Клара пела. Гума ощущал какую-то
тяжесть во всем теле, руки у него ослабли. Ливия подошла и улеглась у
его ног. Ветер разносил голос Марии Клары:
Лети, мой парусник, лети
с попутным ветром по пути.
Ливия тоже запела. Только музыка может смирить ветер. Только
музыкой можно подкупить море. А голоса, предлагаемые сейчас в дар морю
и ветру, были глубоки и красивы. Ливия пела:
Плыви, мой парусник, плыви,
попутный ветер обгони.
...Песня торопит бег "Смелого". Утро роняет блики света на
сине-голубую воду. Гума мало-помалу перестает чувствовать томную
усталость, оставшуюся в теле после ночи любви, и в приливе энергии
налегает на руль, чтоб помочь ветру. "Смелый" идет теперь почти
вровень со "Скитальцем", и шкипер Мануэл кричит Гуме:
- А ну, чья возьмет, парень?
Остров Итапарика видится зеленым пятном на синем фоне моря. Оно
такое гладкое у берега, что кажется, можно различить камни на дне.
Наверно, и раковины есть. Из-за раковины Гума когда-то чуть не
рассорился с Филаделфио. Когда "доктор" хотел в письме к Ливии
поставить "ларец", а Гума - "раковину"... Он был тогда так влюблен в
Ливию. А теперь разве нет? Только что он сжимал ее в объятиях и
сейчас, в этом состязании на быстроту со шкипером Мануэлем, совсем не
думает о том, чтоб выиграть, а лишь о том, чтоб все это быстрее
окончилось и он смог снова сжать ее в объятьях. Голос Марии Клары
разносится у входа в гавань. Гума зовет:
- Иди ко мне, Ливия.
- Только после того, как ты выиграешь состязание.
Она знает, что, если сейчас выполнить его просьбу, он позабудет
обо всем - о руле, о состязании, о добром имени "Смелого" - и будет
помнить только о любви.
"Смелый" и "Скиталец" идут параллельно. Ветер подгоняет их, люди
направляют их бег. Кто придет первым? Никто не знает. Гума всей силой
налегает на руль, Мария Клара поет. Ливия тоже возобновляет прерванную
было песню. И "Смелый" бежит весело. Но шкипер Мануэл вдруг низко
склоняется над рулем и выводит "Скитальца" вперед.
Труден путь в Большое Море. Сейчас придется огибать остров. Здесь
высокий риф. Шкипер Мануэл бросает судно вправо, чтоб выиграть
расстояние. Он уже довольно далеко впереди "Смелого". Но Гума
использует маневр, которого никто не мог ожидать, - "замкнутый круг"
над самым рифом, скрипнув даже по камню килем своего судна. И когда
шкипер Мануэл возвращает шхуну на прежний путь, оказывается, что
"Смелый" уже намного обогнал его, и рыбаки на пляже поселка Мар-Гранде
приветствуют восторженными криками героя, совершившего только что на
их глазах подвиг ловкости и храбрости. Никогда еще не приходилось им
видеть, чтобы судно развернулось над самым рифом. Один только старый
рыбак отнесся недоверчиво...
- Он выиграл, но второй моряк опытнее. Опытный моряк не должен
так вот бросать свое судно прямо на камни.
Однако молодежь не хочет слушать столь разумных доводов и
страстно рукоплещет Гуме. Старик, ворча, уходит. "Смелый" причаливает
к берегу. Сразу вслед за ним причаливает и "Скиталец", и шкипер Мануэл
смеется:
- Все равно. Тогда я выиграл. Теперь ты. В такой вот день видно,
кто упрямее. - Он кладет руку на плечо Гумы: - Но помни: то, что ты
сегодня сделал, два раза не делается. На второй раз судно разобьется о
риф.
Гума не согласен:
- Да это ж легче легкого...
Ливия улыбается, Мария Клара шутит:
- А будущий шкипер тоже будет так поступать?
Ливия затуманивается и думает, что ее сын никогда так поступать
не будет. И все-таки она восхищается смелым маневром, считая его
достойным настоящего мужчины.
Гума и шкипер Мануэл принялись за разгрузку. Потом они снова
нагрузят свои суда и направятся в Марагожипе, откуда привезут сигары и
табак. Они решили вместе совершить это путешествие, раз уж подвернулся
такой удачный случай в эти мертвые месяцы.
Мария Клара и Ливия идут в поселок по улице, продолжающей собою
пляж. Дома здесь с соломенной кровлею, и у торговцев рыбой, проходящих
мимо, штаны засучены по-колено, а руки сплошь покрыты татуировкой.
Здесь, в Мар-Гранде, устраиваются кандомбле, пользующиеся громкой
славой, и здешних жрецов знают и уважают по всей округе. В дачной зоне
есть даже каменные дома. Но земля эта - земля рыбаков. Каждое утро на
рассвете выходят они на лов на своих челнах и возвращаются к вечеру,
часов после четырех. Когда-то они возили дачников из столицы штата,
теперь для этого есть катер.
Стоит октябрь, и еще властвует зюйд-вест. Но когда настает лето,
подует "свежак", как его здесь называют. Дачники, приехав на катере,
должны все же, прежде чем высадиться на берег, отдавать себя в руки
рыбаков, чтоб миновать рифы, к которым катер не отваживается подойти.
Только маленькие парусники ловко лавируют среди них. И нигде буря так
не свирепствует, как в этой зоне...
Обо всем этом думает Ливия, медлительным шагом пересекая пляж -
главную здешнюю улицу. Мария Клара идет молча, только иногда вдруг
нагнется и подымет какую-нибудь раковину:
- Я из них сделаю рамку для фотографий...
Внезапно им навстречу выходят цыгане. Раньше еще прошел мимо них
какой-то растрепанный мужчина, ударяя в бубен. Теперь идут четыре
женщины. Грязные, говорящие на незнакомом языке, кажется, спорящие о
чем-то между собою. Мария Клара предлагает:
- Погадаем по руке?
- Зачем? - противится Ливия, которой страшно.
Но Мария Клара бежит к цыганкам, не обращая внимания на слова
подруги. Старуха цыганка берет руку Марии Клары, договариваясь
заранее:
- Дай четыреста рейсов, и отгадаю все: настоящее, прошедшее и
будущее.
Другая цыганка подходит к Ливии:
- Хочешь, прочту твою судьбу, красавица?
- Нет.
Мария Клара подзадоривает:
- Дашь одну монетку, глупенькая, и все будешь знать...
Ливия протягивает цыганке руку и монетку. Старуха тем временем
говорит Марии Кларе:
- Вижу дальнюю дорогу. Много ездить будешь. Много детей
народишь...
- Пусть Жанаина услышит тебя... - смеется Мария Клара.
Цыганка, рассматривающая ладонь Ливии, беременная, с длинными
серьгами в ушах, повествует:
- С деньгами у тебя туго, дальше хуже пойдет. А мужа твоего ждет
большая удача, но только через большую опасность.
Ливия перепугана. Цыганка говорит:
- Прибавь десятку, и я отведу опасность.
У Ливии больше нет денег, она просит Марию Клару ссудить ей
десять тостанов. И отдает цыганке, проворчавшей в ответ нечто
невнятное. И гадалки уходят, возобновив на своем непонятном языке
прерванный спор. Мария Клара смеется:
- Она сказала, что я нарожу дюжину детей. Мануэл будет недоволен.
Я-то бы хотела. Посадила б всю дюжину на "Скитальца"... и по волнам.
А в ушах у Ливии все звучат слова цыганки: "...через большую
опасность..."
Какая еще опасность грозит Гуме? В какую еще историю он
впутается? Цыганка, наверно, имела в виду опасности жизни моряков
вообще... Господи, нет конца этому пляжу!.. Подруги возвращаются
наконец на пристань. Оба парусника уже разгружены. Надо готовить обед,
жарить рыбу. Гума и шкипер Мануэл радостно смеются, вдыхая воздух,
пропитанный вкусным запахом жареной рыбы. И, поев, снова принимаются
грузить свои суда.
Уже поздно ночью выходят в море. Оно все так же спокойно на
трудном пути из Большого Моря. Со своих шхун они еще слышат музыку и
песни на чужом и странном языке цыган. Красивая музыка, только
грустная... Гума обращается к Ливии:
- Поют, словно горе накликают...
Ливия опускает голову и молчит. По небу рассеяны звезды без
числа.
Труден путь из Большого Моря. Потому суда идут осторожно,
тщательно обходя рифы. Здесь многие уж погибли. В одну бурную ночь
остались навеки у этих рифов Жакес и Раймундо, его отец. Это Гума
нашел их тела, когда возвращался из Кашоэйры. Старик крепко сжимал
мертвой рукой край рубахи сына, видно, в минуту гибели пытался его
спасти. И Жудит стала вдовой в ту ночь. Ливия до рассвета ждала Гуму
на пристани. Это Руфино сообщил, что погиб Жакес. Ливия не забыла, что
теща Жакеса приютила ее, когда она бежала из дому с Гумой. И вот рифы
Большого Моря отняли навек Жакеса и его отца, и волны сомкнулись над
ними... Труден путь в Большое Море, повторяемый каждый день десятками
судов...
Цыганка сказала Ливии, что скоро мужу ее будет грозить опасность.
Какой еще трудный морской путь придется пройти Гуме? Жизнь Ливии уже
так переполнена отчаянием и тоской... Когда Гума уходит в плавание,
сердце Ливии предчувствует одну лишь беду. Мария Клара даже сказала,
что это дурная примета, что так, не ровен час, и накличешь беду.
Труден путь в Большое Море, поглотивший уже стольких людей!
Когда-нибудь настанет черед Гумы, но раньше - так сказала цыганка -
ему предстоят еще опасные труды. Неужто он станет теперь плавать
только по этому опасному пути? Кто знает, что может в жизни случиться?
Даже цыганки не знают, умеющие слушать голос моря, приложив ухо к
раковине. И те не знают.
Ливия привезла с собою горсть цветных ракушек и сделала из них
рамку, в которую вставила карточку Гумы, ту, где он снят в саду возле
подъемной дороги и стоит, прислонясь к дереву. Другую, на которой
виден также "Смелый", она запечатала в конверт и послала Иеманже,
прося богиню не отнимать у нее отца ее будущего ребенка. Ибо Мария
Клара оказалась права. Есть уже новое существо, которое ворочается
пока еще в животе Ливии, существо, что когда-нибудь - такова судьба -
тоже отправится в плавание по трудному пути в Большое Море.
Прежде всего Ливия отправилась к доктору Родриго. Он всегда
настаивал, что беременным женщинам следует быть под наблюдением врача.
Платы за это он не требовал, а роды от этого проходили легче. На
пристани говорили также, что доктор не отказывался "посылать
ангелочков на небо" и что немало абортов было делом рук доктора
Родриго. Как-то раз дона Дулсе даже спросила его, правда ли это.
- Правда, Эти бедняжки живут черт знает как, голодают, мужья их
гибнут в море. Вполне понятно, что многие из них не хотят иметь больше
детей. Иногда у них есть уже восемь, а то и десять. Они приходят ко
мне, просят, что ж мне делать? Ведь не посылать их к знахаркам... Это
еще хуже...
Дона Дулсе хотела возразить, но смолчала. Действительно, он
прав... Она опустила голову. Слишком хорошо она знала, что не из злого
умысла делали себе аборты эти женщины. Если они решались на такое, то
затем лишь, чтоб дети потом не росли заброшенными, не толклись
сызмальства по портовым кабакам, не вынуждены были наниматься
грузчиками с восьми лет. Денег в семье всегда не хватало. Доктор
Родриго был прав, делая аборты. Просто в ней, доне Дулсе, говорил ее
неудовлетворенный инстинкт материнства. Ей все представлялись
белокурые головки, детские нестройные голоса... Доктор Родриго сказал:
- Надо видеть жизнь такой, как она есть... Я не жду чудес...
Она улыбнулась:
- Вы правы. Но как это жаль...
Однако Ливия пошла к доктору Родриго не затем, чтоб вырвать из
чрева свое дитя. Она пошла, чтоб узнать, не ошиблась ли, так как
беременность была, видно, еще недолгая и ничего еще не было заметно.
Доктор Родриго подтвердил беременность и сказал, что готов наблюдать
ее и помочь родам. Она, наверно, не захочет делать аборт? Доктор
Родриго прекрасно знал, что здешние женщины никогда не хотят лишиться
первого своего ребенка.
Гума приехал в полночь. Бросил в угол вещи, показал Ливии
подарок, что привез ей. Он выиграл целый отрез материи, побившись об
заклад с одним матросом с корабля компании "Ллойд Бразилейро",
стоявшего на якоре в порту. Корабль был на ремонте, и матрос решил,
пока суд да дело, съездить навестить семью в Кашоэйру. Он отправился
на шлюпе Гумы, готовящемся к отплытию (это было три дня назад) и
держал с Гумой пари, что тот не обгонит баиянский пароход, идущий тем
же курсом. Гума выиграл пари.
- Это был риск, но уж больно мне материя приглянулась. Он ее
одной своей знакомой вез...
Ливия сказала:
- Ты больше никогда не должен так поступать.
- Да это не страшно...
- Нет, страшно.
Тут только Гума обратил внимание, что она сегодня как-то особенно
серьезна.
- Что с тобой, а?
- У меня тоже есть для тебя подарок.
- А какой же?
- Уплати залог...
Он вынул из кармана двести рейсов.
- Оплачено.
Тогда она вплотную подошла к нему и сообщила:
- У нас будет ребенок...
Гума соскочил с кровати (он начал уж было раздеваться) и кинулся
к двери. Ливия удивилась:
- Ты куда же?
Он принялся стучать к Руфино. Стучался долго. Услышал бормотание
внезапно разбуженных соседей и смутился, что так вот врывается в чужой
дом среди ночи, только чтоб сообщить новость, что у Ливии будет
ребенок... Услышал сонный голос Руфино, вопрошавший:
- Кто там?
- Свои. Это Гума.
Руфино отворил. Вид у него был заспанный. Эсмералда появилась в
дверях комнаты, кутаясь в простыню.
- У вас случилось что-нибудь?
Гума не знал теперь, что и сказать. Глупо просто, разбудил
людей... Руфино настаивал:
- Так что же произошло, брат?
- Ничего. Я только что приехал, зашел повидать вас.
Руфино не понимал:
- Ладно, раз ты не хочешь рассказывать...
- Да так, глупости...
Эсмералда не отступала:
- Да развяжи язык, парень. Снимайся, что ли, с якоря...
- У Ливии будет ребенок...
- Как? Сейчас? - испугался Руфино.
Гума злился на свое чудачество.
- Да нет же. Через некоторое время. Но сегодня она убедилась, что
беременна.
- А-а...
Руфино глядел в ночь, открывшуюся за порогом. Эсмералда помахала
Гуме на прощание:
- Я завтра задам перцу этой обманщице. Отрицала ведь.
Руфино вышел вместе с Гумой. Шел задумчивый.
- Пойдем в "Маяк", выпьем по глотку.
Выпили. Не по глотку, конечно. В таверне была масса народу -
матросы, лодочники, проститутки, грузчики из доков. Уж под утро,
совсем опьяневший, Руфино предложил:
- Друзья, выпьем по стаканчику за одно событие, которое
произойдет у моего дружка Гумы.
Все обернулись. Наполнили стаканы. Какая-то тощая женщина подошла
к Гуме спросить:
- А в чем дело-то?
Она не была пьяна. Гума сказал:
- У моей жены будет ребенок.
- Как здорово!.. - И женщина выпила немножко пива из стоящего на
столике стакана. Потом вернулась в свой угол к мужчине, нанявшему ее
на эту ночь. Но прежде улыбнулась Гуме и сказала:
- Желаю ей счастья.
Домой пришли только под утро.
Гума сообщил новость всем своим знакомым, а их было много,
рассеянных по всему побережью. Некоторые дарили ему подарки для
будущего сына, большинство просто желало счастья. Эсмералда тоже зашла
на следующий день утром. Наболтала с три короба, бурно поздравляла
соседку, уверяя, что так уж рада, так рада, словно это с нею самой
приключилось... Но когда Ливия вышла в кухню приготовить кофе для них
троих, завела речь весьма рискованную:
- Только мне вот все не попадается такой мужчина, от которого у
меня б был ребенок. И в этом мне не судьба. С моим не выйдет... - Она
сидела, скрестив ноги, из-под короткого платья виднелись крепкие
ляжки.
Гума засмеялся:
- Вам надо только сказать Руфино...
- Ему-то? Да к чему мне сын от негра? Я хочу сына от кого-нибудь
побелей меня, чтоб улучшить породу...
И лукаво взглядывала на Гуму, словно чтоб указать, что именно от
него она хочет иметь ребенка. Зеленые ее глаза указывали на то же, ибо
уставились на Гуму с каким-то странным, словно зовущим выражением. И
губы ее были полуоткрыты, и грудь дышала тяжко. Гума с минуту был в
нерешимости, потом почувствовал, что не может дольше сдерживаться. Но
тут же вспомнил о Руфино, вспомнил и о Ливии:
- А Руфино?
Эсмералда вскочила как ужаленная. Крикнула Ливии в кухню:
- Я ухожу, соседка. У меня дел по горло. Заскочу попозже.
Лицо ее пылало яростью и стыдом. Она быстро вышла и, проходя мимо
Гумы, бросила отрывисто:
- Тряпка...
Он остался сидеть, закрыв лицо руками. Чертова баба... Во что бы
то ни стало хочет его погубить. А Руфино-то как же? По-настоящему,
надо было бы обо всем рассказать Руфино. Но он, может статься, и не
поверит даже, еще, пожалуй, поссорится с ним, ведь Руфино по этой
мулатке с ума сходит. Не стоит ему говорить. Но от нее надо подальше,
нельзя предавать друга. Самое худшее было то, что, когда она так вот
его соблазняла, когда глядела на него зелеными своими глазами, он
забывал обо всем - и о Руфино, оказавшем ему столько услуг, и о
беременной Ливии, и только одно существовало для него - гибкое тело
мулатки, крепко торчащие груди, томно раскачивающиеся бедра, жаркое
тело, зовущие его, зеленые глаза, зовущие его. Морские песни
повествуют о людях, тонущих в зеленых морских волнах. Зеленых, как
глаза Эсмералды... И он чувствовал, что тонет в этих зеленых глазах.
Она желает его, она влечет его. Тело ее неотступно раскачивается перед
глазами Гумы. А она вот назвала его тряпкой, решила, что он не в силах
повалить ее, заставить ее стонать под его лаской. О, он ей покажет, на
что способен! Она еще застонет в его руках! Зачем думать о Руфино,
если она любит его, Гуму? А Ливия никогда не узнает... Но вот она,
Ливия. Входит с чашкой кофе и испуганно смотрит на разгоряченное лицо
Гумы:
- У тебя что-нибудь случилось?
Она беременна, живот ее округляется с каждым днем. Там, в этом
круглом животе, уже существует их сын. Она не заслуживает быть
обманутой, преданной. А бедный Руфино, такой добрый, всегда рядом, с
самого детства? Из чашки кофе словно смотрят зеленые глаза Эсмералды.
Груди ее, как крутые холмы, напоминают груди Розы Палмейрао. Надо
написать Розе Палмейрао, думает Гума, сообщить, что скоро у него
родится сын... Но мысль его неотступно возвращается к одному и тому
же. Фигура Эсмералды стоит у него перед глазами. И Гума спасается
бегством: спешит на пристань, где сразу же нанимается привезти груз
табака из Марагожипе, хоть и придется идти туда порожняком.
Из Марагожипе Гума направился в Кашоэйру. Ливия напрасно ждала
его в тот день. Долго оставалась она на пристани - весь день и всю
ночь. Эсмералда тоже ждала. Она не сумела его забыть, слишком уж
нравился ей этот моряк с почти белой кожей, о смелости которого
рассказывали чудеса. Она еще более упорно желала его потому, что Ливия
была так счастлива с ним, так трогательно заботилась о муже. Эсмералда
почти ненавидела Ливию за то, что она так непохожа на нее, ей хотелось
ранить Ливию в самое сердце. Эсмералда знала, что добьется своего, и
готова была на все для этого. Она решила соблазнить его всеми правдами
и неправдами...
Гума вернулся только через два дня. Эсмералда ждала его у окошка:
- Пропал совсем...
- Я уезжал. Табак возил.
- Твоя жена уж думала, что ты ее бросил...
Гума неловко засмеялся.
- А я думала, ты испугался...
- Испугался чего?
- Меня.
- Не пойму отчего.
- А ты уже забыл, как однажды меня обидел? - Мощные груди сильнее
обнажились в вырезе платья.
- Там посмотрим...
- Что посмотрим-то?
Но Гума снова бежал. Еще мгновенье - и он вошел бы к ней и даже
не дал бы открыть дверь в комнату, тут же, на пороге, все бы и
произошло.
Ливия ждала его:
- Как ты задержался. Почти неделю ехал до Марагожипе и обратно.
- Ты думала, я сбежал?
- С ума сошел...
- Так мне сообщили.
- Кто ж это выдумал?
- Эсмералда сказала.
- А ты теперь раньше, чем идти домой, заводишь беседу с соседкой,
а?
Хуже всего, что в голосе ее не было ни капли гнева. Только
грусть. И вдруг он, сам не зная почему, принялся горячо защищать
Эсмералду:
- Она шутила. Мы поздоровались, она так ласково о тебе говорила.
Похоже, что она тебе настоящий друг. Это радует меня, потому что я
очень люблю Руфино.
- Зато она его ни вот столечко не любит.
- Я заметил... - мрачно отозвался Гума. (Теперь он уже не помнил,
что Эсмералда была почти что его любовницей. Он сердился на нее за то,
что она не отвечает на чувство Руфино.) - Я заметил. Когда Руфино
поймет это, случится что-нибудь страшное...
- Не надо говорить дурно о людях... - сказал старый Франсиско,
входя в комнату. Он пришел пьяный, что случалось редко, и привел к
обеду Филаделфио. Он встретил "доктора" в "Звездном маяке" без гроша в
кармане и, пропив с ним вместе то немногое, что было у него самого,
привел обедать.
- Найдется паек еще на одного? Едок-то что надо.
Филаделфио пожал руку Гуме:
- Что ни дашь, подойдет. Так что успокойся и воды в огонь, то
бишь в бобы, не подливай. - И сам охотно засмеялся своей шутке. Другие
тоже засмеялись.
Ливия подала обед. Вечная жареная рыба и бобы с сушеным мясом. За
обедом Филаделфио рассказал историю с письмом, которое писал Ливии по
поручению Гумы, и о ссоре из-за раковины и ларца. И спросил Ливию:
- Правда, ларец лучше?
Она приняла сторону Гумы:
- Раковина красивей, я нахожу...
Гума был смущен. Ливия не знала раньше, что письмо он писал в
сотрудничестве с "доктором". Филаделфио настаивал:
- Но ведь ларец золотой. Ты видала когда-нибудь золотой ларец?
Когда старики ушли, Гума принялся объяснять Ливии историю с
письмом.
Она бросилась ему на шею.
- Молчи, негодный. Ты никогда не любил меня...
Он схватил ее на руки и понес в комнату. Она запротестовала:
- После обеда нельзя.
Однако в полночь Ливии стало очень плохо. Что-то с ней вдруг
сделалось, ее тошнило, казалось, она сейчас умрет. Попробовала вызвать
рвоту, не удалось. Каталась по кровати, ей не хватало воздуху, живот
весь болел.
- Неужто я рожу раньше времени?
Гума совсем потерял голову. Опрометью бросился вон, разбудил
Эсмералду (Руфино был в отъезде) сильными ударами в дверь. Она
спросила, кто стучится.
- Гума.
Она мигом отворила, схватила его за руку, стараясь затащить в
дом.
- Ливия умирает, Эсмералда. С ней делается что-то ужасное. Она
умирает.
- Что ты! - Эсмералда уже вошла в комнату. - Сейчас иду. Только
переоденусь.
- Побудь с ней, я пойду за доктором Родриго.
- Иди спокойно, я побуду.
Заворачивая за угол, он еще видел, как Эсмералда быстро шлепала
по грязи к его дому.
Доктор Родриго, одеваясь, попросил рассказать подробнее, что
произошло. Потом утешил:
- Наверно, ничего серьезного... Во время беременности такие вещи
бывают...
Гуме удалось разыскать старого Франсиско, бросившего якорь за
столиком "Звездного маяка" и попивавшего винцо с Филаделфио,
рассказывая свои истории оказавшимся рядом морякам. В углу слепой
музыкант играл на гитаре. Гума разбудил Франсиско от сладкого
опьянения.
- Ливия умирает.
Старый Франсиско вылупил глаза и хотел бежать немедля домой. Гума
удержал его:
- Нет, доктор уже пошел туда. Вы отправьтесь в верхний город и
позовите ее дядю с теткой. Скорей пойдите.
- Я хотел бы видеть ее. - Голос у старого Франсиско пресекся.
- Доктор говорит, что, может быть, обойдется.
Старый Франсиско вышел. Гума направился домой. Шел со страхом. То
пускался бегом, то замедлял шаг, в ужасе думая, что, может, она уже
умерла и сын с нею вместе. Вошел в дом крадучись, как вор. Дверь
комнаты была приоткрыта, оттуда слышались голоса. При свете
керосиновой лампы он видел, как Эсмералда быстро вышла и сразу же
вернулась, неся таз с водой и полотенце. Он стоял, не решаясь войти.
Потом в дверях показался доктор Родриго. Гума нагнал его в коридоре:
- Как она, доктор?
- Ничего опасного. Хорошо, что сразу позвали меня. У нее мог быть
выкидыш. Теперь ей нужен покой. Завтра зайдите ко мне, я дам для нее
лекарство.
Глаза у Гумы сияли, он улыбался:
- Значит, с ней ничего плохого не будет?
- Можете быть спокойны. Главное - ей сейчас нужен отдых.
Гума вошел в комнату. Эсмералда приложила палец к губам, требуя
тишины. Она сидела на краю постели, гладя Ливию по волосам, Ливия
подняла глаза, увидела Гуму, улыбнулась:
- Я думала, умру.
- Врач говорит, что все в порядке. Тебе теперь уснуть надо.
Эсмералда знаком показала ему, чтоб вышел. Он повиновался,
чувствуя к Эсмералде иную какую-то нежность, без прежней страсти. Ему
хотелось погладить ее по волосам, как она только что гладила Ливию,
Эсмералда была добра к Ливии.
Гума вышел в темную переднюю. Там висела сетчатая койка, он лег и
разжег трубку. Послышались мягкие шаги Эсмералды, выходящей из комнаты
с лампой в руках. Она шла на цыпочках, он мог поклясться в этом и не
видя ее. И бока ее покачивались на ходу, как корма корабля. Хороша
мулатка, ничего не скажешь... Отнесла лампу в столовую. Сейчас
подойдет к нему... Он чувствует ее приглушенный шаг. И страсть снова
овладевает им, постепенно, трудно. Прерывистое дыхание Ливии слышно и
здесь. Но шаги Эсмералды приближаются, заглушая своим мягким шумом
шумное дыхание Ливии.
- Уснула, - говорит Эсмералда.
Вот она прислонилась к веревкам гамака.
- Напугались здорово, а?
- Вы устали... Я разбудил вас...
- Я от всего сердца...
Она уселась на край гамака. Теперь ее крепкие ноги касались ног
Гумы. И вдруг она бросилась на него плашмя и укусила в губы. Они
сплелись в одно тело в качающемся гамаке, и все произошло сразу же, он
не успел подумать, не успел даже раздеть ее. Гамак заскрипел, и Ливия
проснулась:
- Гума!
Он оттолкнул Эсмералду, крепко вцепившуюся в него. Побежал в
комнату. Ливия спросила:
- Ты здесь?
- Конечно.
Он хотел погладить ее по волосам... Но ведь рука его еще хранит
тепло тела Эсмералды... Он отдернул руку. Ливия попросила:
- Ляг со мной рядом...
Он стоял в растерянности, не зная, что сказать. В передней
Эсмералда ждала... Тут он вспомнил о дяде с теткой.
- Спи. Я жду твоих родственников, за ними пошел Франсиско.
- Ты их напугал, верно.
- Я и сам испугался.
Снова он протягивает руку к ее волосам и снова отдергивает руку.
Снова вспоминает об Эсмералде, и какой-то комок встает у него в горле.
А Руфино? Ливия повернулась к стене и закрыла глаза. Он возвратился в
переднюю. Эсмералда раскинулась в гамаке, расстегнула платье, груди
так и выпрыгнули наружу. Он остановился, глядя на нее какими-то
безумными глазами... Она протягивает руку, зовет его. Тащит его на
себя, прижимается всем телом. Но он сейчас так далек от нее, что она
спрашивает:
- Я такая невкусная?..
И все начинается вновь. Он теперь как сумасшедший, не знает
более, что творит, не думает, не вспоминает ни о ком. Для него
существует лишь одно: тело, которое он прижимает к своему телу в этой
борьбе не на жизнь, а на смерть. И когда они падают друг на друга,
Эсмералда говорит тихонько:
- Если б Руфино видел это...
От этих слов Гума приходит в себя. Да, это Эсмералда здесь с ним.
Жена Руфино. А его собственная жена спит, больная, в соседней комнате.
Эсмералда снова говорит о Руфино. Но Гума ничего не слышит более.
Глаза его налиты кровью, губы сухи, руки ищут шею Эсмералды. Начинают
сжимать. Она говорит:
- Брось эти глупости...
Это не глупости. Он убьет ее, а потом отправится на свидание к
Жанаине в морскую глубину. Эсмералда уже готова закричать, когда вдруг
Гума слышит голоса родственников Ливии, разговаривающих со старым
Франсиско. Он выпрыгивает из гамака. Эсмералда поспешно оправляет
платье, но тетка Ливии уже заглядывает в переднюю, и глаза ее полны
ужаса. Гума опускает руки, теперь беспомощные.
- Ливии уже лучше.
ИХ БЫЛО ПЯТЕРО, ПЯТЕРО МАЛЬЧИШЕК
Как только Ливии стало лучше, он уехал. Бежал от Эсмералды,
которая теперь преследовала его, назначала свидания на пустынном
пляже, угрожала скандалом. Но бежал он не так от Эсмералды, как от
Руфино, который через несколько дней должен был вернуться с грузом для
ярмарки, открывающейся в будущую субботу.
Он нанялся плыть в Санто-Амаро, задержался там. Вопреки своим
привычкам ходил по кабакам, почти не бывая на стоящем у причала судне,
откуда он так любил всегда восторгаться луной и звездами. Ему все
представлялся Руфино и ужас на его лице, если б он узнал... Гуме
казалось, что все теперь погибло, пропало. Несчастная жизнь... С
детства лежит на нем проклятье. Однажды приехала мать, а он ждал
гулящую женщину, и он пожелал свою мать как женщину. Он в тот день
хотел броситься в море, уплыть с Иеманжой в бесконечное плавание к
морям и землям Айока. И, право, было б лучше, если б он тогда убил
себя. Ни для кого бы не было потери, только старый Франсиско, может,
погрустил бы, да скоро б утешился. Велел бы вытатуировать имя Гумы у
себя на руке, рядом с именами четырех своих затонувших шхун, и
прибавил бы историю детской его жизни ко многим историям, которые
знал: "Был у меня племянник, да Жанаина к себе взяла. Одной светлой
ночью, когда полная луна стояла на небе. Он был еще ребенок, но уж
умел управлять судном и таскал мешки с мукой. Жанаина пожелала забрать
его..."
Так стал бы рассказывать старый Франсиско историю Гумы... Но
теперь все по-другому. Он не может даже убить себя, нельзя же покинуть
Ливию - одну, в нищете, с ребенком под сердцем. Да и какую он теперь
оставит по себе память, чтоб старый Франсиско мог сложить историю?..
Мой племянник предал друга, сошелся с женщиной, принадлежащей другому,
при этом человеку, сделавшему ему много добра. А потом бросился в воду
из страха перед этим другом, оставив жену голодать, с ребенком в
животе... старый Франсиско добавит, что племянник пошел в свою
родительницу, которая была гулящая, что ж тут еще скажешь... И не
велит вытатуировать его имя рядом с именами четырех своих шхун. Старый
Франсиско будет стыдиться его.
Гуме нельзя теперь смотреть на луну. Он нарушил закон пристани. И
вовсе не страх перед Руфино терзает его. Если б Руфино не был его
другом, все было бы иначе. А сейчас Гуму мучает стыд, стыд перед
Руфино и перед Ливией. Ему хотелось бы убить Эсмералду, а потом
умереть - бросить "Смелого" на рифы и погибнуть вместе с ним.
Эсмералда соблазнила его, он и не вспомнил о друге своем Руфино, о
больной Ливии, спящей в соседней комнате. А тетка Ливии заглянула в
двери и смотрела так испуганно, с подозрением, он никогда уж не сможет
глядеть старухе в глаза. Может быть, она и не догадалась ни о чем, она
так благодарила Эсмералду за то, что та ухаживала за Ливией. И хуже
всего, что Ливия была теперь исполнена благодарности к Эсмералде,
просила купить для нее подарок, а мулатка пользовалась этим и не
вылезала от них, следя за каждым шагом Гумы. Он все чаще уходил из
дому, зачастил в "Звездный маяк", пил так, что об этом уже стали
поговаривать на пристани. А она преследовала его, и каждый раз как ей
удавалось заговорить с ним наедине, спрашивала, когда и где они
встретятся, говорила, что знает такие пустынные места на пляже, куда
никто не ходит. Гума и сам знал эти места. Не одну молоденькую мулатку
или негритянку увлекал он, бывало, на пустынные пески пляжа в ночь
полнолуния. А Эсмералду он не хотел вести туда, не хотел больше ее
видеть, хотел убить ее и потом убить себя. Но нельзя было оставить
Ливию с ребенком в животе. Все случилось нечаянно, страсть - слепая. В
то мгновенье он не помнил ни о Руфино, ни о Ливии - ни о ком и ни о
чем на свете. Он видел только смуглое тело Эсмералды, мощные груди,
зеленые ее глаза, такие блестящие. А теперь вот надо страдать. Днем
раньше, днем позже, придется встретиться с Руфино, говорить с ним,
смеяться, обнимать его, как обнимают друга, сделавшего тебе много
добра. И за спиной Руфино Эсмералда будет делать ему знаки, назначать
свидание, улыбаться.
А Ливия, которая так беспокоится, когда он уезжает, так боится за
него? Ливия тоже не заслужила ничего подобного. Ливия страдала из-за
него, в животе ее рос сын от него. Он слышал тогда из комнаты трудное
дыханье Ливии и, однако, ни о чем этом не вспомнил. Эсмералда
прислонилась к гамаку, он только видел тело ее и томные зеленые глаза.
Потом он хотел убить ее. Если б родственники не пришли, он задушил бы
ее тогда.
Ночь над поселком Санто-Амаро светла. По речным берегам тянутся
вдаль тростники, зеленые в свете луны. Звезда Скорпиона сияет в небе,
был он храбрец, и о нем уж не скажут, что овладел он женою друга. Он
был человек, верный своим обетам, друг, верный своей дружбе. Гума
предал все, теперь ему остался один путь - в глубину вод. Иначе - как
жить? Видеть каждый день Эсмералду, иногда говорить с нею, иногда
лежать рядом с нею, иногда стонать от любви вместе с нею. Видеть в эти
же дни беременную Ливию, хлопочущую по дому, тоскующую по нем,
плачущую при мысли о том, что он когда-нибудь погибнет в море. Видеть
также Руфино, слышать его густой хохот и ласковое "братец", когда негр
кладет ему на плечо свою крепкую руку. Видеть каждый день их всех,
тех, кого он предал, ибо Эсмералду он тоже предал, ведь он больше не
любит ее и не влечет его больше ее истомное тело. Всех предал он,
всех, даже еще не родившегося сына, ибо не оставил ему примера для
подражания, не создал легенды ему в наследство. Никто никогда уж не
скажет, с гордостью указывая на его сына: "Вон идет сын Гумы,
отчаянного храбреца, жившего в здешних краях..."
Нет. Он теперь предатель, сравнялся с тем человеком, что некогда
всадил кинжал в бок Скорпиону. Негодяй называл себя другом знаменитого
разбойника, а в один прекрасный день ударил его кинжалом и позвал
других, чтоб разрезать его на куски. Убийца стал потом сержантом
полиции, но сегодня, упоминая его имя, все сплевывают в сторону, чтоб
имя это не осквернило рот, его произнесший. Так вот будет и с ним,
Гумой... На пристани еще никто не знает. Удивляются только, что он так
много пьет, раньше за ним такое не водилось. Но не знают причин,
думают, что это от радости, что скоро сын будет,
Ливия сейчас, наверно, думает о нем, волнуется. Жена старого
Франсиско умерла от радости, что он вернулся из опасного плавания. Так
и Ливия живет в вечном ожидании, что муж вернется. Наверняка ей
хотелось бы, чтоб он оставил море, перебрался жить в город, переменил
профессию. Но она никогда не высказывала таких мыслей, ибо хорошо
знала, что мужчины, плавающие на судах, никогда не променяют море на
сушу и труд моряка на какой-нибудь другой. Даже люди, приехавшие к
морю уже взрослыми, как дона Дулсе, никогда не возвращаются назад.
Колдовство Иеманжи обладает большою силой... А теперь Гуме кажется,
что хорошо бы уехать. Отправиться с Ливией куда-нибудь далеко отсюда,
- кто-то говорил, что в городе Ильеусе можно заработать много денег.
Сменить профессию, работать где-нибудь на фабрике, бежать из этих
мест.
Гума смотрит на "Смелого" у причала, Хороший шлюп. Раньше он
принадлежал старому Франсиско - пятое его судно. Тоже уж старый, не
один год бежит он по волнам. Сколько раз приходилось ему пересекать
залив и подыматься вверх по реке? Без счета... Он плыл с Гумой сквозь
бурю спасать "Канавиейрас", несколько раз они чуть не затонули вместе,
как-то ночью "Смелому пробило бок. А сколько уж он парусов сносил?
Фамильный шлюп, с заслугами... А теперь Гума готов остановить его
бег... Он продаст его любому шкиперу и уедет, так лучше. Гума заслужил
такое наказание: покинуть море, покинуть порт, уехать в чужие края. Он
когда-то мечтал о путешествии, мечтал плавать на большом корабле, как
Шико Печальный. Потом познакомился с Ливией, бросил прежние планы,
остался с нею, привез ее на побережье, чтоб обречь на печальную жизнь
жены моряка, на страдание одиночества в долгие дни его отсутствия, на
вечное беспокойство: вернется ли он из своей схватки со смертью. А
теперь ко всему еще предал ее, предал и Руфино, своего друга... Гума
закрывает лицо руками. Не будь он моряк, он бы плакал сейчас, как
ребенок, как женщина.
Теперь ему осталось ждать только случая, который увлечет его на
дно морское, а вместе с ним и "Смелого", - не хочется отдавать
"Смелого" в чужие руки. Ибо бежать с побережья, уехать в другие земли
- это выше его сил. Только те, кто живет на море, знают, как трудно
расставаться с ним. Трудно даже для того, кто не может больше ни
смотреть в лицо другу, ни любоваться луной, сияющей в небе...
Не будь Гума моряком, он плакал бы сейчас, как ребенок, как
женщина, как узник в глухой темнице.
Он встретил Руфино в море, и так было лучше. Руфино стоял в
лодке, чуть не по пояс в воде: он не заметил, когда выходил из порта,
что лодка течет. Гума помог законопатить. Часть груза пропала - негр
вез сахар. Мешки на дне лодки промокли, сахар наполовину растаял. Гума
перетащил мешки на палубу "Смелого" и положил сушиться на солнце. Он
старался не смотреть на Руфино, расстроенного тем, что понес убыток.
- Деньги за фрахт во всяком случае пропали, их у меня вычтут за
испорченный товар.
- Может, еще обойдется. Мешки высохнут, мы тогда посмотрим, много
ли погибло. Мне кажется, немного.
- Сам не знаю, как это случилось. Я всегда так слежу за всем. Но
полковник Тиноко послал своих людей укладывать сахар, а мне делать
было нечего. Ну я и пошел выпить глоточек, дождь-то ведь какой был,
промок я до нитки. А пришел - все уж закончено. Ну, я отправился и
только на середине пути заметил это дело. Гребу, а лодка так тяжело
идет, ну просто не сдвину. Поглядел, а вода так и хлещет...
- Тебе, собственно, ничего не надо платить, а с них еще
стребовать за дыру в лодке. Если это люди полковника проломили...
- Да вот то-то и оно, что я не уверен... Я когда еще туда шел,
так, сдается, резанул днищем по верхушке рифа в излучине реки. Потому
и неизвестно...
Они еще некоторое время плыли рядом и переговаривались. Но потом
"Смелый" обогнал лодку. Руфино греб где-то позади, пока совсем не
пропал из виду. Гума просто не знал, как это у него хватило сил
говорить с ним, выдерживать его взгляд, смеяться в ответ на его шутки.
Лучше было ему прямо сказать все, чтоб Руфино тут же хватил его веслом
по голове. Это было бы правильнее...
"Смелый" бежит по волнам, ветер надувает паруса. Ливия ждет на
пристани. Эсмералда - рядом с нею и спрашивает с невинным видом:
- Негра моего там не видели?
- Он скоро будет. Я даже привез несколько мешков сахара, что были
у него в лодке. Там пробоина.
Ливия встревожилась:
- Но с Руфино ничего не случилось?
Эсмералда пристально смотрит на Гуму:
- Нарочно ведь никто не проломил?
Он заметил, что она боится, не было ли между мужчинами ссоры.
- Похоже, что это еще когда он подымался вверх по реке... Он
задел за риф... Он скоро будет здесь. Огорчен убытком.
Гума поставил "Смелого" на причал и пошел с Ливией домой.
Эсмералда простилась.
- Пойду на пристань Порто-да-Ленья, встречу его.
- Скажите, что мешки у меня.
- Ладно.
Она посмотрела вслед удалявшейся паре. Гума избегал ее. Боялся
Руфино, боялся Ливии, или она, Эсмералда, уже разонравилась ему?
Многие мужчины здесь, в порту, сходили по ней с ума. Они боялись
Руфнно, но все-таки находили случай сказать ей словечко, послать
подарок, попытать счастья. Только Гума избегал ее, Гума, который
нравился ей больше всех: и светлым лицом и черными, длинными, почти до
плеч, волосами, и губами, румяными, как у ребенка... Грудь Эсмералды
дышала тяжко, глаза проводили с тоской человека, идущего вверх по
улице. Почему он бежал от нее? Ей не пришло в голову, что из угрызений
совести. Надо составить письмо Жанаине, тогда посмотрим, кто кого...
Она медленно шла к пристани Порто-да-Ленья. Лодочники кланялись ей,
матрос, красящий баржу, на мгновенье прервал свою работу и даже
свистнул от восторга. Только Гума бежал от нее. Чтоб он разок побыл с
нею, надо было невесть что проделать. Уж прямо на шею ему вешалась,
предлагалась, как уличная женщина, а он еще потом задушить хотел... На
пристани говорят, что за такую, как она, горы золота не жалко. А Гума
бежит от нее, не замечает ее красоты. Ее тела, ее глаз... Уставился на
свою тощую, плаксивую Ливию... Эсмералда услыхала восторженный
присвист матроса, взглянула в его сторону и улыбнулась. Он стал
показывать на пальцах, что в шесть освобождается, и махнул рукой в
сторону пляжа. Она улыбалась. Почему Гума бежит от нее? Страх перед
Руфино, это точно. Боится мести негра, его мускулистых рук, накопивших
невиданную силу за долгие дни непрерывной работы веслами. Эсмералда не
думала об угрызениях совести. Наверно, она даже и не знала, что это
такое, и слов таких не слыхала никогда... Холодный ветер дул на
прибрежье. Вдали, разрезая воду, показалась лодка Руфино.
Ночь упала холодная, ветер завивал песок пляжа и гребни волн.
Несколько шхун вышли в море. Такой ветер не пригоняет бурю. В воздухе
тонко разлетались песчинки, уносимые ветром до самых городских улиц. В
церкви шла служба. Туда направлялись женщины, кутаясь в шали, мужчины
группами спускались по склону холма. А ветер летал между всеми этими
людьми... Колокола празднично звонили. Лавки закрывались, нижний город
пустел.
После обеда старый Франсиско вышел из дому. Он шел поболтать на
церковный двор, рассказать историю, послушать другую. Гума зажег
трубку, он собирался позднее подойти на пристань, взглянуть,
разгрузили ли уже судно, узнать, не найдется ли какой работенки на
завтра. Ливия мыла посуду, живот уже очень мешал ей, лицо ее как-то
посерело, последний румянец сбежал со щек. Она каждый день теперь
ходила на прием к доктору Родриго. Ее мучила тошнота, и вообще она
плохо себя чувствовала. Гума незаметно наблюдал за ней. Она входила и
выходила, мыла оловянные тарелки, большие грубые кружки. Собака,
черненькая шавка, недавно подобранная на улице, хрустела рыбьими
костями в кухне на глиняном полу. Пустая чашка отдыхала на краю стола.
Гума услышал, как Руфино поднялся со стула у открытого окна соседнего
дома. Наверно, кончили обедать. Он говорил с Эсмералдой. Гуме
казалось, что это здесь, в комнате, они говорят, так явственно можно
было расслышать каждое слово.
- Пойду поговорю с полковником Тиноко насчет этих мешков, что
промокли. Будет скандал, вот увидишь.
Эсмералда говорила очень громко:
- Можно я схожу взглянуть на праздник? Церковь, говорят, так
разукрашена! А потом, это в честь моей святой...
- Иди, но возвращайся пораньше, я сегодня завалюсь рано.
Зачем она так громко говорит? Наверно, чтоб и он ее услышал,
подумал Гума. Да вовсе и не пойдет она в церковь, обманывает... Из
окна видна была церковь, так ярко освещенная, словно большой океанский
пароход... А если и пойдет, так, верно, с Ливией, которая конечно же,
захочет помолиться за будущего сына. Колокола звонят, созывая людей на
праздник. Ветер порывисто влетает в окно. Гума высовывает голову,
вглядываясь в свинцовое небо. Красивый вечер! Однако ночь, что
последует за ним, не обещает ничего хорошего. Луна убывает, тончайшим
желтым серпом висит она на небе... Из-за стены послышался голос
Руфино!
- Ты здесь, братишка?
- Здесь.
- Иду ругаться к старому Тиноко.
- Ты не виноват.
- Но старик упрям, как черепаха: ей отрежешь голову, а она
шевелится, жить хочет.
- Ты ему объясни.
- Я на него раза два как цыкну, так он своих не узнает...
За стеной Эсмералда прощалась:
- Я скорехонько назад буду...
Голос Руфино донесся глуше:
- Обожди-ка, мулатка, дай я разнюхаю, сильно ль ты загривок
надушила.
Гума почувствовал какую-то дурноту. Он не хотел больше никаких
встреч и видеть-то ее не хотел, но эти, глухим голосом сказанные слова
обожгли его, словно Руфино только что украл у него что-то. А ведь на
деле он украл у Руфино... Шаги Эсмералды удалялись. Руфино снова
заговорил громко:
- Моя мулатка в церковь пошла... - И крикнул ей вслед, внезапно
вспомнив: - Черт тебя дери, да что ж ты Ливию не зовешь?
- Она сказала, что пойдет с Гумой. - И шаги замерли вниз по
склону.
Теперь слышалось, как Руфино, оставшись один, расхаживает по
комнате. Гума снова взглянул в небо. Ветер крепчал, редкие звезды
вынырнули из-под туч. "Будет буря", - подумал он, Ливия кончила мыть
посуду, спросила:
- Хочешь пойти взглянуть на праздник?
Она была бледна, очень бледна. Платье спереди было короче,
приподнятое огромным животом. Она была, наверно, смешна. Но Гума
ничего этого не замечал. Он знал только, что у нее в животе сын от
него, что она поэтому больна, а он ее предал. Он слышал, как Руфино
ушел, издали что-то приветливо крикнув на прощанье. Ливия стояла
подле, ожидая ответа на свой вопрос.
- Иди переоденься.
Она прошла в комнату, но сразу же вышла, потому что в дверь
постучали.
- Кто там?
- Свои.
Однако голос был чужой, они не помнили, чтоб когда-либо слышали
его. Ливия подняла на Гуму глаза - в них был испуг. Он встал.
- Ты боишься?
- Кто б это мог быть?
Стук возобновился.
- Да есть тут кто-нибудь? Это что: кладбище или затонувший
корабль?
Пришелец был моряк, это ясно. Гума открыл дверь. В темноте улицы
блеснул огонек трубки, и за огоньком смутно виднелась какая-то большая
фигура в плаще.
- Где Франсиско? Где этого чумного гоняет? Что он еще не помер,
это я знаю, такого барахла и в раю не надобно...
- Его нет дома.
Ливия испуганно смотрела из-за спины Гумы. Фигура в плаще
двинулась, будто намереваясь войти. И так оно и было. Голова
просунулась в дверь, осматривая помещение. Кажется, только сейчас
пришелец заметил Гуму.
- А ты кто такой?
- Гума.
- Черт дери, да что за Гума? Думаешь, я обязан знать?
Гума начинал раздражаться:
- А вы-то кто?
В ответ фигура сделала еще шаг и ступила на порог. Гума вытянул
руку и загородил вход:
- Что вам надо?
Фигура оттолкнула руку Гумы и так и пришпилила его к стене - так
что один из самых сильных людей на пристани не мог и пошевелиться.
Фигура обладала, казалось, силой двадцати самых сильных людей на
пристани.
Ливия вышла вперед.
- Чего вы хотите, сеньор?
Пришелец отпустил Гуму и вошел в комнату, слабо освещенную
керосиновой лампой. Теперь Гума ясно видел что перед ним старик с
длинными седыми усами, гигантского роста. Плащ его слегка распахнулся,
и Ливия заметила, как сверкнул за поясом кинжал. Старик жадно
осматривал дом в красноватом свете коптилки, удлиняющем тени:
- Значит, этот болван Франсиско живет здесь, так ведь? А ты кто
такая? - Он тыкал пальцем в сторону Ливии.
Она намеревалась ответить, но Гума встал между нею и гостем.
- Сначала скажите нам, кто вы!
- Ты сын Франсиско? До меня не доходило, что у него есть сын.
- Я его племянник, сын Фредерико. - Гума уже раскаивался, что
ответил.
Старик взглянул на него с испугом, почти с ужасом.
- Фредерико?
Взглянул на Ливию, потом снова на Гуму.
- Это твоя жена?
Гума кивком головы подтвердил. Старик остановил взгляд на животе
Ливии, потом снова уставился на Гуму:
- Твой отец никогда не был женат...
У него были белые-белые волосы, и казалось, его пробирал холод,
даже в плаще. Несмотря на все, что он наговорил, Гума не чувствовал
себя оскорбленным.
- Твой отец умер давно, так ведь?
- Давно, да.
- Только Франсиско не умер, так?
Он взглянул на пламя коптилки, повернулся к Гуме.
- Ты не знаешь, кто я? Франсиско никогда не рассказывал?
- Нет.
Старик спросил Ливию:
- У тебя есть водка, а? Выпьем глоток за возвращение вашего
родственника.
Ливия пошла за водкой, но в ту же секунду вернулась, услыхав за
окном вскрик старого Франсиско, подошедшего незаметно и заглянувшего в
окошко узнать, кто у них в гостях.
- Леонсио.
Франсиско быстро вошел в дом. Ливия принесла графин и стаканы и
стояла, не понимая ничего. Франсиско все еще не верил:
- Я думал, ты умер. Столько времени прошло...
Гума сказал:
- Так кто ж это в конце концов?
Старый Франсиско ответил тихо, как по секрету, у него был такой
вид, словно он только что пробежал несколько миль:
- Это твой дядя. Мой брат.
Он повернулся к гостю, указал на Гуму:
- Это сын Фредерико.
Ливия налила стаканы, старик выпил залпом и поставил свой на пол.
Франсиско сел:
- Ты ведь ненадолго, правда?
- А ты торопишься увидеть мою спину? - Старик засмеялся каким-то
нутряным смехом. Белые усы дрожали.
- Нечего тебе здесь делать. Все считают, что ты умер, тебя никто
здесь больше не знает.
- Все считают, что я умер, вот как?
- Да, все считают, что ты умер. Чего еще ищешь ты здесь? Ничего
здесь нет для тебя, ничего, ничего...
Гума и Ливия были испуганы, она крепко сжимала обеими руками
графин. У старого Франсиско был вид усталый-усталый, вид человека,
смертный час которого близок, он казался сейчас много старее, чем
обычно, - перед лицом легенды, которой он, рассказывавший столько
историй, никогда не рассказывал. Леонсио посмотрел через окно на
пристань. Женщина прошла мимо дома, это была Жудит. Она шла вся в
черном, с ребенком на руках. Дом ее был далеко, мать теперь жила у
нее, приехала помочь ей, обе ходили по людям стирать, а мальчик был
худенький, и поговаривали, что не выживет. Леонсио спросил:
- Вдова?
- Вдова, ну и что же? Я уже сказал, что тебе здесь делать нечего.
Нечего, слышишь? Зачем ты пришел? Ты ведь умер, зачем ты пришел?
- Зачем пришел... - задумчиво повторил гость, и голос его походил
на рыдание. Однако он засмеялся: - Ты не рад мне. Ты даже не обнял
брата.
- Уходи. Тебе нечего здесь делать.
Снова глаза гиганта старика обратились на набережную, на
затянутое туманом небо. Словно он пытался вспомнить это все, как
старый моряк, вернувшийся в свой порт.
Словно он пытался узнать это все... Он долгим взглядом смотрел на
небо, на берег, затерянный в тумане. Холодная ночь надвигалась с моря.
Старик повернулся к Франсиско:
- Сегодня ночью будет буря... Ты заметил?
- Уходи отсюда. Твоя дорога не здесь.
И, словно делая огромное усилие, Франсиско добавил:
- Это не твой порт...
Гигант старик присмирел, опустил голову, и, когда заговорил
вновь, голос его доносился будто откуда-то издалека и звучал мольбою:
- Позволь мне остаться хоть на две ночи. Я так давно уж...
Ливия опередила старого Франсиско, не дав возможности отказать:
- Оставайтесь, этот дом ваш.
Франсиско взглянул на нее. В глазах его было страдание.
- Я устал, я пришел из дальнего далека...
- Оставайтесь, сколько хотите, - отозвалась Ливия.
- Только две ночи... - Он обернулся к Франсиско: - Не бойся.
Потом взглянул на небо, на море, на берег. Угадывалась во всем
его существе радость прибытия. Старый моряк вернулся к своему берегу.
Франсиско сидел на стуле съежившись, зажмурив глаза, морщины его лица
словно сомкнулись теснее. Леонсио обернулся к нему еще один только
раз, чтоб спросить:
- У тебя нет портрета отца?
Так как ответа не последовало, некоторое время стояла тишина.
Потом гость обернулся к Гуме:
- Ты рано ложишься?
- Почему вы спрашиваете?
- Пойду пройдусь по берегу, ты дверь не затворяй. Я, как вернусь,
запру.
- Хорошо.
Он запахнул плащ, надвинул на лоб капюшон и направился к выходу.
Но с порога вернулся, стал перед Ливией, засунул под плащ руку,
сдернул со своей широченной груди какую-то медаль и протянул ей:
- Возьми, это для тебя.
Старый Франсиско после ухода гостя сказал еще:
- Зачем он пришел? Ты ведь не оставишь его здесь, правда, Ливия?
- Расскажите мне эту историю, дядя, - попросил Гума.
- Не стоит тревожить мертвецов. Все считали, что он умер.
Франсиско снова ушел, и они видели, как он направился к
"Звездному маяку". Нынешний день ни один корабль не пристал к гавани,
как же приехал Леонсио? И ни один корабль не отплыл нынешней ночью, а
тем не менее он не вернулся нынче, и не вернулся уж больше никогда.
Медаль, что он подарил Ливии, была золотая и вылита была, казалось, в
какой-то дальней-дальней стране и в какое-то давнее-давнее время. Да и
сам гигант старик пришел, казалось, из дальнего далека и принадлежал
другому, давнему времени.
Они все-таки пошли в церковь тем вечером. Ливия дорогой
спрашивала Гуму, не слыхал ли он что-нибудь обо всей этой истории.
Нет, не слыхал, старый Франсиско никогда не упоминал об этом брате...
Эсмералды в церкви не было. Наверно, устала ждать и ушла. Гума
почувствовал облегчение. Не придется выносить ее взгляды и тайные
знаки. Не из-за подобной ли истории Леонсио не может появляться здесь,
потеряв свой порт? Моряк теряет свой порт и свою пристань, только если
он совершил очень подлый поступок... Эсмералды не было в церкви,
пахнущей ладаном. Снаружи была ярмарка, и доктор Филаделфио
зарабатывал грошики за своим станком, производящим стихи и письма.
Какой-то негр пел в кругу зевак:
В день, когда я встану рано,
не даю мозгам покою...
Они вернулись домой. Из-за стены голос Руфино спросил:
- Это ты, братишка?
- Это мы, да. Пришли.
- Праздник уж кончился?
- В церкви кончился. Но ярмарка еще шумит.
- Ливия, ты видела там Эсмералду?
- Нет, не видала, нет. Но мы там только чуточку и побыли.
Руфино пробормотал что-то, обиженно и грозно. Гума спросил:
- Уладилось с полковником?
- Ах, это? Да, мы решили разделить убыток на двоих...
Прошло несколько минут. Голос Руфино послышался снова:
- Ночь смурная. Похоже, будет буря. Дело серьезное.
Гума и Ливия прошли в комнату. Она взглянула на медаль, которую
подарил ей Леонсио. Гума тоже повертел ее в руках - красивая. Из-за
стены слышались шаги Руфино. Эсмералда, может быть, сейчас где-нибудь
с другим. Она способна на это. Где-нибудь на пляже. Руфино подозревает
ее. А вдруг она во всем сознается и расскажет, что Гума тоже был ее
любовником? Тогда-то уж будет дело серьезное, как говорит Руфино.
Похуже бури. Нет, он не подымет руку на Руфино, не станет с ним
драться. Он даст убить себя, ведь Руфино его друг. А Ливия, а сын, что
должен родиться, а старый Франсиско? Он станет тогда моряком,
потерявшим свой порт... Не вернется уж больше... Даже после смерти...
Такими мыслями мучился Гума, пока не услышал шаги возвращавшейся домой
Эсмералды и ее слова, обращенные к Руфино:
- Задержалась, не сердись, негр. Там столько интересного. Думала,
ты тоже подойдешь.
- Ты где пропадала, сознавайся, сука? Никто тебя там не видел.
- Ну понятно, в такой толпище... А я вот видела Ливию...
Издали...
Послышался звук пощечины, потом еще. Он бил ее, это было ясно.
- Если узнаю, что ты мне изменяешь, на дно пошлю, в ад...
- Изменяю тебе? Господь меня срази! Да не бей ты меня...
Потом послышался шум, уже не похожий на удары... У мулатки были
зеленые глаза и крепкое тело. У нее были тугие, острые груди, и Руфино
был без памяти влюблен в нее.
Буря разразилась в полночь. Обычно ветер, такой как поднялся с
вечера, не нагонял бурю, но если уж нагонял, то самую страшную. Она
разразилась в полночь и завладела сразу многими судами, случившимися о
ту пору в море. Гума был поднят с постели старым Франсиско,
возвращавшимся из "Звездного маяка", и разбудил по дороге и Руфино.
- Говорят, три судна перевернуло. Просят помощи. Сейчас выйдут
несколько шхун и лодок, вас обоих тоже просят. На одной шхуне целая
семья ехала... Опрокинулись...
- Где?
- Близко. У входа в гавань.
Бегом бросились на пристань. Гума поднял якорь, Руфино поехал с
ним. Огромные валы с силой били в причал. Другие парусники уже шли
впереди. "Смелый" вскоре нагнал их. В черной дали плавал парус одной
из затонувших шхун. "Вечный скиталец" шел впереди всех, быстро
разрезая волны. Силуэт шкипера Мануэла вырисовывался в свете фонаря.
Гума окликнул его:
- Эй, Мануэл!
- Это ты, Гума?
Руфино сидел на юте "Смелого" и молчал. Вдруг он спросил Гуму:
- Ты не слышал, говорят об Эсмералде в порту?
- Говорят - в каком смысле? - отозвался с усилием Гума.
Огромные валы разбивались о борт "Смелого". Впереди "Скиталец"
шкипера Мануэла, казалось, исчезал в глубине каждый раз, когда
налетала гигантская волна.
- В том смысле, что она сильно гуляет. Мне-то, конечно, не
говорят.
- Нет, я никогда не слыхал ничего такого.
- Ты ведь знаешь, я часто уезжаю. Хочу просить тебя: если узнаешь
что, скажи... Рога мне ни к чему. Я тебе это говорю, потому что ты мне
друг. Я опасаюсь этой мулатки.
Гума не соображал даже, куда ведет судно. Руфино продолжал:
- Хуже всего, что я люблю ее.
- Никогда я ничего такого не слышал.
Они были уже возле входа в гавань. Обломки трех судов качались в
бушующих волнах моря. Буря стремилась утопить тех, кто еще не погиб, и
тех, кто явился их спасти. Люди цеплялись за доски, за обломки... Люди
кричали, плакали. Только Пауло, капитан одного из затонувших
парусников, молча и упорно плыл, одной рукой разрезая волны, а другой
прижимая к себе ребенка. Двое уже стали жертвами акул, а третьему
акулы оторвали ногу. Шкипер Мануэл начал подбирать людей и втаскивать
на свою шхуну. Другие прибывшие с ним последовали его примеру, однако
не всегда это было просто: парусники относило в сторону, тонущие
выпускали из рук доски, за которые держались, но не всегда успевали
достичь спасительного борта - пучина проглатывала их. Пауло передал
ребенка Мануэлу. Когда ему самому удалось вскарабкаться на шхуну, он
сказал:
- Их было пятеро. Остался только этот...
Удалось спасти и мать ребенка, но она смотрела безумными глазами
и, схватив свое дитя и крепко прижав к груди, застыла, как неживая.
Человек, у которого акула оторвала ногу, лежал на палубе "Смелого" и
кричал. Еще Гуме удалось втащить на борт старика. Руфино бросился в
воду, чтоб спасти человека, пытавшегося доплыть до ближайшего
парусника. Но он его уже не увидел, зато увидел акулу, бросавшуюся
вослед ему самому и, плавая вокруг, преграждавшую ему отступление...
Гума заметил это, бросил руль "Смелого" и нырнул с ножом в зубах. Он
проплыл под самым брюхом чудовища, и Руфино смог вернуться на борт
невредимым. В свой смертный час акула так металась и била хвостом по
воде, что Гума чуть не потерял сознание.
Руфино сказал ему:
- Если б не ты...
- Пустяки.
Теперь искали тела погибших. Кусок руки до локтя плавал по воде,
рука, видно, принадлежала молодой женщине, остальное стало добычей
акул. Плавали обрывки одежды и куски тел. Семь человек погибло.
Четверо детей, двое мужчин и одна женщина. Спасенные ехали на судах
вместе с мертвецами. Мать, прижимавшая к груди сына, смотрела на
другого, мертвого, с вьющимися волосами, лежащего на палубе. Их было
пятеро, пятеро мальчишек, которых отец ждал в порту. Они возвращались
из Кашоэйры, буря застала их в пути. Двое погибших мужчин были
капитанами двух затонувших шхун. Из тех, кто стоял у руля, спасся
только Пауло, да и то потому лишь, что спасал ребенка. Если б не
ребенок, он тоже погиб бы со своими пассажирами и ушел на дно морское
следом за своим погружавшимся кораблем. Их было пятеро, пятеро
мальчишек, а теперь мать прижимала к груди одного - уцелевшего, глядя
на труп другого, лежащий на палубе. Остальные сделались добычей акул,
не осталось и трупов... У маленького мертвеца, лежащего на палубе
"Смелого", - курчавые волосы. Мать не плачет, только все крепче
прижимает к груди единственного сына, который ей остался. Море все
волнуется, вздымая гигантские волны. Шхуны-спасительницы возвращаются.
Корпус одного из затонувших судов медленно погружается в воду. Их было
пятеро, пятеро мальчишек...
Со дня возвращения и нового исчезновения Леонсио старый Франсиско
почти не бывал дома. Он жил на пристани, беседуя со знакомыми, выпивая
стаканчик в "Звездном маяке", возвращаясь к себе лишь на рассвете,
совершенно пьяным. Он не захотел рассказывать историю Леонсио и просил
Гуму никогда не упоминать при нем это имя. Гуму очень беспокоило, что
дядя сильно пьет, доктор Родриго уже предупреждал его, что так старик
не долго протянет. Он попытался было завести с дядей разговор на эту
тему, но получил сухой ответ:
- Не вмешивайся в чужие дела...
Руфино тоже изменился за последнее время. Вначале Гума подумал,
что он о чем-то догадывается. Но ведь Эсмералда давно уж охладела к
Гуме и не смотрит в его сторону, похоже, что завела другого. Так было
лучше, спокойнее. Только Гума теперь часто думал о том, что было бы,
если б она умерла. Все чаще об этом думал. Если бы Эсмералда умерла,
он был бы свободен от груза, что носит на сердце. Ему казалось, что со
смертью мулатки исчезли бы все причины для грусти и угрызений совести.
Столько он об этом думал, что в конце концов ему стало видеться, как
наяву, тело, недвижно лежащее на столе, - зеленые глаза закрыты, губы,
жаждущие поцелуев, сомкнулись навсегда. Ему виделся Руфино, скоро
утешившийся с другой. Ливия, наверно, будет очень плакать у гроба,
мужчины с пристани придут взглянуть в последний раз... Красавица
мулатка была...
Хуже всего было то, что она не умирала, была жива и, совершенно
очевидно, изменяла Руфино с кем-то другим. Вопреки самому себе Гума
ревновал. На пристани говорили, что новый любовник - матрос. Дней
восемь тому назад в порту пристал большой грузовой пароход. Его
ремонтировали. Один из матросов залюбовался на бока Эсмералды, потом
попробовал ее поцелуев и влюбился в ее крепкое тело. Руфино что-то
подозревал и незаметно следил за мулаткой.
Как-то вечером, когда Гума вернулся из одного плавания, Руфино
пришел к нему и сказал еще с порога:
- Она мне изменяет!
- Что такое?
- Рогач я, вот что такое. - И объяснил: - Я уж держал ухо востро.
Не сводил с нее глаз, ну и накрыл ее, подлую. Сегодня я нашел его
письмо.
- Кто ж он?
- Матрос с судна "Миранда". Корабль сегодня отплыл, потому я не
смог угостить его свинцом.
- Что ж ты теперь думаешь делать?
- Я ее проучу. Играла мной, моей дружбой и любовью. Мне эта
мулатка нравилась невозможно, браток.
- Что ты задумал? Ты ведь не погубишь себя из-за нее?
- Мне достаточно было и того, что она раньше вытворяла.
Изменщица. Я когда ее подобрал, она уж с другими успела, слава дурная
о ней шла. Но когда человек теряет голову, то уж и знать ничего не
хочет.
Он пристально всматривался в горизонт, словно ища там что-то.
Голос его звучал тихо, глухо и ровно. Он был так непохож на прежнего
Руфино, распевавшего задорные куплеты...
- Я думал, с ней будет как с другими. Поживем и разойдемся с
миром. Но не мог я от нее отстать, так и остались вместе. А теперь все
смеются надо мной. - Голос его стал еще глуше. - А ты знал и ничего не
говорил мне.
- Я не знал. Сейчас в первый раз слышу от тебя. Что ты задумал,
скажи?
- Я хотел бы разбить ей голову и спустить этого типа на дно.
- Не смей губить себя из-за нее!
- Вот что я тебе скажу: я еще сам толком не знаю, что сделаю, но
хочу, чтоб, если случится что плохое, ты сделал для меня одну вещь.
- Слушай, перестань думать глупости. Выгони ее, и все тут...
- Каждый месяц я посылал двадцать мильрейсов моей матери, она
совсем старуха. Она живет в поселке Лапа, работать уже не может. Если
со мной что случится, продай мою лодку и пошли деньги ей.
Он вышел внезапно, не дав Гуме удержать его. Он шел к пристани.
Шел очень быстро. В соседнем доме Эсмералда громко пела. Гума вышел
вслед за Руфино, но не нагнал его.
Луна, полная луна, белеющая на небе, казалось, слушает песню
Руфино. "Я тоскую по ней, по изменщице злой, что сердце разбила мое".
Песня эта была популярна на побережье, и Эсмералда сидела в лодке
спокойно, ничего не подозревая. Она была в зеленом, нарядном платье,
потому что Руфино сказал, что они едут на праздник в Санто-Амаро. Она
нарочно надела это платье, чтоб доставить ему удовольствие, это было
его любимое платье. Он уж давно не нравился ей как мужчина, это
правда. Но когда ее негр пел, разве можно было устоять против теплого,
глубокого его голоса? Ни одна бы не устояла... Эсмералда подсела
поближе к Руфино. Весла разрезали воду, помогая ветру, толкающему
парус. Река была пустынна и широко развернулась под звездным небом,
отражая, подобно зеркалу, каждую звезду. Руфино все пел свою песню...
Но вот - час настал... Он смолк и бросил весла... Эсмералда прижалась
к нему:
- Красиво поешь...
- Тебе понравилось?
Он взглянул на нее. Зеленые глаза манили, рот приоткрыт для
поцелуя. Руфино отвел взгляд, боясь не устоять. В эти мгновения
незнакомый моряк смеется над ним на борту "Миранды"...
- Ты знаешь, что я сделаю сейчас?
- Что именно?
- Я убью тебя
- Перестань дурить...
Лодка плыла медленно, ветер веял тихо и ласково. Эта ночь хороша
для любви... Руфино говорил глухо, и в голосе его была печаль, а не
гнев:
- Ты изменила мне с матросом с "Миранды".
- Кто тебе наболтал?
- Все это знают, все смеются надо мной. Если я не нравлюсь тебе,
почему ты не ушла от меня? Ты хотела, чтоб все надо мной смеялись. За
это я и решил убить тебя.
- Это тебе Гума сказал, так ведь? (Она знала, что смерть близка,
и хотела ранить его как можно больнее.) И ты задумал меня убить? А
потом тебя на каторгу сошлют, землю есть. Лучше уж не убивай меня.
Отпусти лучше. Я уеду далеко, никогда и близко не подойду к этим
местам.
- Ты скоро встретишься с Жанаиной. Готовься.
- Гума тебе сказал, точно. Он ревновал, я уж заметила. Хотел,
чтоб я была только для него. А я с ним всего раза два-три и была-то.
Вот матрос, тот мне и верно нравился.
- Ты мне на Гуму не наговаривай, слышишь! Он меня из пасти акулы
спас, а ты мне на него наговариваешь.
- Наговариваю?
И она рассказала все в мельчайших подробностях. Рассказала, как
Гума провел с нею ту ночь, когда Ливия заболела. И смеялась,
рассказывая...
- Теперь можешь убить меня. На побережье многие будут смеяться,
когда ты будешь проходить мимо: Флориано, Гума, еще кое-кто...
Руфино знал, что она рассказала правду. Сердце его было полно
печали, ему хотелось только умереть. Он чувствовал, что не способен
убить Гуму, спасшего его от смерти. И потом, была еще Ливия. Она-то
чем виновата? Ей-то за что страдать? Но сердце его просило смерти, и
раз не могла это быть смерть Гумы, значит, должна была быть его
собственная смерть... Большая луна морских просторов сияла на небе.
Эсмералда все еще смеялась. Так, смеясь, она и умерла, когда весло
раскроило ей череп. Руфино успел еще взглянуть на тело, погружавшееся
в воду. Акулы сплывались на призывный запах крови, слившейся со
струями речной воды. Он успел еще взглянуть: очень сильно любил он это
тело, что теперь погружалось в воду. Красивое тело, крепкое и жаркое,
с тугими грудями. Тело, согревавшее его в зимние ночи Плоть, что
принадлежала ему. Зеленые глаза, что смотрели на него... Ни на
мгновение не вспомнил он о Гуме: друг словно бы умер раньше,
давным-давно... Он мягко провел рукой по бортам лодки, взглянул в
последний раз на далекие огни родного порта - и воды реки раскрылись,
чтоб принять и его. И в мгновение, когда вынесло его на поверхность в
последний раз (он не видел уже лодки без гребца и рулевого, уносимой
рекою), прошли перед его глазами все те, кого любил он в жизни: он
увидел отца, гиганта негра, всегда с улыбкой; увидел мать, хромую и
сгорбленную; увидел Ливию, идущую с праздничной процессией в день
свадьбы, на которой он был шафером; увидел дону Дулсе; увидел старого
Франсиско, доктора Родриго, шкипера Мануэла, лодочников и капитанов
шхун. И увидел также Гуму, но Гума смеялся над ним, смеялся ему в
спину. Его глаза, в которых гасла жизнь, увидели Гуму, насмехающегося
над другом. Он умер без радости.
Шико Печальный вернулся! В один прекрасный день привез его сюда
незнакомый корабль, подобно тому как незнакомый корабль увез его
отсюда много лет назад. Вернулся настоящим геркулесом. В порту провел
два дня - ровно столько, сколько стояло на причале его судно -
скандинавский грузовой пароход. Потом снова ушел в океан. Но та ночь,
что он провел на пристани, была праздничной ночью. Те, кто знал его,
пришли его повидать, те, кто не знал, пришли с ним познакомиться. Негр
ведь понимал всякие чудные языки и наречия, побывал в землях, столь же
неведомых и дальних, как земли Айока.
Гума пожал ему руку, старый Франсиско расспрашивал, что нового на
свете. Шико Печальный смеялся, он привез шелковую шаль для своей
старухи матери, торговавшей кокосовым повидлом. Ночью пришел он на
рыночную площадь, мужчины собрались в кружок вокруг него, он долго
рассказывал истории из жизни тех далеких стран, где побывал. Истории о
моряках, о кораблях, о дальних портах - то грустные, то смешные.
Больше, однако, грустных. Мужчины слушали, пыхтя большими трубками,
глядя на качающиеся у причала суда. Темный силуэт рынка в глубине
площади обрушивался на них своею тенью. Шико Печальный рассказывал:
- Там, в Африке, где я побывал, ребята, житье для негра хуже, чем
у собаки. Был я в землях негров, где теперь хозяева французы. Там
негра ни в грош не ставят, негр - это раб белого, подставляй спину
кнуту, и больше ничего. А ведь это их, негров, земля...
- Словно бы и не их...
Шико Печальный взглянул на прервавшего его:
- На их же земле их ни в грош не ставят. Белые там - все, все
имеют, все могут. Негры работают в порту, грузят суда, разгружают.
Бегают целый день по сходням, что крысы по палубе, с огромными мешками
на спине. А кто замешкается - белый тут как тут со своим хлыстом: как
взмахнет, так искры из глаз посыплются.
Собравшиеся слушали молча. Один молодой негр так и трясся от
гнева. Шико Печальный продолжал:
- Вот в этих краях и произошел тот случай, что я хочу вам
рассказать, ребята. Я как раз прибыл туда на корабле компании "Ллойд
Бразилейро". Негры разгружали корабль, хлыст белого так и свистел в
воздухе. Стоит черному хоть чуть замешкаться - и хлыст тотчас огреет
его по спине. Вот идет, значит, негр один - кочегаром он работал на
корабле, имя ему Баже, - идет, значит, возвращается: он к девчонке
одной ходил. Толкнул случайно негра одного, местного, что подымался на
корабль по доске с огромным мешком, - они там по доске всходят. Негр
тот остановился на секунду, хлыст белого упал ему на спину, он и
отчалил на землю со всего маху. Баже никогда не видал хлыст белого в
ходу, он в эти земли попал в первый раз. Как увидел, что негр на земле
лежит да от боли корчится, Баже вырвал хлыст у француза да как огреет
его - ну, француз пришвартовался кормой на землю. Он еще встать
пытался, француз-то, но Баже его еще угостил так, что всю морду ему
раскроил. Тогда все негры, что были на корабле, повылезали из трюма и
спели самбу, потому что они никогда ничего подобного не видали.
Все слушали очень внимательно. Один негр не выдержал и
пробормотал:
- Молодчина этот Баже!..
Но Шико Печальный все-таки уехал. Корабль его стоял на причале
всего лишь два дня, на второй день вечером поднял якоря и пустился в
путь по морю-океану, ставшему для Шико Печального единственной дорогою
и судьбою.
Гума проводил его с сожалением. Где-то в глубине его души
навсегда осталась история негра Баже. Так, хоть и постепенно и
медленно, то чудо, которого ждала дона Дулсе, начинало
осуществляться...
Гума также, когда был помоложе, хотел отправиться в далекое
путешествие. Побывать в чужих землях, отомстить за всех униженных
негров, узнать все то, что знает Шико Печальный... Но пожалел Ливию и
остался. Только из-за нее остался, и все-таки предал ее, предал
Руфино, предал закон пристани. Нет уже теперь ни Руфино, ни Эсмералды,
нашли только в море, у входа в гавань, рваные куски их тел - акулы
пожрали их. Другие жильцы жили теперь в соседнем доме, никогда уж
больше не увидит Гума в окошке Эсмералду, выставившуюся напоказ
прохожим, соблазняя их своими тугими грудями. Никогда не увидит ее
широкие, крепкие бедра, ее призывные зеленые глаза. И истомная мощь ее
тела, и зеленый, как море, блеск ее глаз - все досталось акулам,
грозным хозяйкам этого водного пространства, что начинается там, где
кончается море, и кончается там, где начинается река, - пространства,
носящего название "вход в гавань". Иногда Гуме казалось, что он слышит
голос Руфино, зовущий: "Братишка, братишка", - или жалующийся: "Я так
любил эту мулатку, я души в ней не чаял". На прибрежье все возникает и
гаснет мгновенно, как буря. Только страх Ливии не угас, он владеет ею
все дни и все ночи, это уже не страх, а страдание, которому нет конца.
Ливия все больше боится за Гуму. Она так и не смогла привыкнуть к
этой жизни, состоящей из вечного ожидания. Напротив, тревога ее растет
с каждым днем, и ей представляется, что опасность, угрожающая Гуме,
все возрастает и возрастает. День за днем она все ждет и ждет, а во
время бури сердце в груди ее бьется сильней и чаще. За последние
месяцы видела она так много зловещих возвращений - одних выбрасывало
на песок море, других вытаскивали рыбаки. Видела она и куски тел
Руфино и Эсмералды, погибших никто не знает как и отчего. Люди
заметили лодку, плывущую без руля и ветрил, и стали искать
утопленников. И нашли только лишь куски рук и ног и голову Эсмералды с
открытыми, застывшими в ужасе зелеными глазами. Ливия видела также,
как принесли тела Жакеса и Раймундо, - отец и сын погибли вместе, в
бурю. Жакес оставил Жудит вдовой, сын их тогда еще не родился, она
живет с тех пор в нищете, почти что на милостыню. Ливия видела, как
Ризолета стала гулящей женщиной - сегодня с одним, завтра с другим, -
а ведь она прожила с мужем больше десяти лет и никогда не знала других
мужчин. Но ее мужчина погиб при кораблекрушении, когда затонул "Цветок
морей", парусник, наткнувшийся на рифы. Ливия видела много еще таких
судеб. Моряки редко умирают на суше, в своем доме, на своей постели.
Редко бывает, чтоб в свой смертный час видел моряк крышу над головой и
родные лица рядом. Чаще видит он небо, покрытое звездами, и синие
морские волны. Ливии страшно. Если б хоть могла она не думать,
смириться, как Мария Клара. Но Мария Клара - дочь моря. Сердце ее не
рвется от тоски, потому что она знает, что так должно быть, что так
было всегда. Она родилась здесь, у моря, и в море покоятся все ее
близкие. Один лишь шкипер Мануэл еще рассекает волны. Один лишь он
остался. А ведь у нее была большая семья - родители, братья, множество
всякой родни. Только ее любимый еще сопротивляется общей судьбе, но и
его день придет - должен прийти. Тогда Мария Клара уйдет отсюда и
ПОСТУПИТ на какую-нибудь фабрику, где будут нужны ее руки, и будет
вполголоса петь песни моря у ткацкого станка или у машины, делающей
сигары. И вернется к морю, только когда приблизится час смерти, ибо
здесь она родилась, здесь ее порт и берег, к которому должна пристать
ее жизнь. Так думает Мария Клара. Но Ливия думает иначе. Ливия не
родилась на море, она дитя земли, никто из ее родных не нашел себе
успокоение на дне океана, никто не отправился с Иеманжей в вечное
плавание к землям Айока. Один только Гума должен отправиться туда. Это
судьба людей моря, и он не может избежать ее. Мария Клара говорит, что
нельзя все время об этом думать, что это дурная примета, что так она
лишь накликает на него смерть. Но в сердце Ливии живет такая твердая
уверенность в его гибели, что каждый раз, когда Гума возвращается
невредимым, ей кажется, что он воскрес из мертвых.
Печальны дни Ливии, полные ожиданием и страхом. Берег широк и
красив, волны бьют о прибрежные камни, нет неба прекрасней, чем в этом
краю. Под каждым парусом льются песни и слышится смех. Но дни Ливии
печальны и полны страдания.
Однажды вдруг объявился Родолфо. Приехал удрученный, спрашивал,
где Гума. Ливия не спросила, откуда он теперь. Пообедал с нею, сказал,
что дождется Гумы. "Смелого" ожидали примерно к девяти вечера. Родолфо
целый день курил, ходил из угла в угол, выказывая нетерпение. На
тревожный взгляд Ливии ответил:
- Я не приехал в день вашей свадьбы. Но не потому, что не хотел.
Возникло одно препятствие. Но дела, я вижу, идут хорошо, скоро надо
племянника ждать...
- До каких пор хочешь ты вести эту беспорядочную жизнь, Родолфо?
Ты мог бы остаться здесь, заняться чем-нибудь полезным... Так жить не
годится, ты плохо кончишь, другие будут горевать о тебе...
- Некому обо мне горевать, Ливия. Я пустой человек, никто меня не
любит.
Он увидел, что несправедлив и что Ливия огорчена.
- Когда я так говорю, то не имею в виду тебя. Ты меня жалеешь, ты
моя сестра, ты добрая.
Он остановился посреди комнаты:
- С тех пор, как я тебя разыскал, я много раз думал бросить эту
жизнь. Но не от меня зависит: поступлю на работу, покажется не под
силу - ну я и опять бродяжить. После того как я с тобой познакомился,
я раза три пробовал. Дней десять, а то и две недели послужу и
увольняюсь. Не выдерживаю. Месяцев около трех тому назад я в игорном
доме служил. Все было в порядке, даже начал деньги откладывать.
Неплохо зарабатывал.
- А кем ты там работал?
- Фонарем. - Видя на ее лице полное непонимание, он объяснил: - Я
растяп обрабатывал. Начну играть на большие деньги, дурачье и пялит
глаза: видят, как мне везет, ну и сами ставят. А я - цап - да и
проигрался, милый человек, уж не сетуй... Так и летели, как мотыльки
на фонарь. - И смеялся, рассказывая.
Ливия ничего не ответила. Он снова принялся мерить шагами
комнату.
- Но не удержался я там. Нудно как-то показалось. Ушел. Сам не
знаю, что меня гонит. Внутри сидит что-то и гонит. Только и могу что
браться за дела опасные, с риском.
- Ты должен устроить свою жизнь. Когда-нибудь ты можешь
понадобиться мне.
- У тебя хороший муж. Гума - парень что надо.
- Но он может погибнуть. - Она ударила себя по губам, словно
загоняя назад вырвавшееся слово. - Тогда только ты один сможешь помочь
мне, - она опустила голову, - мне и сыночку...
Родолфо повернул голову. Он стоял спиной, только лицо было
вполоборота обращено к ней.
- Я расскажу тебе все. Знаешь, почему я не приехал на твою
свадьбу? Я собирался, но надо было хоть сколько-нибудь деньжат добыть.
Для подарка тебе. У меня, как на грех, ни гроша не оказалось. Вижу,
полковник идет, толстый, словно заспанный, ну, думаю, у него в
карманах не пусто. - Он помолчал секунду. Казалось, он просил
прощения: - Я только хотел тебе часы купить. В витрине одной лавки я
такие красивые часики высмотрел. Когда я опомнился, толстяк уже
схватил меня за руку, а рядом стоял полицейский. Ну, пришлось отсидеть
в коптелке несколько месяцев... Потому я и не приехал...
- Не нужен мне был подарок, ты мне был нужен
- Даже с пустыми руками? Ну, ты просто святая. Не знаю, что за
штука со мной происходит, но таков уж я есть, ничего не поделаешь.
Однако если я тебе когда-нибудь понадоблюсь...
Она подошла и прижала к себе голову брата. Он был такой усталый,
такой беспокойный. Гума все не приходил. Она теперь страшилась и за
мужа и за брата. Родолфо приехал неспроста: была какая-то причина,
которой она не знала и которой он не захотел раскрыть ей. Вероятно, он
приехал просить денег, у него, наверно, ни гроша в кармане, ведь он
совсем недавно вышел из тюрьмы... Он лег на циновку, расстеленную на
полу, и растянулся, подложив руки под голову. Волосы, тщательно
расчесанные, блестели от дешевого брильянтина. Ливия опустилась на пол
рядом с ним, и он положил голову ей на колени. Она тихо погладила его
голову, усталую голову, полную воспоминаний об опасных приключениях и
рискованных кражах, и запела колыбельную песню. Она укачивала брата,
как стала бы укачивать сына. Брат был вор и мошенник. Он вымогал
обманом деньги, продавал несуществующие земли, метал банк в игорных
домах с дурной славой, скрывался невесть где и якшался невесть с кем,
пускал даже в ход кинжал, чтобы припугнуть прохожего с тугим
бумажником в кармане. Но сейчас он тихо дремал на циновке и был
невинен и чист, как ребенок, которого Ливия носила под сердцем. И она
пела над ним колыбельную, как над ребенком, как над новорожденным,
уснувшим у нее на коленях.
Было уже больше одиннадцати, когда возвратился Гума. Ливия
осторожно опустила на циновку голову брата и побежала навстречу мужу.
Он объяснил, почему задержался, - очень долго грузились в Мар-Гранде.
Услышав голос зятя, Родолфо проснулся.
Они обнялись. Гума пошел за графином, выпить по стаканчику. Чтоб
отметить приезд Родолфо, объяснял он, расставляя стаканы, в то время
как вода стекала с него ручьями.
- Промок до нитки.
Ливия поставила перед Гумой обед. Родолфо сел за стол, придвинул
к себе стакан с водкой. Гума быстро уписывал рыбу, проголодавшись за
долгий день. Он улыбался то жене, то гостю, весело показывая ему
вытянутыми губами на живот Ливии. Родолфо посмотрел. Смотрел долго.
Покачал головой в ответ на свою какую-то мысль, пригладил волосы,
выпил остаток из своего стакана.
- Ну, я двинулся.
- Уже? Так рано?
- Я только приехал повидать вас...
- Но ведь ты хотел поговорить с Гумой, - промолвила Ливия.
- Да нет, я просто хотел повидать его, столько времени не
виделись.
- Надеюсь, теперь ты уже не забудешь дорогу к нашему дому...
Родолфо засмеялся. Надвинул на лоб шляпу, бережно подобрав
тщательно расчесанные пряди, вынул из кармана зеркальце, посмотрелся в
него, приветливо махнул рукой на прощанье и вышел, насвистывая.
Ливия сказала задумчиво.
- Да нет, у него было к тебе какое-то дело. Видно, денег хотел
попросить.
Гума отставил тарелку и крикнул в окошко:
- Родолфо! Родолфо!
Тот уже заходил за угол, но вернулся. Подошел к дому и
остановился под окном. Гума, понизив голос, спросил:
- Ты, верно, без гроша? Об этом ты хотел говорить со мной, а? Я
тебе наскребу сколько-нибудь.
Родолфо положил руку на плечо друга, задумчиво разглядывая
татуировку на его руке.
- Не об этом речь... - Он вынул из кармана деньги и показал Гуме:
- Я сейчас богат.
- Так в чем же дело?
- Да так, парень. Ничего. Просто я приехал повидать вас обоих.
Серьезно.
Он снова махнул на прощанье и пошел прочь от дома. Шел
посвистывая, но мысли его упорно возвращались к одному и тому же. Он
думал о деле, которое намеревался было предложить Гуме, из-за которого
и приехал. Одно из тех рискованных дел, к каким он-то, Родолфо, давно
привык. Дело, которое могло дать им обоим легкие и притом немалые
деньги. А могло и привести за решетку... Он прикусил аккуратно
подстриженный ус и принялся свистеть громче прежнего. Ливия просто
святая. А у него, Родолфо, скоро будет племянничек. Он улыбнулся,
вообразив себе личико младенца, только что с плачем появившегося на
свет. Поддал ногой камешек с дороги и подумал, что теряет весьма
выгодное дельце. Но вдруг он забыл обо всем, забыл, что от выгодного
дельца отказался сам, из-за сестры и будущего племянника, не желая
впутывать Гуму в рискованное предприятие. Внимание его было отвлечено
другим: впереди шла молоденькая мулатка, чеканя шаг и плавно поводя
бедрами.
Тетка с дядей навещали Ливию. Они жили теперь лучше, лавка
процветала, старик щеголял новеньким жилетом, старуха приносила Ливии
зелень и овощи. Когда они приходили, старый Франсиско уходил из дому,
ему казалось, что они каким-то колючим взглядом осматривают все
вокруг, словно сетуя на бедное убранство дома. Дядя морщился и говорил
Ливии, что "плавать на паруснике - это бесперспективно". Почему она не
добьется, чтоб Гума переехал в город и бросил наконец это море? Он мог
бы продать свой шлюп, вырученные деньги внести как пай и стать его
компаньоном. Овощную лавку можно было расширить, они открыли бы
большой магазин и, чего доброго, могли б еще разбогатеть и обеспечить
будущее малышу, который должен родиться. Самое лучшее для Гумы -
бросить этот опасный промысел на море и на реке и перебраться в
верхний город, поближе к ним, - уверял дядя. А тетка добавляла, что
Гума просто обязан так поступить, если он любит Ливию по-настоящему, а
не только на словах. Ливия слушала стариков молча, в глубине души
соглашаясь с ними, - она была бы рада такой перемене.
Да, она многое бы отдала за то, чтоб Гума бросил свой промысел.
Она знала, как трудно моряку покинуть свой корабль, жить вдали от
моря. Кто родится на море, на море и умирает, и редко бывает
по-другому. Потому она никогда и не заговаривала с Гумой о перемене
жизни. Но это было бы лучшим выходом для их семьи. Кончилось бы
тоскливое ожидание, что не дает ей жить. Кончился бы страх за будущее.
И потом, сын ее не родился бы на море, не чувствовал бы себя связанным
с морем на всю жизнь. А то ведь Гума уже мечтает о том, как будет
брать ребенка с собою в плавание, с малолетства приучать его к рулю. И
после всех страданий из-за мужа Ливии предстоят еще страдания из-за
сына - его тоже придется ждать ночи напролет.
И каждый раз после посещения родственников Ливия решала
поговорить с Гумой. Надо убедить его. Он продаст "Смелого" (сильно
будет жалеть, разумеется. Да и ей тоже жалко), откроет магазин вместе
с дядей. Тогда ей нечего будет бояться... Она решала поговорить с ним
сегодня же, но когда Гума возвращался из плавания, пропитанный морскою
водой, полный впечатлений от всего, что приключилось с ним на опасном
пути, у нее не хватало духу завести с ним подобный разговор. Да она и
чувствовала, что это бесполезно - невозможно оторвать его от моря. Он
окончит жизнь, как другие, подобные ему. И она останется вдовой в
ночь, когда разыграется буря. И сын ее к тому времени уже привыкнет к
парусам шхун и килям лодок, к песням моря и гудкам больших кораблей.
Ничто на свете не изменит судьбы Синдбада-морехода.
Дождь так и не пошел в ту ночь. Тучи не собрались на небе.
Декабрь - праздничный месяц в городе и на прибрежье. Но луна не
взошла, и свинцовый цвет неба не преобразился в темно-синий с приходом
вечера. Вечер опутывал тьмою все вокруг. Он был сильней дождя, грома и
молний, он собрал в себе мощь всех стихий, и ночь эта принадлежала ему
одному. Никто не слышал песни, что пел, как всегда, Жеремиас, - ветер
рассеивал и заглушал ее. Старые моряки вглядывались в приближающиеся
по морю паруса. Они летели слишком быстро, и надо было быть очень
опытным рулевым, чтоб сдержать бег судна у самого берега и поставить
его на причал такою вот ночью, когда над всем властвует один лишь
ветер. Много шхун было еще в открытом море, некоторые неслись к
гавани, возвращаясь из плавания по реке.
Ветер - самый грозный из всех властителей моря. Он круто завивает
гребни волн, любит жонглировать кораблями, заставляя их кружиться на
воде, вывертывая руки рулевым, тщетно пытающимся удержать равновесие.
Эта ночь принадлежала ветру. Он начал с того, что загасил все фонари
на шхунах, лишив море его огней. Один лишь маяк мигал вдалеке,
указывая путь. Но ветер не повиновался и гнал суда по ложным путям,
относя в сторону от верной дороги, увлекал их в открытое море, где
волны были слишком мощны для легкого парусника.
Никто не слышит сегодня песни, которую поет старый солдат в
покинутом форте. Никто не видит света фонаря, который он поставил на
парапет мола, вдающегося в море. Ветер гасит и затуманивает все - и
фонари и песни.
Парусники плывут без руля, по воле и милости ветра, вертясь
кругами по воде, как игрушечные. Взбешенные стаи акул ждут у входа в
гавань. В эту ночь им обеспечена богатая добыча. Парусники вертятся и
переворачиваются... Ливия прикрылась шалью (живот был уже такой
огромный, что она послала за теткой) и спустилась вниз по набережной.
У двери "Звездного маяка" старый Франсиско изучал ветер. Он пошел с
нею. Другие пили там, внутри, но глаза всех были устремлены наружу, в
грозную ночь.
На пристани собирались группами люди, переговариваясь. Над
огромными океанскими пароходами, стоящими в отдалении на якоре,
бороздили небо подъемные краны.
Ливия тоже осталась на милости ветра. Старый Франсиско подошел к
одной из беседующих групп узнать, нет ли новостей. Ливия слышала
обрывки разговора:
- .. надо быть настоящим мужчиной...
- ...этот ветерочек похуже любой бури...
Она ждала долго. Быть может, и получаса не прошло. Но для нее это
было долго. Парус, показавшийся вдали, не принадлежал "Смелому".
Кажется, это шхуна шкипера Мануэла. Она неслась с бешеной быстротой,
человек за рулем сгибался в три погибели, готовясь к трудному маневру,
чтоб остановить судно. Мария Клара низко склонилась над чем-то,
распростертым на юте. Длинные ее волосы разлетались по ветру. Ливия
поправила шаль, соскользнувшую с плеч, взглянула на людей,
спускающихся на покрытую мокрой грязью пристань, и ринулась туда.
Парусник с трудом причалил, Мария Клара склонялась над распростертым
на палубе человеком. И еще до того как шкипер Мануэл произнес:
"Смелый" затонул", - она уже знала, что это Гума лежит там, на палубе
"Вечного скитальца", и что это над ним склонилась Мария Клара. Ливия
двинулась к краю причала, шатаясь как пьяная. Потом, вскрикнув, упала
в лужу грязи, отделявшую ее от шхуны шкипера Мануэла.
Послали за доктором Родриго. У Гумы была рана на голове от удара
об острые рифы, на которые наткнулся "Смелый". Но когда доктор пришел,
ему пришлось сначала оказать помощь Ливии, которая из-за испуга
разрешилась от бремени на несколько дней раньше. И малыш уже плакал,
когда Гума смог наконец подняться с забинтованной головой и рукой на
перевязи. Он долго смотрел на сына. Мария Клара находила, что ребенок
- весь в отца.
- Ни прибавить, ни убавить: Гума - и все тут.
Ливия улыбалась устало, доктор Родриго велел всем оставить ее
одну, чтоб отдохнула. Шкипер Мануэл пошел домой, но Мария Клара
осталась с Ливией до прихода тетки. Старый Франсиско отправился за
нею, по дороге сообщая счастливую новость всем знакомым. Оставшись
наедине с Ливией, Мария Клара сказала:
- Ты сегодня заработала сына и мужа.
- Расскажи, как все было.
- Не сейчас, тебе надо отдохнуть. После ты все узнаешь. Ветер,
надо сказать, был уж так свиреп...
Гума задумчиво ходил взад-вперед по комнате. Теперь у него
родился сын, а "Смелого" больше нет. Чтоб заработать на жизнь,
придется наняться на баржу. Нет у него теперь парусника, чтоб оставить
в наследство сыну, когда он сам отправится к землям Айока. Теперь он
будет продавать труд своих рук, не будет у него больше своего паруса,
своего руля. Это было наказание, думал Гума. За то, что он предал
Руфино, предал Ливию. Это было наказание. Ветер упал на него, бросил
на рифы. Если б не Мануэл, подоспевший в ту минуту, как Гума упал в
воду и ударился головой о камни, не видать бы ему собственного сына.
Родственники Ливии пришли. Обняли Гуму, старый Франсиско им все
рассказал дорогою. Приблизились к постели Ливии. Мария Клара
простилась, обещав заглянуть позднее. Предупредила, что Ливия спит,
доктор не велел будить. Тетка села возле постели, но дядя вышел из
комнаты, решив поговорить с Гумой.
- Шлюп совсем пропал?
- Затонул. Доброе было судно...
- А чем вы теперь намерены заняться?
- Сам не знаю... Наймусь лодочником или в доки.
Он был грустен: не было больше "Смелого", нечего было оставить в
наследство сыну. Тогда дядя Ливии предложил ему работать с ним. Гума
мог бы переехать в верхний город, помогать в лавке, постепенно
осваиваться. Дядя собирался расширить дело.
- Я уже говорил об этом с Ливией. Думал, вы продадите шлюп и
внесете свой пай. Но теперь никакого пая не надо, просто давайте
работать вместе.
Гума не ответил. Тяжело было ему покинуть море, признать себя
побежденным. Да и не хотелось оказаться в долгу у дяди Ливии. Старик
надеялся, что племянница сделает удачную партию, чтоб иметь компаньона
в деле, открыть впоследствии большой магазин. Он был против ее брака с
Гумой. Потом примирился и стал думать о Гуме как о возможном
компаньоне. Теперь все его честолюбивые планы провалились, и лавка на
ближайшее время так, видимо, лавкой и останется, да еще придется
извлекать из нее на пропитание Гумы и его семьи. Старик ждал ответа.
Дверь отворилась, и вошел старый Франсиско. На руке его виднелась
новая татуировка - он велел написать имя "Смелого" рядом со своими
четырьмя затонувшими шхунами, которые звались "Гром", "Утренняя
звезда", "Лагуна", "Ураган". Теперь к ним присоединился и "Смелый".
Старик с гордостью показал новую татуировку, вынул изо рта трубку,
положил на стол и обратился к Гуме:
- Что ты намереваешься делать?
- Стать лавочником.
- Лавочником?
- Он будет моим компаньоном, - с достоинством сказал дядя Ливии,
- он оставит прежнюю жизнь.
Старый Франсиско снова взял трубку, аккуратно набил и зажег. Дядя
Ливии продолжал:
- Он будет жить с нами в верхнем городе. Вы тоже можете
переехать.
- Я не такая развалина, чтоб жить на милостыню. Я пока еще
зарабатываю себе на хлеб.
Тетка появилась в дверях, прикладывая палец к губам.
- Говорите потише, пускай она поспит, - и кивала в глубину
комнаты.
- Я не хотел обидеть, - объяснял дядя Ливии.
Гума думал о старом Франсиско. Что будет с ним, если он останется
один? Скоро он уже не сможет чинить паруса, и ему нечем будет
заработать на жизнь. Старый Франсиско затянулся трубкой и закашлялся:
- Я скажу доктору Родриго, что не нужно...
- Чего не нужно?
- Жоан Младший продает своего "Франта". Он купил три баржи,
парусник ему больше не нужен. Дешево продает, сразу нужна только
половина суммы. Доктор Родриго сказал, что поможет... Но ты хочешь
стать лавочником...
- Доктор Родриго дает половину?
- Дает в долг. Ты заплатишь, когда сможешь. Вторую половину
будешь выплачивать каждый месяц.
- Это красивое судно.
- Другого такого у нас в порту нет. - Старый Франсиско
воодушевлялся: - Только с одним "Скитальцем" шкипера Мануэла может
сравниться. Остальные и в счет не идут. Да и продает-то почти что за
бесценок.
Он назвал цифру, Гума согласился, что это недорого. Он думал о
сыне. Так у сына будет свой парусник,
- Жоан Младший здесь?
- В отъезде. Но когда вернется, поговорим.
- А других покупателей нет?
- Как нет? Уж раньше нас интересовались. Но я все улажу, когда
вернется Жоан. Я его ребенком знал, когда он по земле ползал.
Дядя Ливии пошел к племяннице. Гума смотрел на старого Франсиско
как на спасителя. Старик пыхтел трубкой, вытянув руку на столе, чтоб
просохла новая татуировка. Пробормотал:
- Моя рука пережила его...
- "Смелого"?
- Ты помнишь, как я чуть не разбил его о камни?
Он засмеялся. Гума тоже засмеялся. Пошел за графинчиком.
- Мы "Франта" переименуем.
- А как назовем?
- У меня такое имя на уме - красота: "Крылатый бот".
Входили все новые приятели. Графин скоро опустел. В комнате стоял
запах лаванды.
Как только они остались вдвоем, Гума рассказал Ливии, как все
произошло. Она слушала с полузакрытыми глазами. Рядом спал маленький
сын. Когда он кончил свой печальный рассказ, она сказала:
- Теперь у нас нет своего парусника, надо нам начинать другую
жизнь.
- Я уже покупаю новый...
Он рассказал, как все складывается. С таким судном, как "Франт",
можно заработать кучу денег. Он большой и легкий.
- Ты знаешь, не могу я работать с твоим дядей, не внеся ничего в
дело. Но когда мы подзаработаем, можно будет продать парусник и
переехать к твоим родственникам. Тогда не стыдно будет...
- Честное слово?
- Клянусь.
- А сколько на это нужно временя?
- Полгода буду выплачивать... Еще через годик у нас подсоберется
деньжонок, можно будет продать парусник. Войдем в пай с твоим
стариком, откроем магазин...
- Ты клянешься?
- Клянусь.
Тогда она указала ему на сыночка. И взгляд ее говорил, что это
все из-за него. Только из-за него.
Он приехал на палубе первого класса большого торгового судна,
пристававшего на своем веку уже в двадцати портах. Он приехал из
краев, находящихся где-то по ту сторону света, и его кожаный бумажник,
который он бережно прижимал к груди, подымаясь по улице Монтанья, был
почти пуст. Он приехал в ночь, когда свирепствовала буря, в ночь,
когда шхуна Жакеса перевернулась у входа в гавань. В эту ночь на
палубе третьего класса, глядя на незнакомый город, развернувшийся
перед его глазами, он плакал. Он прибыл из Аравии, из какого-то
селенья, затерянного средь пустынь, он пересек океан песков, чтобы
отправиться заработать кусок хлеба по другую сторону земли. Иные
приезжали раньше него, некоторые возвращались домой богатыми и
становились владельцами красивых домов и оливковых рощ. Он приехал с
той же целью. Он пришел из-за гор, пересек пустыни на спинах
верблюдов, взошел на корабль и много дней подряд жил в открытом море.
Он еще не знал ни слова из языка страны, где решил обосноваться,
но уже бойко продавал солнечные зонтики, дешевые шелка и кошели
кухаркам и слугам Баии. Довольно быстро освоился он и с чужим городом,
и с чужим языком, и с чужими нравами. Он поселился в арабском квартале
на улице Ладейра-до-Пелоуриньо, откуда выходил каждый день рано поутру
со своим коробом бродячего торговца. Потом жизнь его пошла лучше.
Особенно когда он познакомился с Ф. Мурадом, самым богатым арабом в
городе. "Торговый дом Ф. Мурад", торговавший шелками, занимал почти
целый квартал на улице Чили. Поговаривали, что владелец разбогател на
контрабанде. Многие из местных арабов ненавидели его, говорили, что он
не помогает своим соотечественникам. В действительности же Ф. Мурад
вел точный учет своим соотечественникам, проживающим в Баие. И когда
начинало казаться, что кто-то из них может быть полезен торговому
дому, Ф. Мурад немедля призывал его к себе для участия в одном из
бесчисленных своих предприятий. Он давно уже приглядывался к Туфику.
Еще до приезда последнего он получил письмо, в котором его уведомляли
о подлинных причинах этого приезда. Туфика привела в Баию не только
мечта о богатстве. Он покинул свои края, ибо пролил там чужую кровь и
хотел, чтоб о нем забыли. Ф. Мурад на несколько месяцев предоставил
его самому себе, ограничась лишь пристальным наблюдением. Видел, как
приезжий быстро осваивается. Кроме всего прочего, это был, очевидно,
человек смелый, способный согласиться на любое опасное дело, только б
оно было выгодно. Ф Мурад призвал его наконец и использовал в самом
прибыльном из своих предприятий. Теперь Туфик имел дело с клиентами с
борта кораблей, со всеми этими капитанами и лоцманами, которые
провозили беспошлинно грузы шелка. И Туфик проявлял в этой хитрой
работе особую ловкость, никогда еще дела не шли так успешно, как при
нем.
Через несколько лет Туфик тоже рассчитывал вернуться домой с тем,
чтоб там, среди своих гор, стереть оставленный им кровавый след,
засадив его оливковыми рощами.
Он знал порт, как немногие. Капитаны парусных шхун все были его
знакомцы, имена кораблей он все помнил наизусть, хотя и произносил их,
забавно коверкая. Шавьер, хозяин "Совы", работал на него. И если еще
не сколотил деньгу, так оттого лишь, что у Шавьера была душевная рана
и деньги его уходили на выпивку в "Звездном маяке" и на игру в рулетку
в подозрительных игорных домах на некоторых улицах верхнего города,
пользующихся дурной славой. Это именно "Сова" принимала в молчании
ночи тюки шелка с борта кораблей и отвозила их в надежные укрытия. И
столько раз прошел араб Туфик этими опасными водными тропами, что ему
казалось, что он и сам - капитан парусной шхуны. По крайней мере, он
уже слушал, как зачарованный, те песни, что глубокой ночью пел солдат
Жеремиас в старом форте. И как-то туманной ночью и сам вдруг запел на
своем наречии песню моря, услышанную некогда от своих
соотечественников-моряков в порту, где он взошел на корабль,
отплывавший в Баию. Странная была эта мелодия, вдруг разрезавшая тьму.
Странная и чужая. Но песни моряков, сколь различны ни были бы их
напевы и наречия, на которых они сложены, всегда повествуют о любви и
гибели в волнах. Поэтому все моряки понимают их, даже если они поются
арабом с далеких гор, услышавшим их в грязном азиатском порту.
Сынок уже начинал ходить и играл с корабликами, которые мастерил
для него старый Франсиско. Брошенные в углу комнаты игрушечный поезд,
подарок Родолфо, дешевенький медведь, купленный Ливией, и паяц,
принесенный теткой, не удостоились даже взгляда своего маленького
владельца. В кораблике, вырезанном из обломка мачты старым Франсиско,
заключался для малыша целый мир. В тазу, где Ливия стирала белье,
кораблик плавал долгие часы под восхищенными взглядами деда и внука.
Он плыл без руля и кормчего и поэтому никогда на приставал к берегу, а
все описывал круги или вдруг останавливался посреди своего водного
пространства. И мальчик говорил на своем особом языке, похожем на язык
араба Туфика:
- Дед, делай бурю.
Старый Франсиско знал, что малыш хочет, чтоб над его бухтой
разразилась буря. Подобно Иеманже, бросающей на воду буйный ветер,
старый Франсиско надувал щеки и выдувал на таз-бухту яростный
норд-вест. Бедный кораблик кружился вокруг своей оси, мчался по ветру
с небывалой быстротой, а малыш радостно хлопал перепачканными
ручонками. Старый Франсиско еще больше надувал щеки, делая ветер еще
сильнее. И свистел, подражая смертоносной песне норд-веста. Воды
бухты, только что спокойной, как озеро, волновались, волны заливали
кораблик, который все больше наполнялся водой и наконец медленно
опускался на дно. Малыш хлопал в ладоши, а старый Франсиско смотрел на
тонущий кораблик с печалью. Хоть и была это только игрушка, сделанная
его собственными руками, но все же это был в конечном счете парусник,
который шел ко дну. Волны бухты успокаивались. Теперь она была тиха,
как озеро. Кораблик лежал на боку, на дне. Малыш засовывал руку в таз
и вынимал кораблик. Игра начиналась снова, и так старик и мальчик
проводили целые дни, склонившись над игрушечным морем, над игрушечным
кораблем и над настоящей судьбой людей и кораблей в настоящем море.
Ливия с печалью и страхом смотрела на заброшенных медведя и
паяца, на игрушечный поезд. Ни разу малыш не запустил его во дворе, не
устроил крушения. Ни разу не заставил медведя напасть на паяца. То,
что творится на суше, не интересовало его. Судьбы моря, а не земли,
занимали его воображение. Его живые глазенки неотрывно следили за
игрушечным кораблем, за его борьбой со штормовым ветром, вылетающим из
надутых щек старого Франсиско. А медведь, паяц и поезд лежали в углу,
заброшенные. Раз только надежда блеснула в сердце Ливии. Это было,
когда Фредерико (сына назвали Фредерико) вдруг покинул свой таз-бухту
в разгар самой страшной бури и пошел искать паяца. А найдя, бережно
поднял с пола. Ливия внимательно следила за малышом: неужто устал
наконец от бурь и кораблекрушений? Может, интересовался так своим
ботом, пока тот был новинкой? А теперь займется забытыми игрушками? Но
нет, совсем нет. Малыш отнес паяца к тазу и посадил на корабль. Хотел
превратить его в капитана. Странный это был капитан - в полосатых
сине-желтых шароварах. Впрочем, подумала Ливия, теперь столько
приходится видеть чужеземных моряков в самых разных одеждах, что, если
б и впрямь появился какой-нибудь в таких вот шароварах, вряд ли бы это
кого-то удивило... И с этого дня каждый раз, когда игрушечный кораблик
шел ко дну, паяц (сражавшийся, разумеется, с бурей до последней
секунды) тонул вместе со своим кораблем, погибая в пучине, как
настоящий моряк. На дне таза его тряпочное тело раздувалось, словно в
него вонзились тысячи раков. Малыш хлопал в ладоши, смеялся и
восторженно смотрел на деда. Франсиско тоже смеялся, и игра начиналась
снова и снова.
Бедный кораблик столько уж раз шел ко дну, и паяц столько уж раз
тонул, что тряпочное его тело прохудилось и однажды он остался без
ноги. Но морские волки не просят милостыню. И странный моряк в
сине-желтых шароварах продолжал бороться с бурями, бодро стоя на одной
ноге у мачты своего корабля. Малыш говорил старому Франсиско:
- Акуа села.
Акула съела у паяца ногу, старый Франсиско понимал внука. Потом
она съела голову, отвалившуюся во время одной особенно сильной бури.
Но и без головы моряк (это был самый странный моряк изо всех,
когда-либо плававших по морям мира) продолжал бодро стоять у руля,
рассекая бурные волны на своем корабле. И малыш смеялся, и старик
смеялся вместе с ним. Для них обоих море было другом, ласковым другом.
Только Ливия не смеялась. Она смотрела на медведя и поезд,
брошенных в углу. Для нее море было врагом, самым страшным из врагов.
Люди, связанные с морем, напоминали ей игрушечного паяца в сине-желтых
шароварах, случайно ставшего моряком: даже без ноги, калекой, боролся
он с бешенством морской стихии, не выказывая при этом ни протеста, ни
гнева.
Старик и мальчик смеялись. Буря ревела над маленькой бухтой,
кораблик несся по воле волн и ветра, одноногий моряк без головы
пытался управлять кораблем, не желая сдаваться.
"Франта" превратили в "Крылатый бот" и покрасили сызнова.
Понадобилось также сменить паруса, и новое судно Гумы обещало стать
самым быстроходным в здешних местах. Доктор Родриго дал свою половину
суммы с тем, что Гума вернет ее, когда кончит выплачивать вторую
половину бывшим владельцам. Эту часть поделили на десять помесячных
выплат. То немногое, что было у Гумы, ушло на обновление судна. И
"Крылатый" торжественно вышел в море. Срок, обещанный Ливии для того,
чтоб скопить денег и войти пайщиком в дело ее дяди, вместо года
растянулся на два. Ибо в конце первого года долг Жоану Младшему почти
не уменьшился, а доктору Родриго не было еще выплачено ни гроша.
Причиною тут была, разумеется, не неаккуратность, а то, что жизнь для
моряков становилась все труднее и труднее. Грузов было мало, цены на
фрахт стояли низкие - из-за конкуренции более быстрых и дешевых
моторных катеров, - в делах был полный застой. Заработки становились
все ниже и ниже, и набережная никогда еще не оглашалась столькими
жалобами на распроклятую жизнь.
Ливия уже отчаялась ждать, поняв что в этом году Гума не покинет
море. Она и сама день-деньской трудилась, чтоб он мог поскорее
выплатить долги и выкупить свободу для нового своего корабля. Жоан
Младший торопил с уплатой, он сам нуждался в деньгах, не мог свести
концы с концами после покупки барж. Доктор Родриго ничего не требовал,
ждал терпеливо, но Жоан Младший буквально приставал к ним, почти не
вылезал от них, подстерегал Гуму на пристани каждый раз, когда тот
возвращался из плавания. Что, впрочем, в последнее время случалось не
часто. Моряки проводили теперь много времени на базарной площади,
беседуя о жизни, о застое, о трудных временах. Да еще зачастили в
"3вездный маяк" - заливать тоску, благо сеу Бабау пока еще верил в
долг, хоть и записывал аккуратно все расходы в потрепанную тетрадь в
зеленой обложке. Гума брался за любые перевозки, даже если назад
приходилось возвращаться порожняком, соглашался даже на короткие рейсы
в Итапарику, но и так в конце месяца не хватало денег на очередную
выплату Жоану Младшему. Ливия помогала старому Франсиско чинить
паруса. Многие часы проводила она теперь, согнувшись над толстым
холстом разорванного бурей паруса, с иглой в руке. Но почти вся эта
работа делалась в кредит, дела шли плохо у всех на пристани. Так
плохо, что грузчики даже поговаривали о забастовке. Гума по целым дням
искал работу, старался совершать перевозки насколько возможно быстрее,
чтоб закрепить за собой клиентов. Многие продали свои парусники и
нанялись на разные работы в порту: грузчиками в доки, матросами на
большие океанские суда, носильщиками - таскать чемоданы и тюки
путешественников.
И поскольку такая работа занимала мало времени, основную часть
дня и ночи пели и пили.
- Жоан Младший заходил, пока тебя не было...
Гума сбросил дорожный мешок на постель. Взглянул на сына,
играющего со старым Франсиско в обычную игру.
Был конец месяца, и он обещал Жоану Младшему выплатить хоть
сколько-нибудь. Но ничего не удалось отложить, из последнего рейса он
вывез сущие гроши, это был рейс в Итапарику. Малыш смеялся, бегая
вокруг таза с водой. Гума не стал обедать и сразу вышел. Не прошло я
пяти минут, как Жоан Младший постучался к ним в двери:
- Гума вернулся, хозяйка?
- Вернулся, но сразу опять ушел, сеу Жоан.
Жоан Младший недоверчиво заглянул внутрь комнаты.
- Не знаете, куда он направился?
- Не знаю, сеу Жоан, он только что вышел.
- Ну что же, доброй ночи.
- Доброй ночи, сеу Жоан.
Жоан Младший удалился вниз по улице, покусывая ус. Керосиновые
лампы на окнах освещали бедно убранные жилища коряков. В дверь одного
из домишек входил какой-то пьяный, и Жоан услышал голос женщины,
отворившей ему:
- В хорошем виде ты приходишь, нечего сказать... Словно не
довольно...
На пристани собирались группами мужчины, беседуя. Жоан Младший
стал расспрашивать о Гуме. Нет, не видели. На базарной площади кто-то
заметил, что, кажется, он пошел в "Звездный маяк".
- Заливать тоску...
Кто-то другой спросил:
- Как твои баржи, Жоан? Доходны?
- Какое там доходны. У кого теперь есть доход? Расходы одни...
Он махнул рукой и пошел дальше. Повстречался с доктором Родриго,
который шел куда-то, куря сигарету.
- Добрый вечер.
- Добрый вечер, доктор. Я как раз хотел сказать вам пару слов...
- В чем дело, Жоан?
- Да насчет хозяйки моей. Вы к нам столько раз приходили, пока
она болела, на ноги ее поставили. Вы ее спасли. Один только бог вам
помог. А я с вами еще не расплатился.
- Ничего страшного, Жоан. Я знаю, что дела у всех сейчас
неважные...
- Плохие дела, верно, доктор. Но вы должны получить за вашу
работу, вы тоже не можете воздухом питаться. Как только будет
возможность...
- Не беспокойтесь об этом. Я обойдусь.
- Спасибо, доктор.
Родриго отошел, затягиваясь. Жоан Младший подумал о Гуме. Хотел
было идти домой (времена и правда тяжелые), повернул было в обратную
сторону, но внезапно решился и направился к "Звездному маяку"...
Гуму он увидел сразу - за столом перед пустым стаканом. Шкипер
Мануэл сидел возле него. С высокого табурета за стойкой сеу Бабау
смотрел на посетителей грустно и сонно. Жоан Младший заметил, как
шкипер Мануэл, сказав что-то безнадежно махнул рукой... Жоан стоял на
пороге, словно не решаясь войти. Он рассматривал Гуму с восхищеньем и
печалью, словно видел в первый раз. Длинные волосы свисали Гуме на
лоб, и глаза глядели с каким-то испугом. "Боится", - подумал Жоан и
невольно подался назад, словно намеревался уйти, так и не переступив
порога. Но ему нужно было заплатить своим матросам на баржах - и он
шагнул за порог. Несколько голосов приветствовали его - "добрый
вечер". Он кивнул на обе стороны и тяжело опустился на стул рядом с
Мануэлем. Шкипер сказал:
- Как дела? - Казалось, он с трудом заставил себя заговорить с
пришельцем.
- Сеу Жоан... - начал Гума.
Жоан Младший дернул себя за ус, спросил выпить. Шкипер Мануэл был
очень мрачен и молчал, глядя на дно пустого стакана. Кто-то из
посетителей кричал в углу:
- Подадут нам сегодня или нет?..
Сеу Бабау записывал имена должников в тетрадь. Внезапно Гума
резко поднялся, провел рукой по лбу, отбрасывая назад волосы, и
сказал:
- Пока ничего, сеу Жоан. Дела идут так скверно...
Шкипер Мануэл отозвался эхом.
- Так скверно... - И спросил необычно громко: - Сколько это будет
продолжаться?
Сеу Бабау взглянул на говорившего, рука его, сжимавшая карандаш,
застыла в воздухе. В наступившей тишине ясней слышалась песня, которую
пел слепой у порога. Печальная, заунывная. Она медленно вливалась в
комнату, и Жоан Младший слушал, чувствуя, как она постепенно
овладевает им. Шкипер Мануэл ответил на свой собственный вопрос:
- Я думаю, что это никогда уж не кончится. И все мы умрем с
голоду...
Сеу Бабау опустил свой карандаш. Почесал голову и улыбнулся, сам
не зная чему. Закрыл тетрадь и перестал записывать долги. Голова его
медленно опустилась на согнутую руку. Казалось, он дремлет.
- Спустил паруса... - заметил кто-то.
- Так скверно... - сказал Жоан Младший, имея в виду дела и время.
Песенка слепого тихо тлела за дверью. Не слышно было звона ни
единой монетки, капнувшей в его нищую жестянку. Но слепой все пел. И
Жоан Младший слушал его, вопреки собственному желанию. Гума заговорил
снова:
- Я хотел в этом месяце заплатить вам, но я гол как сокол. Не
было работы, вовсе никакой не было работы, сеу Жоан.
Женщина вошла в таверну - Мадалена. Обвела взглядом пустые столы.
Никто не пригласил ее. Она засмеялась, крикнула своим грудным голосом:
- Здесь что, поминки?
Все взглянули на нее. Шкипер Мануэл протянул ей руку - когда-то
они были любовники. Но она подошла к их столу не из-за Мануэла, а
из-за Жоана Младшего.
- Угостишь рюмочкой, Жоан?
Мальчишка принес стаканы.
Песенка слепого (он пел о нищете своей и просил милостыню)
казалась нескончаемой там, за порогом. Гума продолжал:
- Сеу Жоан, потерпите еще, прошу вас. Будет же лучше
когда-нибудь...
Шкипер Мануэл усомнился:
- Ты надеешься?
Мадалена обвела взглядом троих мужчин. Потом крикнула хозяину:
- Патефон онемел сегодня, да, Бабау?
Бабау поднял опущенную на руку голову, сонно взглянул вокруг и
нехотя двинулся заводить старенький патефон. Звонкая самба наполнила
залу. Но и сквозь задорную ее мелодию звучала в ушах Жоана Младшего
заунывная песенка слепого.
- Дело в том, Гума, что я и сам завяз. Дьявольски завяз. Троим
своим помощникам задолжал. Баржи пока что никакого дохода не принесли,
только расходы. - Он взглянул на шкипера Мануэла, потом на Мадалену и
махнул рукой: - Только расходы...
- Я знаю, сеу Жоан. Я очень хочу расплатиться с вами, только вот
как?
- Я в тупике, Гума. Или достану денег, или мне придется спустить
за бесценок одну из барж, чтоб уплатить собственные долги.
Песенка слепого просачивалась в залу сквозь резкую музыку самбы.
Гума повесил голову. Сеу Бабау вернулся за стойку и снова задремал над
своей тетрадью. Мадалена с любопытством прислушивалась к разговору.
- Я подумал... - начал Жоан Младший и осекся.
- Что?
- Продать бы нам парусник, ты б получил свою часть, я управился
бы с делами. Мы бы могли договориться, ты пошел бы работать ко мне на
баржу.
- Продать "Крылатого"?!
Песенка слепого совсем заглушила самбу. Хоть и слаба и тиха,
казалась она громче и мощнее, ибо все собравшиеся в этот час в таверне
слушали только ее:
Сжальтесь над тем, кто навек потерял
свет своих ясных глаз...
Шкипер Мануэл также недоумевал:
- Продать "Крылатый бот"?
Мадалена вытянула руку на столе:
- Такого красавца - и вдруг продать...
- Да иначе нам не выпутаться, - оправдывался Жоан Младший.
Он повторил:
- Не выпутаться...
- Сеу Жоан, подождите еще с месяц, я достану денег. Даже если
весь месяц мне придется голодать...
- Да я не из-за себя, Гума. У меня самого долги. - Он боялся, что
подумают, что он наживается на ком-то. Песня слепого терзала его. - Ты
ведь знаешь, что я не такой человек, чтоб наживаться на других... Я ни
с кого не хочу кожу сдирать. Но положение такое дрянное, что я другого
выхода не вижу...
- Только месяц...
- Если я завтра людям не заплачу, они уйдут.
Шкипер Мануэл спросил:
- И ничего нельзя придумать?
- Что же?
- Попросить еще у кого-нибудь взаймы?
Стали думать - у кого. Мануэл вспомнил даже о докторе Родриго. Но
как Гума, так и Жоан были ему уже должны. Нет, этот не годится... Жоан
Младший продолжал оправдываться:
- Спросите у старого Франсиско, наживался ли я когда-нибудь на
беде другого. Он меня знает уж столько лет... (Ему хотелось попросить
слепого, чтоб замолчал.)
Мадалена кивнула на сеу Бабау:
- Кто знает, может, он выручит?
- А и то... - сказал Мануэл.
Гума смотрел на них смущенный, словно умоляя спасти его. И Жоан
Младший продолжал оправдываться - у него было желание подарить Гуме
парусник, а потом броситься в воду, ибо как будет он смотреть в глаза
помощникам, которым не платит? Шкипер Мануэл поднялся, подошел к
стойке, взял легонько под руку Бабау. И привел его к столу. Бабау сел
рядом с ними:
- В чем дело?
Гума почесал голову. Жоан Младший был весь поглощен песней
слепого. Пришлось говорить шкиперу Мануэлу.
- У тебя с деньгами как?
- Когда получу сполна то, что вы все мне задолжали, разбогатею...
- засмеялся Бабау.
- А знаешь ты кого-нибудь, кто мог бы выручить?
- Сколько тебе нужно?
- Да это не мне. Это вот сеу Жоану и Гуме. - Он повернулся к
Жоану Младшему: - Сколько надо сразу же?
Жоан Младший по-прежнему прислушивался к стонущей мелодии слепого
певца. Он объяснил:
- Мне только заплатить своим помощникам. Гума мне должен, ты ведь
знаешь, как теперь всем трудно...
Гума прервал:
- Я отдам, как только достану хоть сколько-нибудь денег.
Понимаете?
Сеу Бабау спросил:
- Да сколько нужно-то?
Жоан Младший прикинул в уме:
- Сто пятьдесят меня бы выручили...
- В моей кассе и половины нет. Могу открыть, сами увидите... - Он
задумался: - Если б речь шла о пятидесяти мильрейсах...
- Пятьдесят тебе не хватит? - Мануэл взглянул на Жоана Младшего.
- Пятидесяти и на уплату одному помощнику не хватит. Сто
пятьдесят - это еще тоже не все, что им причитается.
- Ты сколько должен был отдать, Гума?
- Я выплачиваю по сто в месяц... Но я в том месяце тоже не
уплатил.
Сеу Бабау поднялся и направился во внутреннее помещение. Мадалена
вздохнула:
- Если б было у меня...
Патефон замолчал. Все сидели тихо, слушая песню слепого. Сеу
Бабау вернулся и принес пятьдесят мильрейсов билетами по десять и
пять. Отдал Гуме:
- Ты мне вернешь после первого же рейса, хорошо?
Гума протянул деньги Жоану Младшему. Шкипер Мануэл положил руку
на плечо Мадалены.
- Подцепи полковника, который даст нам в долг сотню.
Она улыбнулась:
- Если я сегодня выручу пятерку, то буду считать себя
счастливой...
Гума сказал Жоану Младшему:
- Подождите еще несколько дней. Попробую достать недостающее.
Жоан Младший кивнул. Мадалена вздохнула с облегчением и принялась
непринужденно болтать:
- Вы знаете Жоану? Ты знаешь, правда, Мануэл? Так вот, сидит она
сегодня у окна и видит, что какой-то тип с нее глаз не спускает. Ну
она и...
Но Гума прервал:
- Вы все знаете, что этот бот не дает мне никакого заработка. Он,
собственно, и не мой еще, я за него и четверти не заплатил. И задолжал
вам, Жоан, и доктору Родриго. Но если я останусь без судна, то что
оставлю я в наследство сыну? Здесь, на море, долго не проживешь,
настигнет тебя в один прекрасный день буря, ну и отправишься далеко.
Разве что для тех, у кого нет ни жены, ни детей...
- Тяжкая доля, - согласился Мануэл. - За то я и не хочу детей.
Хозяйка-то хотела бы...
- А жена у тебя красивая, - сказала Мадалена Гуме.
- Ты ее знаешь?
- Я видела вас вместе на улице.
Песня слепого все лилась через порог. Снова подали водки. Жоан
Младший сказал:
- Достать бы мне еще десятку, я б каждому хоть по двадцать
отдал... Может, остаток подождали бы.
- Десятку я тебе завтра утром достану, - отозвался Мануэл. - У
хозяйки, возможно, есть.
- А у нас в доме - новенькая,- сказала Мадалена.
- А, в вашем стаде новая телушка появилась, вот как?
- Новая телушка... Скорей старая корова... Не дай тебе боже...
- Кто ж она?
- Старушенция, правда. Говорит, что была женой Шавьера.
- Шавьера? Капитана "Совы"?
- Его самого.
- Он нам когда-то о ней рассказывал, - сказал задумчиво Гума.
- Верно, помню, - подтвердил Мануэл.
- Он был так влюблен в нее. Она его бросила, и он даже шхуну
назвал так, как она его самого звала - "Совой".
- Чудак какой-то, - Мадалена сделала насмешливую гримаску, -
никогда другого такого не видала...
- Ты очень дружил с Руфино, правда? - Жоан Младший вдруг
обернулся к Гуме.
- Почему вы спрашиваете? - Гума явственно слышал теперь песню
слепого.
- Говорят, он убил жену, она ему рога наставляла с матросом
каким-то.
- Я тоже слышала, - подтвердила Мадалена.
- А я в первый раз слышу. И если так, то он прав. Честный был
парень.
- Другого такого ловкого лодочника на всем побережье нет, -
сказал Мануэл.
Гуме слышался голос Руфино, повторявший "братишка, братишка".
Одно его утешало - мысль, что Руфино так и не узнал, что и он, Гума,
его предал. Жоан Младший заключил беседу:
- Я б на его месте того типа тоже прихлопнул...
В эту минуту вошел Манека Безрукий. Он сел за столик рядом с
друзьями и сказал громко, обращаясь ко всем присутствующим:
- Вы уже слышали новость?
Все навострили уши. Манека Безрукий рассказал:
- Шавьер продал шхуну Педроке за бесценок и поступил матросом на
греческий корабль, который сегодня снялся с якоря.
- Что ты говоришь?
- То, что слышите. Ни с кем не посоветовался. Отплыл так с
полчаса назад...
- Из-за этой женщины... - пробормотала Мадалена.
- Говорят, на этом греческом корабле команде жрать нечего, -
заметил негр, сидевший за соседним столиком.
Они вышли. За порогом слепой все пел. Он вытянул руку с
жестянкой, и Жоан Младший бросил в нее монетку в два тостана. Купить
табаку, чтоб выкурить трубку сегодня вечером, уж не придется.
Араб Туфик понес большой ущерб из-за бегства Шавьера. Через пять
дней должен был прибыть большой корабль с грузом контрабандного шелка.
Как доставить его на берег без помощи парусника и надежного человека,
который управлял бы этим парусником? Он объяснил Ф. Мураду:
- Все потому, что пьяница был. На того, кто пьет, надеяться
нельзя. Я теперь договорюсь с кем-нибудь понадежней.
- Договорись как можно скорее. Необходимо доставить груз вовремя.
Туфик отправился на пристань. Попробовал выспросить у сеу Бабау,
как там с финансами у моряков. Узнал о том, что случилось накануне,
узнал, что хозяин таверны ссудил деньгами Гуму, что дело чуть не дошло
до продажи "Крылатого бота". Спросил:
- А можно на него положиться?
- На Гуму?
- Ну да.
- Нет на всем побережье человека честней его.
Араб сразу же и отправился к Гуме. Ливия открыла:
- Гума ушел, но он скоро вернется, сеу Туфик. Вы подождете?
Он сказал, что подождет. Пройдя в комнату, он сел на единственный
(и дырявый) стул и, задумчиво вертя в руках шляпу, смотрел сквозь
открытую дверь на ребенка, бегающего по лужам во дворе. И вдруг Туфик
вспомнил, что Родолфо сказал ему однажды (Туфик разыскал его, чтоб
узнать, не согласится ли Гума участвовать в одном контрабандном деле):
"Мой зять не тот человек, что тебе нужен, турок". Никогда не пойдет он
на такое, уверен был Родолфо. И сейчас Туфик подумал, что может, и не
стоит дожидаться. Но надо было срочно найти замену Шавьеру. Гума
подходил по многим признакам: лучше всех умеет управлять парусником,
судно у него легкое и быстроходное, да к тому ж он остро нуждается в
деньгах, долгов много. Но хватит ли у него храбрости ввязаться в
подобные дела? О каких-то там принципах Туфик даже и не вспомнил, но
вот хватит ли храбрости?.. Он встал и подошел к окну. Гума показался в
конце улицы. Увидев Туфика, зашагал быстрее.
- Что хорошего, сеу Туфик?
- Я хотел поговорить с вамн.
- К вашим услугам...
Ливия вошла в комнату и смотрела на мужчин с тревогой. Гума
предложил:
- Выпьете, сеу Туфик?
- Разве что стаканчик.
- Ливия, угости сеу Туфика.
Туфик указал на ребенка во дворе:
- Сынок?
- Он самый.
Ливия принесла выпивку. Туфик налил себе. Когда Ливия вышла, он
придвинул свой дырявый стул к ящику, на котором сидел Гума:
- Простите, сеу Гума, за вопрос, но как у вас с деньгами?
- Да неважно, сеу Туфик, по совести сказать, неважно. Застой,
сами знаете. А вам зачем?
- Да, плохие времена, очень плохие. Но и сейчас человек
решительный может заработать много денег.
- Не вижу как...
- Вы еще не выплатили за новый бот, правда?
- Пока что нет. А как же вы считаете, можно заработать?
- Вам известно, что Шавьер уехал?
- Известно. Жена его здесь появилась.
- Какая жена?
- Его. Он был женат.
- Так вот из-за чего... Он ведь у меня работал, вы не знали?
- Слыхал.
- Посадил меня на мель, как вы тут выражаетесь. А работа у него
была такая, что приносила много денег.
- Принимал контрабандный товар?
- Некоторые наши заказы, что прибывали на кораблях...
- Не хитрите со мной, сеу Туфик, не тратьте попусту время. Все
давно все знают. А теперь вы хотите втянуть в эти дела меня?
- Вы смогли бы выплатить за свое судно в течение двух-трех
месяцев. Дело выгодное. За один раз можно заработать не меньше пятисот
мильрейсов.
- Но если дознается полиция, богач пойдет ко дну.
- У нас все так налажено, что не дознается. Дозналась хоть раз?
Он нерешительно посмотрел на Гуму:
- В среду прибывает немецкий пароход. Он доставит большой груз.
Дело выгодное... - Он осекся. - Сколько вы еще должны за бот? Много?
- Примерно восемьсот.
- Вы можете заработать пятьсот одним махом. Крупное дело, три
рейса, не меньше. За одну ночь вы загребете кучу денег.
Он говорил, прижав голову к плечу Гумы, громким шепотом, как
заговорщик. Гума подумал, что, может, стоит пойти на это рискованное
дело раз или два только чтоб выплатить за бот, а потом махнуть этим
арабам рукой - и поминай как звали. Туфик, казалось, отгадал его
мысли:
- Два-три раза проделаете что надо, заплатите за судно, а потом
можете и не продолжать. У меня выхода нет, мне немедля человек нужен.
Освободитесь от долгов. К тому ж речь идет всего об одном или двух
грузах в месяц. А в остальные дни вы свободны, плывите куда хотите,
можете мне и на глаза не показываться.
Туфик смолк и ждал ответа. Гума задумался. Согласиться разве на
первое время? Оплатить судно - и бросить. Сам Туфик предложил это.
Страха Гума не испытывал, его даже привлекали опасные рейсы. Боялся
лишь, что вдруг попадет в тюрьму, и Ливия тогда с ума сойдет от
огорчения. Она уж из-за брата исстрадалась... Он услышал голос Туфика:
- Хотите денег вперед?
Вспомнил Жоана Младшего, задолжавшего помощникам, почти
решившегося продать одну из барж...
- Вы мне дадите вперед сто мильрейсов? Тогда я согласен.
Араб сунул руку в карман брюк, достал сверток бумаг. Это были
письма, квитанции, векселя. И вперемешку со всеми этими грязными,
измятыми бумагами - деньги.
- Вы знаете, где Шавьер принимал грузы шелка?
- Нет. Где?
- В порту Санто-Антонио.
- Близко от маяка?
- Там.
- Ладно.
Гума протянул руку и взял деньги. На пороге показался старый
Франсиско. Туфик простился, тихонько напомнив Гуме:
- В среду в десять. Чтоб судно было наготове.
Старый Франсиско приветствовал Туфика, когда тот уже выходил:
- Добрый день, сеу Туфик.
Ливия поинтересовалась:
- Что он хотел?
- Узнать о Шавьере. Кажется, Шавьер остался ему должен.
Старый Франсиско взглянул недоверчиво. Ливия заметила:
- Я уж думала, он у нас совсем поселился.
Мальчик во дворе заплакал. Гума пошел за ним.
Ночь над землею веяла теплом. Но над морем дул свежий ветер,
пробирающий до костей. На небе в звездах стояла большая желтая луна.
Море было покойно, и только песни, доносящиеся с разных сторон,
нарушали тишину. Неподалеку от "Крылатого бота" покачивался на якоре
"Вечный скиталец", и Гуме слышны были любовные вздохи Марии Клары.
Шкиперу Мануэлу нравилась любовь на палубе в лунные ночи под широким
небом. Посеребренное луною море расстилалось вокруг любящих. Гума
подумал о Ливии, которая сейчас дома, одна, в тревоге. Она никогда не
могла примириться с той жизнью, какую он вел. После гибели "Смелого"
она жила в вечной агонии, после каждого рейса ожидая увидеть мужа
мертвым. Если она теперь узнает, что он впутался в контрабанду, то уж
ни на мгновение не сможет быть спокойной, ибо к страху за его жизнь
прибавится еще страх за его свободу. Ей теперь все время будет он
представляться за решеткой... Гума клянется сам себе, что бросит эти
дела сразу же, как выплатит долг за парусник. Сегодня - первая ночь, и
на рассвете он получит пятьсот мильрейсов. Он отнесет деньги Жоану
Младшему, скажет, что достал у друзей. Останется только доктор
Родриго, ну, а он уж подождет. Еще два таких рейса - и новое судно
будет оплачено. Тогда он подработает немного еще, продаст "Крылатый
бот" и войдет пайщиком в это дело с магазином, которое предлагает дядя
Ливии... Как? Продать "Крылатого"? После стольких жертв? Так трудно
было его приобрести, а теперь вдруг продать за бесценок, чтоб стать
приказчиком в какой-то лавчонке? Оставить море, вольные паруса под
ветром, родной порт? Нет, такое моряку не под силу, в особенности
когда ночь так хороша, так полна звезд, так светла под круглой
луной... Однако уже больше десяти, а Туфика все не видно.
Гума видел, как грузовой немецкий пароход вошел в гавань. Было
три часа дня. Пароход не пристал, он был слишком огромен для здешней
узкой гавани, остался на якоре неподалеку, выпуская огромные клубы
дыма. С палубы "Крылатого" Гума различал огни парохода. Ливия,
наверно, думает, что муж уже ушел в плавание, уже рассекает волны
реки, везя груз в Мар-Гранде. Она ждет его возвращения не раньше
рассвета. Наверно, в волнении, наверно, страшится за него, а когда он
войдет, бросится ему на шею, спрашивая, скоро ли они переедут в город.
Магазин... Продать судно, оставить порт. Он подумал об этом в первый
раз, когда предал Руфино. Во второй - когда потерял "Смелого". Но
теперь ему не хочется этого. На суше умирают так же, как и на море,
страх Ливии - просто глупость. Однако песня, в которой говорится о
том, как несчастна судьба жены моряка, не молкнет в здешних краях.
Слышна и сейчас... Гума с нежностью проводит рукой по борту
"Крылатого". Один лишь "Вечный скиталец" может поспорить с ним. Да и
то потому лишь, что им управляет такой мастер своего дела, как Мануэл.
"Смелый" тоже был хорошее судно. Не такое, однако, как "Крылатый".
Даже сам старый Франсиско, со всем его опытом, говорил, что такого
судна, как это, он еще не встречал. А теперь вот - продать его...
Он услышал, как Туфик спрыгнул с высокого берега на ют
"Крылатого". С ним был другой араб, в кашне, обернутом вокруг шеи,
несмотря на жару. Туфик представил:
- Сеньор Аддад.
- Капитан Гума.
Араб приложил руку к виску, словно отдавая честь. Гума сказал:
- Добрый вечер.
Туфик внимательно осматривал бот:
- Вместительный, а?
- Самый большой в порту.
- Я думаю, за два рейса вы весь груз перевезете.
Аддад кивал головой. Гума спросил:
- Пора отчаливать?
- Подождем. Рано еще.
Арабы уселись на юте, начав длинный разговор на своем языке. Гума
молча курил, слушая песню, доносящуюся со старого форта:
Мой любимый ко мне не вернулся,
он остался в зеленых волнах.
Арабы продолжали свою беседу. Гума вспоминал Ливию. Она думает,
что он в плавании, что он в эту пору пересек уже вход в гавань.
Внезапно Туфик, повернувшись к нему, сказал:
- Красивая песня, правда?
- Очень.
- Жалостная такая.
Второй араб молчал, задумавшись. Потом запахнул пиджак и сказал
что-то по-арабски. Туфик рассмеялся. Гума смотрел на них. Голос,
доносящийся со старого форта, угас, и теперь ясно слышался скрип досок
под телами мужчины и женщины на шхуне шкипера Мануэла.
Примерно около полуночи Туфик сказал:
- Можем отчаливать.
Гума выбрал якорь (Аддад с любопытством разглядывал татуировку у
него на руке), поднял паруса. Судно развернулось и начало набирать
скорость. Показались огни парохода. Снова раздалась песня со старого
форта. Жеремиас в эту звездную ночь приветствовал, верно, луну,
освещающую путь кораблям. На боте Гумы царило молчание. Когда были уже
вблизи корабля, Туфик сказал:
- Остановитесь.
"Крылатый" остановился. Повинуясь жесту Туфика, Гума спустил
паруса. Бот медленно покачивался на волнах. Аддад свистнул условным
свистом. Ответа не последовало. Попытался снова. На третий раз они
услышали ответный свист.
- Можем подойти, - сказал Аддад.
Гума взялся за весла, не подымая парусов. Бот обошел кругом
огромный корабль, причалив к его боку с той стороны, где открывался
путь на Итапажипе. Показалась на мгновение чья-то голова. Послышалось
несколько отрывистых слов на непонятном Гуме языке, и голова скрылась.
Аддад распорядился пройти еще вперед вдоль корпуса корабля. Они
остановились перед большим отверстием. И двое людей начали спускать
тюки шелка, которые Гума и Туфик сразу же складывали в трюме бота.
Никто не заметил их.
Бот медленно отделился от корабля. Уже далеко, после того как
пересекли фарватер, подняли паруса и пошли на большой скорости, не
зажигая фонаря. Ветер был попутный, и вскоре достигли порта
Санто-Антонио. Море здесь волновалось сильнее, и волны подымались
высоко, но бот большой и крепкий и стойко выдерживал их удары. Туфик
заметил:
- Мы быстро дошли.
На пристани их уже ждали. Один из встречавших, хорошо одетый
человек, шагнул вперед:
- Все в порядке?
- Сколько еще рейсов?
- На таком паруснике, как этот, - только один.
Хорошо одетый человек внимательно всматривался в Гуму,
помогающего разгружать тюки шелка. Их следовало затем доставить в один
дом, выходящий задней стеной в порт.
- Это тот самый парень?
- Тот самый, сеньор Мурад.
Гума взглянул на богача. Это был толстый, гладко выбритый
человек, весь в черном. Он опустил руку на плечо Гумы.
- Парень, ты можешь заработать со мной кучу денег. Если не
станешь хитрить.
Еще раз окинул быстрым взглядом груз и сказал Туфику:
- Присмотрите, чтоб все было в порядке. Я ухожу, мой Антонио
заболел.
Антонио был его сын, студент юридического факультета. Богач
обожал своего ученого кутилу. Он все прощал ему и приходил в восторг,
увидев имя сына под какой-нибудь статейкой в газете или журнале...
Поэтому Аддад сказал так участливо:
- Антонио заболел? Я зайду его навестить.
Ф. Мурад, прежде чем уйти, еще раз тронул Гуму за плечо:
- Будь со мной по-хорошему, не раскаешься.
- Будьте спокойны.
За углом, через улицу и еще через переулок, богача ждал
автомобиль.
Кончив разгрузку, "Крылатый" отправился в новый рейс. Трюм его
снова был набит тюками шелка. Гума потерял счет, сколько тюков они
перетаскали. Туфик передал одному из своих помощников пачку денег,
которые тот пересчитал при свете карманного фонаря.
- Все правильно, - сказал с ужасным акцентом человек, стоящий
сзади считавшего.
Судно отчалило, снова пошло по направлению ветра, подняли паруса
и дошли без каких-либо осложнений до порта Санто-Антонио. На сей раз
Туфик предложил Гуме выпить. Судно разгрузили. Аддад вошел в дом и
что-то замешкался. Гума разжег трубку. Туфик подошел к нему.
- Я вам сообщу, когда вы мне снова понадобитесь. - Он вынул два
билета по двести и протянул Гуме:: - Вы никогда не видели этого дома,
ясно?
- Слово моряка.
Туфик улыбнулся:
- Красивая песня, та, что недавно пели, верно?
Он застегнул пиджак и тоже вошел в дом. Гума крепко сжал в руке
два денежных билета. "Крылатый" развернулся на волнах и отошел в
надвигающемся рассвете. И только когда вокруг зашумело широкое море,
Гума почувствовал, до чего устал. Он вытянулся на досках палубы,
пробормотав:
- Можно подумать, что я все время боялся.
Маяк тускло мигал в наступающем рассвете.
Жоан Младший сказал ему:
- Ты человек слова.
- Я взял в долг у жениного дяди. Теперь ему буду выплачивать.
Лавка приносит доход, старик, кажется, собирается открыть большой
магазин. Даже предлагал мне стать его компаньоном.
- Я однажды застал его у вас.
- Хороший старик.
- Сразу видно.
Дней через десять явился Родолфо. Гума накануне вернулся из рейса
в Кашоэйру и еще спал. Старый Франсиско ушел за покупками. Родолфо
немножко поиграл с малышом и разговорился с Ливией:
- Ты все еще так же беспокоишься?
- Когда-нибудь привыкну... Придет такой день.
- Да что-то долго не приходит.
Он взглянул на племянника, тянувшего его за руку - показать
игрушечный кораблик в тазу. И снова обратился к сестре:
- Ты ведь хотела, чтоб он поступил работать к старикам, в лавку.
- Я б рада была, конечно.
- Так момент наступил...
- Что ты хочешь этим сказать? - встревожилась она.
Он искоса взглянул на нее. Если б она знала, то встревожилась бы
куда сильнее.
- Да ничего особенного. Из-за малыша. Растет ведь, потом
привыкнет тут - и не оторвешь.
Она смотрела все еще недоверчиво, но немножко успокоилась:
- Я думала, случилось что-нибудь.
И вдруг спросила:
- Где ты достал деньги, которые дал в долг Гуме?
- Я? - Но он быстро понял: - Мне подвернулась выгодная работа. Я
б все равно пустил эти деньги на ветер...
Она подошла и погладила его по голове:
- Ты такой добрый.
Гума проснулся. Пока Ливия варила кофе, Родолфо спросил:
- Ты что, с контрабандой связался?
- А ты откуда знаешь?
- Я все о таких делах знаю. Я даже сам раз пришел к тебе с
поручением от Туфика, но ничего не сказал - сестру пожалел.
- В прошлый раз?
- Ну да.
- Ты не бойся, я там не приживусь. Выплачу за судно - и конец.
Немного уж осталось.
- Будь осторожен. Если такое дело провалится, то скандал будет
громкий. С Мурадом ничего не стрясется, у него больше десяти тысяч
накоплено, вылезет. Но под удар попадут такие бедняки, как ты. Имей
это в виду.
- Я там долго не задержусь. Я не хочу, чтоб Ливия...
- Днем раньше, днем позже она все равно узнает. Какие деньги я
тебе дал?
Гума засмеялся.
- Ты оказался на высоте?
- Да чуть не засыпался. Будь осторожней. Дело это опасное.
Ливия вошла, неся кофе и лепешки из маисовой муки.
- Вы что тут секретничаете?
- Ни о чем мы не секретничаем. Мы про малыша говорили.
- Родолфо вот тоже считает, что нам хорошо было бы перебраться
поближе к родственникам.
- Из-за мальчонки,- подтвердил Родолфо.
- Подожди, чернявая. Вот выплачу за бот - и переедем. Подработаю,
войдем в пай. Теперь уж недолго.
Гума ласково обхватил жену за талию. Она села к нему на колени.
- Мне так страшно...
Родолфо опустил голову.
Во второй раз груз был маленький - французские чулки для франтих
и духи. Гума получил сто мильрейсов. Все обошлось благополучно. На сей
раз Ф. Мурад тоже отправился с ними на "Крылатом" и долго совещался о
чем-то с одним пассажиром большого корабля. Потом заплатил много
денег. Когда возвращались, сказал Гуме, мрачно сдвинув брови:
- Ты никогда не видал меня на борту какого-либо корабля, парень.
- Само собой разумеется.
- Я слыхал о тебе. Говорят, ты парень смелый. Сколько еще ты
должен за твой бот?
- Когда внесу сегодняшнее сто, останется только триста пятьдесят.
- Еще несколько рейсов, и бот твой. А потом ты нас покинешь?
- То есть буду ли дальше работать на вас, сеньор? Думаю, что нет.
- Не будешь?
- Я ведь с самого начала так и сказал сеу Туфику. Что я возьмусь
за это, но когда захочу - перестану. Я затем только и взялся, чтоб
выплатить за бот.
- Никто тебя не держит.
- Вы не бойтесь, я ничего никому не расскажу. Рта не раскрою.
- Я и не боюсь. Я знаю, что ты парень честный. Мне только
кажется, что если б ты остался с нами, то мог бы заработать много
денег.
Он опустил руку на плечо Гумы:
- Ты находишь эту работу очень опасной?
- У меня жена и сын. Завтра полиция нападет на след и (он
вспомнил слова Родолфо)... Вам-то, сеньор, ничего не будет. Вы богач.
Удар падет на мою спину.
Ф. Мурад понизил голос:
- Ты думаешь, никто не знает, что я занимаюсь контрабандой? В
полиции у меня есть свои люди. Я их купил. Мне трудно будет найти
другого такого парня, как ты.
Они продолжали путь в молчании. Когда стал виден берег, Мурад еще
раз повторил:
- Если останешься с нами, заработаешь много денег.
- Я поразмыслю. Если решу...
- Туфик говорил, что через месяц ожидается большой груз. Можно
заработать двести мильрейсов, а то и больше...
На следующий день он понес свой долг доктору Родриго. Заработал в
последнем рейсе, сказал он. В Кашоэйре играл в рулетку и повезло.
Поставил пятерку, а выиграл сто двадцать. И поскольку в этом месяце он
уже заплатил часть Жоану Младшему, то теперь вот пришел отдать эту
сотню доктору, с благодарностью. Родриго вначале не хотел брать.
Сказал, что Гуме, верно, самому нужно. Но Гума настоял. Чем раньше он
выплатит все долги, связанные с покупкой судна, тем ему будет легче.
От доктора он отправился договариваться о рейсе в Санто-Амаро. За
грузом вина. Обычные рейсы - это на жизнь. Деньги за контрабанду -
только на оплату парусника. Выплатив все долги, придется, видно, еще
немножко поработать на арабов, чтоб добыть еще примерно сотню. Тогда
уж можно будет удовлетворить мечту Ливии - переехать в город и открыть
магазин вместе со стариками. Может, даже и не придется продавать
"Крылатого". Можно отдать его шкиперу Мануэлу или Манеке Безрукому
напрокат, основав с ними товарищество. Оба с удовольствием возьмут в
дело второй парусник. А у Манеки Безрукою так и вовсе одна лодчонка -
он будет рад иметь возможность плавать на "Крылатом", так он гораздо
больше заработает. А ему, Гуме, не придется окончательно расставаться
с морем. Он сможет иногда тоже уходить с ними в плавание. Он не
перестанет быть моряком, не оторвет от сердца все, что связано с
морем. Он исполнит желание Ливии и сам будет доволен, переедет в
город, не разлучаясь с морем. Вот это план! Лучше не придумаешь! Но
чтоб осуществить его, придется еще некоторое время заниматься
контрабандой, чтоб накопить денег и войти в пай с дядей. Еще месяца
два-три, еще несколько рейсов - и хватит. Дело-то выгодное, тут ничего
не скажешь. Жаль только, что вдруг вместо денег можно заработать
тюрьму. Если б все раскрылось, скандал был бы на весь свет. У Ф.
Мурада накоплено десять тысяч конто, спина-то у него крепкая, не
сломается. Но он, Гума, у которого один бот, да и то пока что не
свой... (Конто - старинная бразильская денежная единица, равная тысяче
мильрейсов.)
Нет, страха он не испытывал. И если думал об опасности
контрабанды, то только из-за Ливии и сына. Перед его глазами все время
был малыш, возившийся с корабликом у таза с водой. Маленький капитан.
Любит море, сразу видно, что сын моряка. Когда вырастет, будет
управлять "Крылатым ботом", не один рейс совершит в этих водах. Станет
хвастать, что отец был лучший рулевой здешних мест, что, даже
перебравшись в город, он не продал свой парусник и теперь еще время от
времени уходит с сыном в плавание... Гума ласково провел рукой по
борту "Крылатого"...
Спустившись в трюм, он увидел сверток шелка. Совсем забыл...
Накануне Ф. Мурад отдал ему этот отрез со словами:
- Подари твоей жене.
Торопясь домой, он совсем забыл об этом. Ливия будет рада. У нее
мало платьев, и все плохонькие. Теперь у нее будет нарядное платье,
как у городской модницы.
Гума еще прибрал немного на судне и пошел домой. После обеда он
закончит сегодняшние дела... Ливии ожидала его, сидя на окне с сыном
на коленях. Он сразу показал ей шелк.
- Забыл утром на боте.
- Что это?
- Посмотри сама...
Он вошел. Она спрыгнула с окна, спустила малыша на пол.
Внимательно рассматривая материю, сказала:
- Но это же дорогой шелк... - И в глазах ее был тревожный вопрос.
- Я его выиграл в лотерею на ярмарке в Кашоэйре.
- Ты врешь. Почему ты мне правду не скажешь?
- Какую правду? Я выиграл в лотерею, и все.
Она медленно сложила шелк. Минуту помолчала, потом сказала вдруг:
- Зачем ты хочешь, чтоб я все узнала от других?
- Да о чем ты?
- Так хуже.
- Ты просто сумасшедшая...
- Ты думаешь, я не знаю уже? Плохое быстро узнаешь. Ты связался с
контрабандой, так?
- Тебе Родолфо сказал?
- Я его почти не вижу. Но все на пристани знают, что ты заступил
на место Шавьера...
- Вранье.
Но невозможно было долее отпираться. Лучше все рассказать.
- Ты разве не понимаешь, что мы завязли по уши и не было другого
выхода? Жоан Младший хотел уж перепродать "Крылатый бот" кому-нибудь
другому, тогда б мне пришлось наняться лодочником и мы никогда бы
отсюда не уехали, как ты хочешь.
Ливия слушала молча. Малыш выбежал из-за двери и ухватился за
подол матери. Гума продолжал:
- Ты же видишь... Я сделал для них всего три рейса, а уж оплатил
почти весь долг за судно. Через месяц у нас будут деньги, чтоб
переехать в город и войти в дело твоего дяди. - Он с трудом выдавил: -
Если я впутался в это, так ведь из-за тебя и из-за сына.
- Мне страшно, Гума. Не добрые это деньги. В один прекрасный день
все обернется по-иному, что тогда с нами будет? Я и раньше боялась за
тебя, а теперь вдвойне...
- Так это ж ненадолго. Ничего не раскроется, как может
раскрыться? Ты думаешь, полиции ничего не известно? Все ей превосходно
известно, она этими известиями по горло сыта. И деньгами сеу Мурада.
- Может, из полиции всего двое каких и знают. Когда-нибудь придет
настоящий начальник, серьезный, и разом со всем покончит.
- Тогда меня уж это не будет касаться. Через три, самое позднее -
четыре месяца я все это брошу. А может, и раньше. Немножко поднакоплю
и...
- Сейчас, вижу, ничего уж не поделаешь, - произнесла Ливия
печально. - Но ты мне обещаешь, что оставишь это, как только сможешь?
Что переедешь со мною в верхний город?
- Обещаю твердо.
Тогда она развернула отрез щелка. Красивая материя. Она набросила
шелк на себя, примеряя, как будет выглядеть платье. Улыбнулась:
- Сошью, только когда ты бросишь эти дела.
- Значит, скоро.
И Гума принялся рассказывать перипетии своих контрабандных
рейсов.
Следующее плавание не дало того, что обещал Туфик. Груза прибыло
меньше, чем ожидали, как объяснил арабам их соотечественник с парохода
в нескончаемом разговоре на непонятном Гуме языке. Гума получил только
сто пятьдесят мильрейсов. Туфик сообщил ему, что ожидается еще груз на
этой же неделе. Но тут разразилась забастовка докеров и портовых
грузчиков. Лодочники, матросы и капитаны мелких парусных судов в
большинстве своем присоединились к бастующим. Забастовка окончилась
успехом, плата за перевозки увеличилась. Но начались преследования, и
одному докеру, по имени Армандо, пришлось бежать, скрываясь от
полиции. Случилось так, что укрылся он на боте Гумы, отправлявшемся в
плавание уже по новому тарифу. И на палубе, под звездным небом, докер
рассказал Гуме многое, чего тот не знал до сих пор. И эта ночь стала
для Гумы не ночью, а близящимся рассветом.
Доктор Родриго очень помогал бастовавшим докерам. Когда все
закончилось, он написал поэму, кончающуюся намеком на то, что чудо,
которого ждала дона Дулсе, начинает осуществляться. Она согласилась,
улыбаясь. Она за последнее время сгорбилась еще больше, но, послушав
поэму, даже как-то распрямила плечи. И улыбалась, счастливая.
Наконец-то она нашла слово, новое слово, чтоб сказать его обитателям
бедных этих жилищ. Теперь они действительно могли называть ее добрым
другом. Она знала, как отблагодарить их. Она снова обрела веру. Но
только вера ее была теперь иная.
В небе над Санто-Амаро звезда Скорпиона исчезла. Спустилась,
наверно, к бастующим докерам.
Гума проделал еще несколько рейсов для Туфика. Оплатил бот. Он
даже подружился с арабом - такой всегда приветливый... Аддад, тот
продолжал упорно и мрачно молчать, выцветшее кашне болталось вкруг его
шеи. Мурад появлялся редко, только когда нужно было переговорить о
чем-то важном со своими людьми на пароходе. Теперь у Гумы было
отложено двести пятьдесят мильрейсов и долгов больше не было. Ливия
уже говорила о переезде в верхний город как о чем-то очень скором, что
должно произойти буквально на днях. Осталось приработать совсем
немного - и можно будет внести пай в лавку дяди. Старик тогда сможет
отдохнуть, ему становится очень трудно работать. Парусник перейдет к
Манеке Безрукому, который будет каждый месяц выплачивать определенную
сумму старому Франсиско. Привычный страх почти покинул Ливию, она
ждала теперь спокойнее. В последнее время все шло так хорошо. Даже
тарифы стали выше, жизнь на пристани понемногу налаживалась, кризис
прошел - моряки сумели пережить его.
Ливия любила теперь проводить ночи на палубе, когда малыш гостил
в городе у дяди с теткой. Она подолгу лежала возле Гумы, подложив руки
под голову, слушая песни пристани, глядя на желтую луну, на звезды без
числа, чувствуя близкое присутствие Иеманжи, расстелившей свои волоса
по водной глади. И думала, что море - и правда друг, нежный друг. И
жалела Гуму, которому приходится оставить море, оставить свою судьбу.
Но они не продадут парусник, - когда море так вот спокойно, они будут
приходить сюда для мирной прогулки по волнам, смотреть на звезды и
луну над морем, слушать эти печальные песни. И снова будут обнимать
друг друга на палубе своего бота. Волны будут омывать их тела, и
любовь от этого будет еще слаще. Кожа будет пахнуть морскою солью, в
ушах отзовется тихий свист ветра, стон гитар и гармоник под пальцами
негров, глубокие их голоса и голос Жеремиаса, поющий на старом форте
вечную свою песню. Не услышат они только голос Руфино, потому что
Руфино убил себя из-за изменщицы-мулатки. Увидят они, как плывут,
грозно разрезая гребни волн, акулы, залюбуются прекрасными волосами
Иеманжи, хозяйки всех морей и всех парусов. И Гума нежно проведет
рукой по борту верного своего бота. Они ведь будут так скучать по
всему этому там, в городе... Нет, "Крылатый" не перейдет в чужие руки,
он по-прежнему останется с ними. А "Смелого" они тоже будут
вспоминать... Мысль о том, что сын воспитывается в городе, что его
ждет хорошее будущее, утешит их сердца, и принесенная ими жертва
покажется менее тяжкой. Но все-таки будут они тосковать, ужасно
тосковать по морю, так, как тоскуют только по родному существу. Ибо
нет человека, который родился бы или долго прожил на море и не любил
бы его всем сердцем и всею кровью. Любовь эта бывает полна горечи.
Бывает полна страха и даже ненависти. Но не может быть равнодушной. И
потому ей нельзя изменить и невозможно забыть ее. Ибо море - это друг,
ласковый друг. И, быть может, море - это и есть те самые земли Айока,
что для моряков становятся родиной.
Роза Палмейрао больше не носила ножа за поясом и не прятала на
груди кинжал. Известие, посланное ей Гумой, догнало ее где-то на
севере, в какой-то жалкой каморке, за которую она не платила, потому
что владелец боялся ее. Когда незнакомый матрос разыскал ее и сказал:
"Гума просил передать, что твой внук уже родился", - она вытащила нож
из-за пояса и вынула кинжал, спрятанный на груди. Правда, до того как
делать это, она еще раз воспользовалась ими, чтоб "добыть Обратный
билет".
Ливия приняла ее как друга, с которым давно не видались.
- Этот дом - ваш.
Роза опустила голову, крепко прижала к груди ребенка, который
вначале испугался, потом с усилием улыбнулась:
- Гума - парень везучий.
Малыш спросил: раз это бабушка, так, значит, жена дедушки
Франсиско? Тогда Роза заплакала. Теперь ей уже можно было плакать,
ведь у нее не было ножа за поясом и кинжала на груди... Она стала
носить скромное платье и по целым часам просиживала у порога с внуком
на руках.
Иногда вечерами слыхала она, как поют на пристани АВС о ее
подвигах, и слушала, зачарованная, словно пели не о ней, а о ком-то
другом. Только море посылает своим сынам и дочерям подобные дары
смирения, только море...
Впервые пришлось Гуме везти контрабандный груз в разгар бури. Но
он видел, что Ливия не очень встревожилась (в последнее время она была
спокойна, ведь ждать осталось так недолго), и вышел из дому в хорошем
настроении. Туфик ждал его на борту, и на сей раз, кроме Аддада, с
ними отправлялся еще один молодой араб. Это был Антонио, сын Ф.
Мурада, студент и литератор, которому любопытно было взглянуть, как
перевозят контрабандные товары.
Тучи сгущались на небе, ветер бешено рвал паруса. Большой
корабль, поджидавший их далеко в море, был едва различим с палубы
бота. Туфик сказал:
- Вы находите, что будет буря?
- Еще какая...
Араб повернулся к сыну Ф. Мурада:
- Лучше б вы шли домой, сеу Антонио,
- Оставьте, пожалуйста. Так даже интереснее. Картина полнее. - Он
обернулся к Гуме: - Вы думаете, есть опасность, капитан?
- Всегда есть опасность.
- Тем лучше
Судно отчалило. Но не дошли еще и до волнолома, как хлынул дождь.
Гума с трудом спустил паруса, и стали ждать сигнала с парохода.
Приблизились с трудом, орудуя веслами. Туфик нервничал. Аддад плотней
завязал кашне вокруг шеи. Антонио насвистывал, бравируя равнодушием,
которого в действительности не испытывал. Парусник причалил к
пароходу, тюки шелка начали совершать свой обычный путь. Но грузить
было трудно, волны набегали частые и сильные, дождь падал яростный, и
судно то подымалось, то опускалось, относимое в сторону от корабля.
Наконец закончили погрузку. Гума развернул бот на бушующих волнах,
прошли за волноломом, поплыли в направлении Санто-Антонио.
Дикий ветер толкал их куда хотел. Не было в море ни единого
суденышка, только лодка, приставшая у самого старого форта, не решаясь
двинуться дальше. Ветер гнал "Крылатого" прочь с намеченного пути, бот
был перегружен до крайности, маневрировать становилось все труднее.
Гума, нагнувшись, вцепился в руль, волны мели палубу с обоих бортов.
Аддад пробормотал:
- Шелк весь промокнет.
И стал искать на палубе доски, чтоб закрыть отверстие трюма. Он
не видел бури, не видел грозящей смерти, видел только шелк, который
промокнет и пропадет. Гума взглянул на него с восхищением. Туфик
нервничал, он боялся за сына хозяина. Студент был бледен и стоял,
прислонившись к мачте, молча. Один лишь раз он нарушил молчание, чтоб
спросить Гуму:
- Вы думаете, мы погибнем?
- Можем и спастись. Все - судьба.
Путь продолжали в молчании. Держались верного курса, но их все
время относило далеко в сторону, к открытому морю, туда, где кончалось
владение маленьких парусных судов и начинались пространства,
подвластные лишь большим, мощным кораблям. Словно исполнялась, помимо
его воли, мечта Гумы - отправиться в путешествие к дальним и чужим
землям, подобно Шико Печальному. Они видели, как освещал их путь -
предназначенный им путь - спасительный огонек знакомого маяка. Они и
плыли туда, но не прямо, а далеко в стороне, на границе открытого
моря, неведомого моря, того самого таинственного моря-океана, где
произошло столько приключений, о которых повествуется в историях,
рассказываемых по вечерам на пристани.
Напротив них находился порт Санто-Антонио. Но их отнесло совсем в
сторону, Гуме очень трудно маневрировать, чтоб ввести парусник в порт
и поставить на причал. Впереди неподалеку - острые рифы под тонким
слоем воды. Гума с трудом разворачивается на волнах, но валы-колоссы
подымают легкий бот и с силой швыряют на подводные камни. Излишний
груз, сложенный в трюме, оказался "Крылатому" не под силу, и он
перевернулся, как игрушечный кораблик. Стаи акул ринулись на
затонувший бот со всех сторон, они - всегда настороже, не упустят
кораблекрушения.
Гума увидел, как Туфик борется с волнами. Он схватил араба за
руку, взвалил себе на спину. И поплыл к берегу. Слабый свет из порта
Санто-Антонио тонул в темных волнах, но маяк послал широкую полосу
света, осветившую дорогу Гуме. Взглянув назад, он увидел скопище акул
вокруг разбитого бота и две человеческие руки, трепещущие в воздухе.
Он положил Туфика на песок пляжа и, едва успев подняться, услышал
голос Ф. Мурада:
- А мой сын? Мой Антонио? Он был с вами! Был, да? Спасите его.
Спасите. Я отдам вам все, что ни попросите!
Гума едва держался на ногах. Мурад умоляюще протягивал к нему
руки:
- У вас тоже есть сын. Ради любви к вашему сыну...
Гума вспомнил Годофредо в день спасения "Канавиейраса". Все, у
кого есть дети, так вот умоляют. У него самого тоже есть сын...
И Гума снова бросился в воду.
Он плыл теперь с трудом. Он уже и раньше устал - от трудного
этого пути сквозь бурю. И еще ему пришлось плыть с Туфиком на спине,
борясь с волнами и ветром. И теперь силы его с каждой минутой убывали.
Но он плыл дальше. И застал еще Антонио на поверхности воды,
держащимся за корпус перевернутого судна, напоминающего тело мертвого
кита. Он схватил юношу за волосы и поплыл обратно... Но что это? Море
как будто не пускает его... Акулы, уже пожравшие Аддада, вереницей
следуют за ним. Гума держит в зубах нож, волоча Антонио за волосы.
Там, впереди, над черным морем, видится ему Ливия - почти спокойная,
терпеливо ожидающая перемены их жизни к лучшему, Ливия, родившая ему
сына, Ливия - самая красивая женщина на пристани... А акулы все ближе,
догоняют его, и силы его уже иссякли. Он и Ливию не видит больше. Он
знает только, что должен плыть, плыть, потому что спасает сына - сына
Ф. Мурада или своего сына, он уже не знает теперь. А там впереди -
Ливия, Ливия ждет его. Волны моря сильны и громадны, ветер свистит
оглушительно. Но он плывет, разрезает руками воду. Он спасает сына.
Быть может, это его сын?
Почти у самого берега, там, где уже виден грязный песок порта
Санто-Антонио, он не выдерживает и разжимает пальцы. Однако берег
настолько близок, что волны несут Антонио прямо в объятья Ф. Мурада,
который восклицает: "Сын мой! - и кричит: - Доктора! Скорее..."
Гума тоже хочет на берег. Но стая акул заставляет его обернуться,
схватившись за нож. И он еще сражается, еще успевает ранить одно
чудовище, окрасить его кровью кипящие вокруг волны... Акулы увлекают
его туда, где из воды еще виднеется опрокинутый корпус "Крылатого
бота"...
Буря побушевала некоторое время и стихла. Луна встала на небе, и
Иеманжа распустила свои волоса по волнам, там, где исчез в морской
глубине Гума. И увлекла его в таинственное путешествие к таинственным
землям Айока, куда отправляются только смелые, самые смелые моряки.
Ветер выбросил "Крылатый бот" на песчаный берег порта.
Вот здесь погрузилось в воду тело Гумы. Шкипер Мануэл остановил
свою шхуну, спустил паруса. На палубе "Вечного скитальца" - доктор
Родриго, Мануэл, старый Франсиско, Манека Безрукий, Мария Клара и
Ливия с сухими глазами.
Они прибыли сюда рано утром. "Крылатый бот" удалось повернуть. В
корпусе был пролом, но небольшой, плотник за несколько часов заделал
его. Шкипер Мануэл привел бот в родную гавань. После завтрака пошел за
Ливией. Роза Палмейрао и тетка Ливии остались с малышом, Манека
Безрукий отправился вместе со всеми.
Вот здесь, как раз здесь, тело Гумы погрузилось в воду. Теперь
море спокойное и голубое. Вчера оно было бурное и зеленое. Но глазам
Ливии оно предстает остановившимся - недвижная масса стоячей воды
свинцового цвета. Оно тоже словно умерло, море. Вместе с Гумой.
Все молчат. Старый Франсиско зажигает свечу. Каплет воском на
блюдце, приклеивает. И осторожно опускает блюдце на гладь моря. Все
глаза неотрывно следят за, свечой. Доктор Родриго не верит, что
зажженная свеча может указать место, где под водой лежит утопленник.
Но доктор молчит.
Медленно удаляется свеча. Тихонько покачиваясь, плывет по волнам.
Подымается и опускается, словно крохотный корабль-призрак. Все глаза
неотрывно следят за нею, все рты плотно сжаты. Доктор Родриго вновь
видит Гуму, укрывающего в трюме раненого Траиру, спасающего
"Канавиейрас", вытаскивающего потерпевших кораблекрушение,
перевозящего контрабандные грузы, чтоб заплатить долги. Старый
Франсиско вновь видит Гуму на палубе, весело рассекающего волны килем
своего бота. Шкипер Мануэл вновь видит Гуму в "Звездном маяке", что-то
рассказывающего своим свободным, чистым голосом и характерным
движением руки отбрасывающего назад длинные черные волосы. Мария Клара
вспоминает, как под звуки ее песни состязался он в быстроте с
Мануэлом. Манека Безрукий вспоминает о стычках и ссорах между ними, не
мешавших им оставаться добрыми друзьями. Только Ливия не видит Гуму,
только она не вспоминает о нем. Только она одна надеется еще обрести
его.
Свеча кружится по воде. Свинцовая вода для взора Ливии, свинцовая
вода мертвого моря. Море без волн, море без жизни, мертвое море. Свеча
останавливается. Старый Франсиско говорит тихо:
- Он там.
Все смотрят. Шкипер Мануэл сдергивает рубашку, бросается в воду.
Манека Безрукий тоже. Оба ныряют, снова появляются на поверхности,
снова ныряют. Но свеча плывет дальше, поиски продолжаются...
Завтра старый Франсиско велит вытатуировать у себя на руке имя
Гумы. Рядом с именами пяти затонувших шхун. И еще - брата. И еще -
отца Гумы. Теперь рядом со всеми этими именами напишут имя племянника.
Единственное имя, которое он никогда не напишет у себя на руке,
принадлежит его брату Леонсио, человеку, потерявшему свой порт. А
может быть, когда-нибудь придется еще написать на левой руке имя сына
Гумы - второго Фредерико. Тогда будут два одинаковых имени - деда и
внука. Но нет, Ливия, конечно же, увезет его подальше от моря,
переедет с сыном в верхний город, к дяде с теткой. Так что имя сына
Гумы никогда не появится на левой руке Франсиско рядом со всеми
другими... Свеча медленно плывет дальше...
Этой еще не так плохо, думает доктор Родриго про Ливию, у нее
есть родственники, она будет теперь жить с ними, помогать в лавке.
Другим хуже, для них остается только один путь - на улицу. Да, Ливия
заслуживала иной участи. Очень сильно любила она мужа, пожертвовала
из-за этой любви возможностью сделать лучшую партию. Теперь у нее
остался сын, остался бот, уже ненужный, ибо некому им управлять...
Теперь она ищет тело мужа, неотрывно следя за плывущей по воде
свечой... Солнце встает, заливая белым светом море.
Свеча, кажется, не собирается остановиться никогда. Шкипер Мануэл
смотрит на свечу. Гума был хороший рулевой, единственный, кто мог
победить шкипера Мануэла в состязании на быстроту. Он тихо говорит
Марии Кларе:
- Хороший был малый. Храбрец...
Все услыхали эти слова. Хороший был малый, умер очень молодым.
Единственный, кто мог обогнать шкипера Мануэля. Мария Клара вспомнила:
- Он как-то раз обогнал тебя...
- Но в первый раз я его обогнал. Мы были равны с ним, зато и
состязались.
Ливия смотрит на воду. У нее сухие глаза. Нету слез. Она уже
выплакала их все - в первый час, как узнала. Но слезы ее высохли, она
не думает ни о чем, не слышит ничего, не видит никого. Словно люди
говорят где-то далеко-далеко, о чем-то, что ее совсем не касается. Она
смотрит на свечу, плывущую по воде. Все как-то затуманилось у нее в
мозгу, она словно и плохо помнит, что произошло. Ей хочется только
увидеть Гуму в последний раз, увидеть его тело, взглянуть в его глаза,
поцеловать его губы. Неважно, что тело его уже изуродовано и вздуто,
неважно, что раки уже пожирают его. Неважно: Ливия хочет видеть своего
мужа, единственного мужчину, которого любила. И внезапно она приходит
в себя и начинает понимать, что произошло. Начинает понимать...
Никогда уж больше не будет лежать она рядом с ним на палубе "Крылатого
бота". Никогда уж больше не увидит, как курит он свою трубку,
рассказывая о чем-то своим неторопливым голосом. Останется только его
история - одна из многих, которые помнит старый Франсиско. Ничего
больше не останется от него. Даже сына не останется, ибо сын пойдет
другим путем, подымется в верхний город, забудет пристань, паруса,
море-океан, которое так любил его отец. Ничего не останется от Гумы.
Только история, которую старый Франсиско оставит в наследство морякам,
когда настанет наконец его черед уйти в вечное плавание с Жанаиной...
Свеча остановилась. Манека Безрукий бросается в воду. Плывет,
ныряет. Безрезультатно. Но свеча неподвижна на волнах. Голова Манеки
показывается из воды:
- Я ничего не нахожу.
Шкипер Мануэл тоже ныряет. Ничего... Манека Безрукий вскарабкался
на палубу. Свеча стоит на воде, не двигаясь с места. Мануэл плывет,
ныряет, ищет в самой глубине. Нет тела Гумы. Исчезло. Старый Франсиско
говорит с убеждением:
- Здесь, это точно.
Теперь ныряют Манека и Мануэл одновременно. Ничего... Выплыли.
Старый Франсиско сдергивает рубаху и бросается в воду. Он уверен, что
это здесь.
Но и старый Франсиско ничего не нашел. Ветер пробегает по волнам,
и свеча плывет дальше. Пловцы возвращаются на палубу. Старый Франсиско
не теряет надежды:
- Он был здесь, но теперь уже далеко.
Ливия опустила руки. Она знала, что должна отыскать тело Гумы.
Больше она ничего не знала и не хотела знать. Она должна увидеть его в
последний раз, проститься с ним. Тогда она сможет уйти отсюда
навсегда, повернуться спиной к морю, пристани и парусам.
Свеча плывет теперь далеко от них. Судно старается нагнать ее.
Доктора Родриго уже охватывает нетерпение - слишком долго плывет эта
свеча. Он не верит в подобные приметы, насмехается над ними, но люди
рядом с ним полны такой веры, такой надежды, что он в конце концов
подпадает под их влияние и теперь тоже неотрывно следит за свечой. И
первый кричит:
- Остановилась!
- Вон там,- указывает Франсиско.
Снова ищут, снова ныряют - и снова безрезультатно. Да и свеча
остановилась ненадолго, вот уж плывет дальше. И они продолжают свой
путь - бот медленно движется за свечой.
...Никогда больше не обнимет он ее на палубе "Крылатого". Никогда
больше не станут они слушать вместе песни моря. Необходимо найти тело
Гумы - для того хоть, чтоб в последний раз плыли они вместе на палубе
своего бота. Он умер, спасая двоих, - это самая геройская смерть для
моряка, такой смертью умирают излюбленные сыны Иеманжи. Он оставил по
себе красивую славу, мало было таких храбрых и ловких капитанов, как
он. Но Ливия не хочет предаваться воспоминаниям. Ее глаза следят за
свечой, которая все плывет, плывет, все ищет, ищет бесполезно, вместе
с людьми. Малыш дома, верно, плачет, зовет ее и отца. Роза Палмейрао,
верно, украдкой вытирает глаза, она ведь любила Гуму как сына. Голова
Ливии бессильно падает на сложенные руки. Доктор Родриго осторожно
касается ее волос - и снова наступает тишина.
Шкипер Мануэл зажигает трубку. Мария Клара обнимает Ливию,
пытается утешить: "Такова наша судьба". Мария Клара родилась на море,
жила всегда у моря. Для нее это закон, беспощадный закон: приходит
такой день, когда мужчина навек остается в морских волнах, погибает
вместе с затонувшим кораблем. А женщина ищет тело мужа и ждет, пока
вырастет сын, чтобы увидеть и его гибель. Но Ливия не родилась на
пристани. Она пришла из города, пришла из другой судьбы. Длинная
дорога моря не была ее дорогой. Она вступила на эту дорогу из-за
любви, потому-то и не умеет она смириться. Она не может принять этот
закон моря как неизбежность, подобно Марии Кларе. Она боролась, она
почти уж победила. Почти уж победила... Все было так близко... Рыдания
разрывают грудь Ливии.
Старый Франсиско опустил голову. Мария Клара сжимает руку
Мануэла, словно желая защитить его от грозящей и ему смерти. Словно
смерть витает вокруг них. Воды моря спокойны, для Ливии они мертвы -
стоячая вода, свинцовое море, мертвое море.
Свеча снова останавливается. Вечер опускается, солнце село.
Мануэл снова ныряет. За ним - Манека Безрукий и старый Франсиско.
Подымаются на палубу. Мокрое платье прилипло к телу. Темнеет. Манека
говорит:
- Может, он вернется ночью. Они всегда возвращаются ночью...
- Вернется обязательно, - подтверждает старый Франсиско.
Доктор Родриго делает Ливии укол. Она и сама - как мертвая. На
берегу кто-то поет старую песню:
Он остался навеки в волнах.
Ливия открывает глаза. Из таинства внезапно упавшей ночи долетает
до нее печальная песня:
Мой любимый ко мне не вернется,
он остался в зеленых волнах.
Ливия слушает. Он остался в зеленых волнах... Мария Клара бережно
поддерживает ее. "Крылатый бот", уже на якоре у причала, тихонько
покачивается на воде. Но того, кто управляет им, нет - он остался в
зеленых волнах. Песня заполняет пристань, камнем падает на спины
людей, выпрыгивающих на берег. Ночь наступила.
Дома ждала Ливию мать Гумы. Она появилась внезапно, без
предупреждения. Рассказала Ливии, что видела сына своего один раз,
много лет тому назад. Теперь она была совсем старая, хромая,
полуослепшая.
- Я живу почти что на милостыню. Знакомые помогают...
Она не решилась признаться, что работает прислугой в публичном
доме. Старый Франсиско заметил, насколько она постарела. Почти
двадцать лет прошло с тех пор, как она появилась однажды в порту,
разыскивая сына. Она хотела тогда увезти Гуму, он не отпустил
мальчика. Если б она увезла его, было б, может, лучше. Наверняка Ливии
не пришлось бы теперь плакать, а малыш не остался бы так рано без
отца. Но судьба есть судьба, ее не изменишь.
Роза Палмейрао появилась в дверях комнаты и сказала, что Ливии
необходимо хоть немного поесть. Мать Гумы спросила:
- Не нашли его, нет?
- Нет.
- Тогда я завтра утром зайду. Мне нельзя задерживаться.
И она ушла. Почти слепая, находя дорогу ощупью в темноте. Одна
луна светила ей в пути. Ливия прижала к груди сына и так застыла на
долгое время. Тетка и дядя молча смотрели на нее. Тетка тихонько
плакала. Роза Палмейрао молча поставила на стол ужин, к которому никто
не притронется.
В четвертый раз араб Туфик заходит в дом Ливии. Роза Палмейрао
встречает его:
- Она уже вернулась, сеу Туфик.
Араб входит в комнату. Здесь предложил он Гуме участвовать в
контрабандных делах. Здесь предложил ему смерть... Ливия появляется.
Туфик встает ей навстречу, не зная, что сказать. Она ждет молча.
- Он был честный и храбрый.
Молчание. Глаза Ливии словно устремлены вдаль, кажется, что она
ничего не видит и не слышит. Араб продолжает:
- Он спас мне жизнь, Антонио он тоже спас. Не знаю, как и...
Ему так трудно еще и потому, что эти слова надо произносить на
чужом языке.
- Вам что-нибудь нужно?
- Ничего.
- Вот то, что посылает вам сеу Мурад. Он сказал, что в любой
момент, когда он может быть вам полезен, вы найдете в нем друга.
Туфик кладет деньги на стол. Мнет шапку в руках. У него не
хватает духу предупредить Ливию, чтоб никому ничего не рассказывала о
контрабандных делах. Медленно пятится к двери.
- Доброй ночи.
И Туфик опрометью выбегает на улицу, чуть не сбив с ног
прохожего, чувствуя комок в горле и неудержимое желание плакать.
В домах, где в тот день, в час обеда, включили радио, настроив на
одну из радиостанций Баии, люди услыхали, как диктор произнес:
"Люди с пристани просят набожных сеньор прочесть "Отче наш",
прося господа, чтоб удалось отыскать тело моряка, утонувшего прошлой
ночью".
Одна молоденькая девушка (жених которой был лоцман) вскрикнула,
выскочила из-за стола, заперлась у себя в комнате и начала истово
молиться.
Родолфо пришел, когда все собирались уходить. Он только что
узнал, весь день он проспал где-то. Он присоединился к тем, кто
отправлялся на поиски. На сей раз вышли два парусника, Манека Безрукий
вел "Крылатый бот". С ним были Родолфо и старый Франсиско. Другие шли
на "Вечном скитальце". Парусники взяли курс на порт Санто-Антонио.
Свеча покачивалась на воде там, где ее оставили прошлый раз.
Парусники пошли вместе, рядом. В ночь тысячи звезд свеча поплыла по
морю, ища тело погибшего.
Все глаза жадно следуют за ее движением. Она плывет медленно,
заплывая то в одну, то в другую сторону, не останавливаясь. На обоих
судах паруса спущены. Луна бледным светом ударяет в их корпуса. Ночи
на море, прекрасные, как эта, даны для любви. В такие ночи женщин,
особенно страшащихся за жизнь своих мужей, ждет большая любовь.
Сколько ночей, подобных этой... - Ливия, уронив голову на грудь, все
вспоминает и вспоминает, - сколько ночей, подобных этой, провела она
возле Гумы, и голова любимого склонялась к ее плечу, и огонек его
трубки смешивался со светом тысячи звезд... Когда он возвращался
штормовой ночью, бывшей всегда для Ливии ночью страдания, они вместе
шли на палубу своего судна и обнимали друг друга под дождем, при свете
молний. И страсть и нежность мешались со страхом и со страданием.
Откуда это страдание? Из уверенности, твердой уверенности в том, что
он не вернется после какой-нибудь бури. Эта уверенность делала ее
любовь такой стремительной, порывистой. Он погибнет в море, она
уверена была в этом. Поэтому каждый раз она обнимала и целовала его
так, словно это последний раз. Штормовые ночи, ночи смерти, были для
них ночами любви. Ночи, когда стоны любви летели над морем-океаном,
как вызов... Они особенно страстно любили друг друга в бурю. В ночи,
черные от грозовых туч, в ночи, лишенные звезд, когда луна покидает
осиротелое небо, они обнимали друг друга на палубе, и любовь их имела
вкус разлуки и гибели. В такие ночи, когда ветер властвует надо всем
вокруг, когда норд-ост или свирепый южный дико воют над морем,
потрясая сердца жен моряков, в такие ночи они прощались друг с другом,
словно уж и не суждено им встретиться вновь. Даже в первый раз, когда
они были еще не венчаны, они обнимали друг друга так, словно через
несколько дней должно им было расстаться навеки. Было то на реке
Парагуасу, близко от тех мест, где появлялся конь-призрак...
Снова ныряет Мануэл, Манека Безрукий снова бросается в воду с
борта "Крылатого". Свеча остановилась. Родолфо сдергивает с себя
пиджак, он сейчас тоже бросится в море. И вот уже трое пловцов рядом
разрезают воду, зеленоватую в эти ночные часы. Мануэл первый
показывается на поверхности:
- Он не вернулся еще.
Если он вернется сегодня ночью, думает Ливия, они снова нежно
обнимут друг друга, ведь ночь так хороша, вся пронизана звездами, а
луна так щедро льет свой желтый свет. Такие ночи он любил проводить на
палубе, куря свою трубку. Она лежала, раскинув руки, на досках, они
вместе слушали песню, доносившуюся бог весть откуда. С другого
парусника, с чьей-нибудь лодки, со старого форта, кто знает? Потом она
подходила к нему и прятала голову на его широкой, крепкой груди.
Слушала его рассказы о последних рейсах, его планы на будущее - и оба
тянулись друг к другу робко, как в первый раз. Долго глядели на море,
соглашаясь с песней, что море - ласковый друг и что ночь дана для
любви. И тела их сливались в одно без борьбы и криков, тихо. Глубокий
голос негра, поющего вечную песню моря, голос, полный чувства, полный
тоски, веял над ними. Так бывало в ночи, подобные этой... Но он не
вернется, он отправился в последнее плавание, предназначенное лишь
морякам-героям - в плавание к землям Айока. "Остался навеки в волнах",
- поется в песне. Судьба людей моря вся расписана в песнях.
Доктор Родриго курит сигарету за сигаретой. Трубка старого
Франсиско погасла. Он просит огня:
- Дадите мне огня, доктор?
В трюме "Крылатого бота" шкипер Мануэл и Манека Безрукий,
насквозь промокшие, разговаривают с Родолфо. Он отходит от них и
перепрыгивает на палубу "Вечного скитальца". Ему хочется быть поближе
к Ливии. Тихо приблизясь, он проводит по ее лицу рукой, на которой еще
не высохла морская вода.
- Что ж теперь будет, Ливия?
Она смотрит на брата, не понимая. Она еще не до конца поняла, что
все переменилось.
- Ты переедешь к дяде с теткой, да? Знаешь, Мануэл и Манека хотят
взять напрокат твой бот, даже купить, если ты согласишься продать в
рассрочку. Это лучший выход для тебя.
Ливия поворачивает голову, смотрит на "Крылатый бот". Хорошее
судно, одно из самых быстрых в порту. Лучше не сыщешь. С какой
гордостью Гума всегда говорил это: "Лучше не сыщешь!.." Он любил свой
бот, он купил его для сына, он умер, чтоб сохранить его. А теперь она
его продаст, отдаст другому человеку все, что осталось на море от ее
Гумы... Это все равно что продать свое тело, отдаться другому мужчине.
- Я должна подумать.
Роза Палмейрао сегодня вечером говорила, что судьба у каждого
своя и ее нельзя изменить... Ливия запомнила эти слова. Нельзя
изменить... Ливия повернулась к брату:
- У Мануэла большой груз?
- Ко дну тянет...
- Спроси его потом, не может ли он передать часть мне.
- А кто поведет судно?
- Я.
- Ты?!
Родолфо не понимает ее. Да и кто ее поймет? Один старый Франсиско
понял все. И его охватывает яростная досада на свою старость. Если б
не проклятая старость, встал бы он сейчас за руль и... Ливия смотрит
на "Крылатого" и чувствует глубокую нежность к нему. Продать его было
бы все равно что продать свое тело. И бот и тело ее принадлежали Гуме,
нельзя их продавать.
Свеча остановилась впереди парусников. Родолфо нырнул, Франсиско
последовал его примеру - старику тоже хочется быть полезным. Доктор
Родриго смотрит на Ливию, не сводящую глаз с пловцов. Есть еще многое,
чего доктор Родриго не понимает. Но он понимает, что решимость Ливии
не идти на улицу, не продавать себя, а связать свою судьбу с тяжелым
промыслом моряка - это тоже часть того чуда, какого ждет дона Дулсе. И
чудо это начинает свершаться...
Внезапно послышался далекий гудок корабля. Мануэл промолвил:
- Просят помощи.
Ночь, однако, была спокойна и светла. А гудки и сигналы SOS,
посылаемые заблудившимся кораблем, слышались все чаще и явственней.
Заблудившийся корабль... Заблудился, как тело Гумы, которое люди
разыскивают в море по слабому огоньку свечи. Корабль, сбившийся с
пути, не умеющий отыскать свой порт... Все глаза поворачиваются в ту
сторону, откуда, как кажется, слышатся гудки. Протяжные, печальные,
словно незнакомый корабль посылает в лунную ночь скорбные жалобы на
свою судьбу.
Те, кто искал тело Гумы, подымаются на палубу. Свеча снова
поплыла вперед. Доктор Родриго кусает потухшую сигарету. Буксир
проходит вдалеке - на помощь кораблю. Шкипер Мануэл делится своими
сомнениями с доктором: "Ума не приложу..."
Мария Клара растянулась в уголке на палубе. Для нее тоже все это
очень тяжело. Она вспоминает ночь, когда погиб Жакес. Она плакала
тогда, обнявшись с Ливией, они были как две сестры. Когда придет день
и для ее мужа? Когда и его тело станут так вот искать в мертвом
море?.. Свет буксира исчезает вдалеке.
Родолфо оборачивается к Ливии:
- Он спрашивает, не возьмешь ли ты рейс в Итапарику на завтра, с
утра. У него там много груза...
- Согласна.
Парусники качаются на тихой воде почти без волн.
В полночь свеча вдруг поплыла быстрее и ушла далеко-далеко.
Парусники спешили за ней. Снова бросились в воду Мануэл, старый
Франсиско и Родолфо. Манека Безрукий был наготове, чтоб помочь им,
если найдут тело. И подумал, что Гума, наверно, уж весь вздулся, полон
шевелящихся раков, неузнаваем. Он провел рукой по лицу, чтоб отогнать
видение...
В этом месте волны были выше. Снова, в последний раз, послышался
гудок корабля. Но теперь он гудел по-другому, словно с надеждой, -
заметили, видно, буксир... Пловцы снова поднялись на палубу, ничего не
найдя. Свеча вдруг принялась описывать круги вокруг обоих парусников.
Ливия опустила голову на руки. Желание видеть Гуму, ощущать его тело,
чувствовать соленый вкус моря на его губах, слышать его голос целиком
завладело ею. Вся во власти этого желания, сейчас только поняла она
окончательно, что никогда уж больше его не будет, никогда уж больше не
будет тех дней и тех ночей... И слезы потекли обильным потоком...
Мария Клара, бросившаяся утешать, тоже заплакала, уверенная, что
когда-нибудь и ее настигнет такое же горе...
Свеча быстро кружится по воде, быстрая волна сваливает ее, блюдце
опрокидывается и тонет. Старый Франсиско замечает:
- Незачем искать больше. Он не появится больше. Если свеча
перевернулась...
Спускают паруса. Ливия уронила голову на грудь. Ветер, пролетая,
шевелит ей волосы. Она смешала свои слезы с водой моря, она
безраздельно принадлежит теперь морю, ибо там - Гума. И чтоб вновь и
вновь чувствовать его присутствие, она должна быть вблизи моря. Здесь
найдет она его всегда в ночи, что даны для любви. Сквозь слезы видит
она тяжелую, маслянистую воду моря. Родолфо весь так и тянется к ней,
страстно ища, чем утешить. Доктор Родриго сжимает пальцы, ему хочется,
чтоб все это поскорей кончилось и все перестали наконец страдать. Но
он знает, что Ливия никогда не перестанет страдать. И кусает потухшую
сигарету.
В море встретит она Гуму для ночей любви. На палубе, под ветром,
вспомнит другие ночи, и слезы ее будут без отчаяния.
Ливия, сжавшая руки. Ливия, погруженная в молчание. Холод
пронизывает ее тело. Но с моря слышится песня - она несет тепло, даже
радость.
Ее муж далеко, он погиб в море. Ливия словно вся изо льда,
блестящие влажные волосы сбегают ей на плечи. Нет, она не увидит
мертвое тело Гумы, его устали искать, следуя за свечой, плывущей в
тяжелых, маслянистых волнах остановившегося, запретного для всех моря,
запретного, как тело Ливии.
Многие кружили у ее двери. У ее тела без хозяина, у ее
прекрасного тела. Ливия, всеми желаемая, сжала руки и погрузилась в
молчание. Ни одного горестного крика не вырвалось у нее. Смуглая грудь
дышала ровно. Теплый голос негра, поющего знакомую песню в часы ночи,
согревал ее, как и прежде:
О, как сладко в море умереть...
Ни одного горестного крика... Только холод, пронизывающий
насквозь, и видение мертвого моря с маслянистыми, словно покрытыми
нефтью, волнами, под которыми, где-то глубоко-глубоко, плывет тело
Гумы - корабль без руля. Рыбы ведут вкруг него свои хороводы. Иеманжа
плывет с ним рядом, укрывая его своими волосами. Она возьмет его в
путешествие к землям дальним, какие привелось увидеть лишь морякам с
больших океанских кораблей. Он посетит вместе с нею самые прекрасные
тайники моря. И будет продолжать свой путь, как моряк, ищущий в море
свой порт.
Ливия смотрит на мертвое море со свинцовой водою. Море без волн,
тяжелое, маслянистое, как нефть. Где твои корабли, твои моряки и
утопленники, мертвое море? Море рыданий, где твои вдовы, почему не
идут на твои берега плакать о погибших мужьях? Где младенцы,
затерявшиеся средь волн твоих в ночи бурь? Где паруса опрокинувшихся
шхун, проглоченных тобою? Где мертвое тело Гумы, чьи длинные черные
волосы так часто расстилались по синим твоим волнам, когда он, живой,
плыл к берегу, спасая других?.. По свинцовым, тяжелым водам мертвого
моря из нефти бежит, как призрак, свет маленькой свечи, ищущей тело
того, кто умер. Нет, не только он умер - само море умерло,
превратилось в нефть, остановилось, не рождает ни одной волны. Мертвое
море, не отражаются звезды в тяжких твоих волнах...
Если встанет большая луна, то желтый ее свет побежит по волнам
мертвого моря, ища вместе с маленькой свечой тело Гумы - моряка с
длинными черными волосами, что ушел по далекой тропе моря к Землям без
Конца и без Края - к дальним берегам Айока.
Ливия смотрит из своего окна на мертвое море без лунной полосы.
Зарождается рассвет. Мужчины, бесцельно кружащие у ее двери, у ее тела
без хозяина, расходятся по домам. Теперь все - таинство. Песня
смолкла. Мало-помалу вещи вокруг оживают, жизнь возвращается, люди
подымают головы. Рассвет разливается над мертвым морем.
Только Ливия по-прежнему чувствует холод в сердце и во всем теле.
Для Ливии ночь продолжается - беззвездная ночь над мертвым морем.
Дона Дулсе смотрит из окна школы на улицу. Ночь еще противится
рассвету. Парусники выходят в плавание. Сын Ливии остался дома, с
теткой. Роза Палмейрао снова заткнула за пояс нож и спрятала кинжал на
груди. Она кажется мужчиной на палубе "Крылатого бота". Но Ливия
осталась женщиной, хрупкой женщиной.
Первым разрезает волны "Вечный скиталец". Мария Клара поет песню
пристани. В песне говорится о любви и разлуке. Шкипер Мануэл
прокладывает путь "Крылатому боту" и, обернувшись, смотрит, как там
управляется Ливия. Роза Палмейрао стоит у руля, Ливия подымает паруса
своими тонкими маленькими руками. Волосы ее стелются по ветру, она
стоит выпрямившись, глядя прямо перед собой - в море. Шкипер Мануэл
дает ей обогнать его, он пойдет сзади, сопровождая "Крылатый бот".
Морские птицы летают вкруг паруса, почти задевая крылом волосы
Ливии. Она стоит, прямая, строгая, и думает, что в следующий рейс надо
взять с собою сына, его судьба - море. Голос Марии Клары смолкает,
внезапно оборвав мелодию, ибо в набирающем силу рассвете песня негра
летит далеко над таинственным морем:
Привет тебе, звезда рассвета...
Звезда рассвета... На пристани, у причала, стоит старый
Франсиско, задумчиво качая головой. Как-то раз, давным-давно, когда
свершил он такое, чего не свершал до него ни один моряк, он увидел
Иеманжу, властительницу моря. И разве это не она стоит сейчас, такая
прямая и строгая, на палубе "Крылатого бота"? Разве не она? Да, это
она. Это Иеманжа ведет "Крылатого". И старый Франсиско кричит всем на
пристани:
- Смотрите! Смотрите! Это Жанаина!
Все смотрят и видят. Дона Дулсе тоже смотрит из окна школы.
Смотрит и видит. Видит женщину, сильную духом, которая борется. Борьба
- это и есть то чудо, какого ждет дона Дулсе. И чудо это начинает
свершаться. Моряки, бывшие в этот час на пристани, увидели Иеманжу,
богиню с пятью именами. Старый Франсиско кричал от волнения - это
второй раз в жизни он увидел ее.
Так рассказывают на морских пристанях.
Популярность: 1, Last-modified: Wed, 24 Jul 2024 13:49:25 GmT
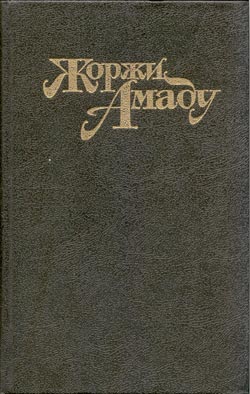 Я хочу поведать вам сегодня истории, что сказываются и поются на
баиянских пристанях. Старые моряки, латающие утлые паруса, капитаны
парусных шхун, негры с татуированной кожей, бродяги и мошенники знают
наизусть эти истории и эти песни. Я не раз слушал их лунною ночью на
баиянской набережной против рынка, во время ярмарок, у причалов малых
гаваней побережья, возле огромных шведских судов в Ильеусском порту.
Людям моря есть что порассказать.
Послушайте же эти истории и эти песни. Послушайте историю Гумы и
Ливии. Это история жизни у моря; это история любви у моря. А ежели она
покажется вам недостаточно прекрасной, то вина в этом не тех простых,
суровых людей, что сложили ее. Просто сегодня вы услышите ее из уст
человека с суши, а человеку с суши трудно понять сердце моряка. Даже
тогда, когда он любит эти истории и эти песни, когда ходит на все
праздники в честь богини моря Иеманжи, или доны Жанаины, как ее еще
называют, - даже тогда не знает он всех секретов моря. Ибо море - это
великая тайна, постичь которую не могут даже старые моряки.
Я хочу поведать вам сегодня истории, что сказываются и поются на
баиянских пристанях. Старые моряки, латающие утлые паруса, капитаны
парусных шхун, негры с татуированной кожей, бродяги и мошенники знают
наизусть эти истории и эти песни. Я не раз слушал их лунною ночью на
баиянской набережной против рынка, во время ярмарок, у причалов малых
гаваней побережья, возле огромных шведских судов в Ильеусском порту.
Людям моря есть что порассказать.
Послушайте же эти истории и эти песни. Послушайте историю Гумы и
Ливии. Это история жизни у моря; это история любви у моря. А ежели она
покажется вам недостаточно прекрасной, то вина в этом не тех простых,
суровых людей, что сложили ее. Просто сегодня вы услышите ее из уст
человека с суши, а человеку с суши трудно понять сердце моряка. Даже
тогда, когда он любит эти истории и эти песни, когда ходит на все
праздники в честь богини моря Иеманжи, или доны Жанаины, как ее еще
называют, - даже тогда не знает он всех секретов моря. Ибо море - это
великая тайна, постичь которую не могут даже старые моряки.