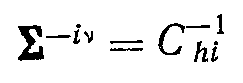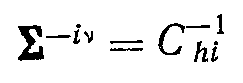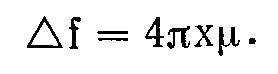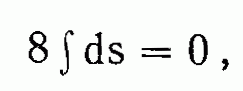Двадцать четыре сцены
В сотрудничестве с М. Штеффин
----------------------------------------------------------------------------
Сцены 1, 5, 7, 13 - перевод В. Станевич
Сцены 2 4, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 24 - перевод Н. Касаткиной
Сцены 3, 22 - перевод Н. Вольпин
Сцена 6 - перевод В. Топер
Сцены 9, 17, 18, 19 - перевод Вл. Нейштадта
Сцена 10 - перевод А. Гуровича
Стихи - перевод Арк. Штейнберга
Бертольт Брехт. Театр. Пьесы. Статьи. Высказывания. В пяти томах. Т. 2
М., Искусство, 1963
OCR Бычков М.Н. mailto:[email protected]
----------------------------------------------------------------------------
На пятый год вещал нам самозванный
Посланец божий, что к своей войне
Он подготовлен: есть, мол, танки, пушки,
Линкоры есть в избытке, а в ангарах
Бесчисленные самолеты ждут его приказа,
Чтоб, взвившись в воздух, небо затемнить.
Тогда решили мы взглянуть: какой народ, каких
людей,
С какими думами и нравами он сможет
Объединить под знаменем своим. И мы тогда
Построили Германию к параду.
Вот катится пестрая масса
Пушечного мяса.
Всеобщий имперский съезд!
Кровавые флаги повсюду,
На каждом - рабочему люду
Крюкастый крест.
Кому шагать не под силу -
Ползет на карачках в могилу
Во имя "его борьбы".
Не слышно ни жалоб, ни стонов
От рева медных тромбонов,
От барабанной пальбы.
Плетутся жены и дети.
Пять зим - словно пять столетий!
За рядом тащится ряд -
Калеки, старцы, больные,
А с ними и все остальные -
Великий немецкий парад!
НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО
Эсэсовцы-офицеры,
Его речами и пивом без меры
Упившись, шагают вперед.
Им надо, чтоб стал дерзновенным,
Внушающим страх, и смиренным,
И очень послушным народ.
Ночь 30 января 1933 года. Два офицера-эсэсовца, спотыкаясь, бредут по улице.
Первый. Значит, все-таки наша взяла. А факельное шествие прямо
величественно! Вчера еще банкрот, нынче рейхсканцлер! Вчера ощипанный коршун
- нынче государственный орел!
Справляют нужду.
Второй. А теперь начнется это самое народное единство. Я жду от
немецкого народа духовного подъема в самых больших масштабах.
Первый. Сначала надо выцарапать истинного немца из этой кучи
неполноценной сволочи. Куда это мы забрели? Ни одного флага!
Второй. Мы заплутались.
Первый. Паршивое место.
Второй. Квартал преступников.
Первый. Ты думаешь, тут опасно?
Второй. Да разве порядочный немец будет тебе жить в таком вот бараке?
Первый. И всюду темно!
Второй. Их дома нет.
Первый. Нет, эти молодцы дома. Думаешь, они глядят на рождение Третьей
империи из первого ряда? Ступай вперед, я прикрою тебя с тыла.
Пошатываясь, они снова пускаются в путь, первый позади второго.
Первый. В этих местах как будто проходит канал?
Второй. Не знаю.
Первый. Мы там за углом одно марксистское гнездо разорили. Они потом
уверяли, будто это был католический союз подмастерьев. Все вранье! Ни на
одном не было воротничка.
Второй. А как ты думаешь, он может создать это самое народное единство?
Первый. Он все может. (Застывает на месте и прислушивается.)
Где-то открылось окно.
Второй. Это что такое? (Спускает предохранитель своего револьвера.)
Из окна высовывается старик в ночной сорочке и тихонько опрашивает: "Эмма,
это ты"?
Это они! (Делает крутой поворот и как бешеный начинает стрелять во все
стороны.)
Первый (орет). Помогите!
Из окна против того, в котором все еще стоит старик, раздается отчаянный
вопль подстреленного человека.
ПРЕДАТЕЛЬСТВО
Идут предатели. Эти
Теперь у всех на примете.
Соседей топили они.
Не спится домашним шпионам!
Им звоном грозят похоронным
Грядущие дни.
Бреславль, 1933 год. Обывательская квартирка. Мужчина и женщина стоят у
двери и прислушиваются. Оба очень бледны.
Женщина. Спустились?
Мужчина. Нет еще.
Женщина. Перила обломали. Когда его вытаскивали из квартиры, он был уже
без памяти.
Мужчина. Я ведь только сказал, что заграницу не мы ловили.
Женщина. Ты сказал не только это.
Мужчина. Больше я ничего не говорил.
Женщина. Что ты на меня смотришь? Не говорил так не говорил, значит,
все в порядке.
Мужчина. Вот и я так думаю.
Женщина. А почему ты не пойдешь в участок и не скажешь, что никаких у
них гостей в субботу не было?
Молчание.
Мужчина. Не стану я ходить в участок. Это звери, а не люди. Смотри, что
из него сделали.
Женщина. Поделом ему. Не надо совать нос в политику.
Мужчина. Жалко только, что куртку на нем разорвали. Все мы - люди
небогатые.
Женщина. До куртки ли теперь.
Мужчина. А все-таки жалко, что ее разорвали.
МЕЛОВОЙ КРЕСТ
А вот штурмовые оравы,
Привычные к слежке кровавой,
Идут, отдавая салют.
В застенках собратьев терзая,
Они от жирных хозяев
Подачки какой-нибудь ждут.
Берлин, 1933 год. Кухня в господском доме. Штурмовик, кухарка, горничная,
шофер.
Горничная. Ты в самом деле должен через полчаса уходить?
Штурмовик. Ночное учение!
Кухарка. Что вы там делаете по ночам?
Штурмовик. Служебная тайна.
Кухарка. Облава?
Штурмовик. Вам бы все узнать. Но у меня никто ничего не выведает. Из
колодца рыбу не выудишь.
Горничная. И тебе еще нужно сегодня в Рейникендорф?
Штурмовик. В Рейникендорф? А почему не в Руммельсбург или в
Лихтерфельде, а?
Горничная (смущенно). Может, покушал бы в дорогу?
Штурмовик. Зарядиться перед боем? Пожалуй!
Кухарка ставит прибор.
Да, нам болтать не положено! Захватить противника врасплох! Нагрянуть с той
стороны, где не видно ни облачка. Посмотрите на фюрера, когда он
что-нибудь замышляет: непроницаем! Вы никогда ничего не знаете наперед. Он,
может быть, и сам-то наперед ничего не знает. А потом сразу удар...
молниеносно. Самые сумасшедшие штуки. И поэтому все перед нами трепещут.
(Обвязался салфеткой и, вооружившись ножом и вилкой, спрашивает осторожно.)
А господа не нагрянут, Анна? А то я тут сижу и набиваю рот деликатесами.
(Рявкает, как будто с полным ртом.) Хайль Гитлер!
Горничная. Нет, они сперва позвонили бы, вызвали бы машину. Правда,
господин Франке?
Шофер. Простите? А, конечно!
Штурмовик, успокоившись, принимается за еду.
Горничная (подсев к штурмовику). Ты, верно, устал?
Штурмовик. Дьявольски.
Горничная. Но в пятницу ты свободен?
Штурмовик. Если ничего не случится.
Горничная. Кстати, за починку часов взяли четыре пятьдесят.
Штурмовик. Какое бесстыдство!
Горничная. Они и новые-то стоили всего двенадцать марок.
Штурмовик. Мальчишка из аптеки все еще пристает?
Горничная. Ах, что ты!
Штурмовик. Ты мне только слово скажи, и все будет в порядке.
Горничная. Я и так ничего не скрываю. Ты в новых сапогах?
Штурмовик (скучным голосом). Да. А что?
Горничная. Минна, вы видели, какие у Тео новые сапоги?
Кухарка. Нет.
Горничная. Покажи ей, Тео! Вот им теперь какие выдают.
Штурмовик, дожевывая кусок, вытягивает ногу.
Шикарные, правда?
Штурмовик смотрит по сторонам, словно чего-то ища.
Кухарка. Что-нибудь не так, не по вкусу?
Штурмовик. Смочить бы.
Горничная. Пива хочешь? Я живо принесу. (Выбегает.)
Кухарка. Она ради вас, господин Тео, из кожи готова выскочить.
Штурмовик. Да, в этом деле я осечки не даю. Бьем молниеносно.
Кухарка. Вы, мужчины, слишком много себе позволяете.
Штурмовик. Женщина только того и хочет. (Видя, что кухарка поднимает
тяжелый котел.) Зачем же вы так себя утруждаете? Оставьте, это наше дело.
(Берет из ее рук котел.)
Кухарка. Очень с вашей стороны любезно. Вы всегда найдете, чем бы мне
облегчить работу. (Бросив взгляд на шофера.) Не все такие услужливые.
Штурмовик. Есть о чем говорить! Нам это только приятно.
В дверь с лестницы стучат.
Кухарка. Это мой брат. Он должен принести лампу для радио. (Впускает
брата, рабочего.) Мой брат.
Штурмовик и шофер. Хайль Гитлер!
Рабочий буркнул что-то, что может с некоторой натяжкой сойти за
"хайль Гитлер".
Кухарка. Лампу принес?
Рабочий. Да.
Кухарка. Может быть, сейчас же и ввернешь?
Выходят вдвоем.
Штурмовик. Что за личность?
Шофер. Безработный.
Штурмовик. Часто сюда заходит?
Шофер (пожимает плечами). Я сам тут бываю редко.
Штурмовик. На толстуху можно положиться, она чистопробная немка.
Шофер. Абсолютно.
Штурмовик. Но брат может оказаться другого поля ягодой.
Шофер. Вы берете его на подозрение?
Штурмовик. Я? Нет. Зачем? Подозрений у меня не бывает. Понимаете,
подозрение - это уже все равно что уверенность. А когда так, сразу делается
вывод.
Шофер (про себя). Молниеносно!
Штурмовик. Да, вот оно как. (Откинулся на спинку стула, прищурил один
глаз.) Вы разобрали, что он там пробурчал? (Подражает приветствию рабочего.)
Это могло означать "хайль Гитлер", но могло и не означать. Люблю я таких
молодчиков. (Раскатисто смеется.)
Кухарка и рабочий возвращаются.
Кухарка (ставит перед рабочим еду). Мой брат по части радио первый
мастер. А предложи ему послушать передачу, и нисколько это ему не интересно.
Будь у меня время, я бы только и делала, что крутила приемник. (Рабочему.)
Но у тебя-то, Франц, времени хоть отбавляй.
Штурмовик. В самом деле? У вас есть радио, и вы его не включаете?
Рабочий. Включаю иногда - музыку послушать.
Кухарка. Он себе прямо-таки из ничего смастерил превосходный приемник.
Штурмовик. На сколько ламп?
Рабочий (глядит на него с вызовом). На четыре.
Штурмовик. Да, вкусы бывают разные. (Шоферу.). Не так ли?
Шофер. Простите? А, разумеется.
Горничная входит с бутылкой пива.
Горничная. Холодное, прямо со льда.
Штурмовик (дружески накрывает ее руку ладонью). Девушка, ты совсем
запыхалась. Незачем было так бежать, я подождал бы.
Горничная (наливает пиво в стакан). Ничего. (Пожимает руку рабочему.)
Вы принесли лампу? Посидите немного. Небось опять шли всю дорогу пешком.
(Штурмовику.) Он живет в Моабите.
Штурмовик. А где же мое пиво? Кто-то выпил! (Шоферу.) Это вы выпили мой
стакан?
Шофер. Нет, конечно! Как вы могли подумать? Разве нет вашего пива?
Горничная. Я же тебе налила!
Штурмовик (кухарке). Ага, это вы мое пиво вылакали! (Раскатисто
смеется.) Ничего, успокойтесь. Маленький фокус, практикуемый у нас,
штурмовиков: пиво выпивается так, чтобы никто не видел и не слышал.
(Рабочему.) Вы что-то сказали?
Рабочий. Старый фокус.
Штурмовик. Старый? Попробуйте покажите вы! (Наливает ему.)
Рабочий. Можно. Итак, вот стакан пива (поднимает стакан), и вот вам
фокус. (Спокойно, со смаком выпивает пиво.)
Кухарка. Но мы все видели!
Рабочий (вытирает рот). Да? Ну, стало быть, фокус не вышел.
Шофер громко смеется.
Штурмовик. По-вашему, смешно?
Рабочий. Да ведь и вы сделали то же самое. Как сделали вы?
Штурмовик. А как я вам покажу, если вы у меня все пиво> вылакали?
Рабочий. И то верно. Без пива фокус не выйдет. А другого фокуса вы нам
не покажете? Ведь у вас там в запасе немало фокусов.
Штурмовик. У нас? Это у кого?
Рабочий. У вас, у молодежи.
Штурмовик. Та-ак!
Горничная. Господин Линке только пошутил, Тео!
Рабочий (признав за лучшее переменить тон). Ну вы, конечно, не
обиделись?
Кухарка. Я вам принесу еще бутылку.
Штурмовик. Не нужно. Промочил глотку - и будет с меня.
Кухарка. Господин Тео умеет понять шутку.
Штурмовик (рабочему). Почему вы не присядете? Мы не людоеды.
Рабочий садится.
Живи и давай жить другим. И шутка тоже иногда допустима. Почему не пошутить.
Строги мы только в одном - когда коснется образа мыслей.
Кухарка. И правильно, здесь строгость к месту.
Рабочий. А какой сейчас может быть образ мыслей?
Штурмовик. Сейчас образ мыслей самый правильный. Вы иного мнения?
Рабочий. Нет. Я только хотел сказать, что сейчас никто никому не
говорит, что он думает.
Штурмовик. Никто никому не говорит? Почему? Мне говорят.
Рабочий. В самом деле?
Штурмовик. Никто, конечно, сам не прибежит докладывать, что он думает.
Но можно прийти и узнать.
Рабочий. Куда?
Штурмовик. Да хотя бы на биржу труда. Мы там каждое утро.
Рабочий. Да, там кое-кто еще позволяет себе поворчать. Что правда, то
правда.
Штурмовик. То-то и оно.
Рабочий. Ну и что ж, вы одного кого-нибудь выловите, а там уж вас
узнали. И впредь будут молчать.
Штурмовик. Как это меня узнают? Хотите, покажу, как я делаю, чтоб меня
не узнали? Вы любите фокусы. Могу вам спокойно показать один-другой, потому
что у нас их в запасе много. И я всегда говорю: если они будут знать, что у
нас припасено в арсенале, они поймут, что никогда у них ничего против нас не
выйдет, и, может быть, сами отступятся.
Горничная. Правда, Тео, расскажи, как вы это проделываете!
Штурмовик. Так вот, предположим, мы с вами на бирже труда, на
Мюнцштрассе. И вы, скажем (глядит на рабочего), стоите передо мной в
очереди. Но мне нужно сперва кое-что подготовить. (Выходит.)
Рабочий (подмигнув шоферу). Ну сейчас мы увидим, как они это
проделывают.
Кухарка. Всех марксистов надо повыловить, потому что невозможно терпеть
это разложение, которое они распространяют.
Рабочий. Угу.
Штурмовик (возвращается). Я, понятно, в штатской шкуре. (Рабочему.)
Начинайте ворчать.
Рабочий. Насчет чего?
Штурмовик. Ладно, нечего тут прикидываться. Вы же всегда находите, на
что поворчать.
Рабочий. Я? Никогда!
Штурмовик. Ага, стреляный воробей! Но ведь вы не можете утверждать, что
у нас все идет гладко - придраться не к чему.
Рабочий. Почему же не могу?
Штурмовик. Так нельзя. Если вы не будете мне подыгрывать, ничего не
получится.
Рабочий. Хорошо. Уж разрешу себе - чтоб вас уважить. Торчи тут весь
день, они наше время ни во что не ставят. А мне и так два часа ходу из
Руммельсбурга.
Штурмовик. Нет, это не годится. Что ж вы, право, при Третьей империи от
Руммельсбурга до Мюнцштрассе не стало дальше, чем было при веймарских
бонзах. Давайте что-нибудь посущественней!
Кухарка. Ведь это как в театре, Франц, мы же знаем, что ты только
прикидываешься, что ты на самом деле так не думаешь.
Горничная. Вы только, так сказать, представляете недовольного. Можете
вполне положиться на Тео, он ничего такого не подумает. Он только хочет
кое-что показать.
Рабочий. Хорошо. Тогда я скажу; по мне, так я бы все штурмовые отряды
послал кошке под хвост. Я за марксистов и за евреев.
Кухарка. Что ты, Франц!
Горничная. Так не годится, господин Линке!
Штурмовик (со смехом). Нет, голубчик! Этак я просто кликну ближайшего
полицейского и отдам вас под арест. Неужто у вас нет ни на грош фантазии? Вы
должны говорить что-нибудь такое, что можно потом повернуть и так и этак:
такое, что в самом деле доводится слышать.
Рабочий. Тогда уж будьте любезны, спровоцируйте меня сами.
Штурмовик. Бросьте, на это уже давно никто не ловится. Я мог бы,
например, сказать так: наш фюрер - величайший из людей, какие только жили на
земле, он больше Иисуса Христа и Наполеона, вместе взятых, а они мне, в
лучшем случае, ответят: "Пусть по-вашему!" Тут я пробую с другого боку.
Горлопаны большеротые! Все пропагандой занимаются. В этом они мастера.
Слыхали вы анекдот про Геббельса и двух вшей? Нет? Ну так вот: две вши
поспорили, которая из них быстрее пройдет от одного угла рта до другого. И
выиграла спор та, которая обежала сзади по затылку. Тот путь оказался
короче.
Шофер. Вот как?
Все смеются.
Штурмовик (рабочему). Ну теперь рискните и вы.
Рабочий. Я в такие разговоры пускаться не могу. Анекдот анекдотом, а вы
все-таки можете оказаться шпиком.
Горничная. Он прав, Тео.
Штурмовик. Прав? Вот подобрались слюнтяи! Ну как тут не обозлиться!
Люди слова сказать не смеют.
Рабочий. Вы это всерьез или только на бирже труда?
Штурмовик. И на бирже.
Рабочий. Так вот, если вы это говорите на бирже, то я вам там же, на
бирже, отвечаю: осторожность нигде не повредит. Я трус, у меня нет
револьвера.
Штурмовик. Так вот что я тебе скажу, приятель, раз тебе так дорога
осторожность: ты будешь осторожен раз и будешь осторожен другой раз, а потом
и угодишь в добровольческий трудовой батальон.
Рабочий. А если не быть осторожным?
Штурмовик. Тогда уж во всяком случае угодишь. Спорить не могу. Оно и
выйдет, что добровольно попал. Хорошенькое "добровольно", а?
Рабочий. Что ж, это возможно: подвернулся бы вам такой вот смелый
человек, и вы стояли бы с ним в очереди на отметку и уставились бы на него
вашими голубыми глазами, - он, пожалуй, и впрямь начал бы ворчать насчет
добровольной трудовой повинности. Ну что бы он мог тут сказать? Хотя бы так:
вчера опять пятнадцать душ отправили. Я часто сам себя спрашиваю, как это
они умудряются их набирать, когда повинность вполне добровольная, люди же
там получают, работая, не больше, чем сидя здесь и ничего не делая, а
желудок требует больше. Но потом довелось мне услышать историю про доктора
Лея и про кошку, и тут мне все стало ясно. Знаете вы эту историю?
Штурмовик. Нет, не знаем.
Рабочий. Так вот. Доктор Лей отправился в небольшую деловую поездку -
пропагандировать "Силу через радость", - я повстречался ему некий бонза
времен Веймарской республики, по имени... ну, называть не стоит; а было это,
скажем, в концлагере, - но только как же попал туда доктор Лей, такой
рассудительный человек? Бонза его спрашивает, как он добивается того, что
рабочие сейчас все готовы проглотить, чего бы они раньше никак не стерпели.
Тут доктор Лей указывает на кошку, которая мирно грелась на солнышке, и
говорит: "Допустим, вы хотите угостить ее порцией горчицы и чтобы она ее
проглотила, терпит она ее или не терпит. Как вы этого добьетесь?" Бонза
берет горчицу и сует кошке в рот. Та, понятное дело, выплевывает ему эту
самую горчицу прямо в лицо. Ни черта кошка не проглотила, только всего его
исцарапала. "Нет, голубчик, - говорит ласково доктор Лей, - так у вас ничего
не выйдет. Посмотрите, как делаю я". Он изящно берет на палец горчицу и,
глазом не моргнув, заправляет ее несчастной кошке в задний проход...
(Обращаясь к женщинам.) Вы меня извините, но из песни слова не выкинешь.
Кошка, совсем очумев - ведь боль отчаянная, - тотчас принимается вылизывать
из-под хвоста весь заряд горчицы. "Вот видите, любезный, - торжествует
доктор Лей, - кошка ест горчицу! И добровольно!"
Все смеются.
Да, смешная история.
Штурмовик. Теперь дело у нас пошло. Добровольная трудовая повинность -
об этом поговорить любят. Самое скверное, что никто не пытается больше
оказывать сопротивление. Заставляют нас жрать навоз, а мы еще спасибо
говорим.
Рабочий. Ну нет, тут я с вами не соглашусь. Вот было на днях - я стою
на Александерплаце и раздумываю, пойти ли мне на добровольную трудовую
службу от большого чувства или ждать, когда меня туда загребут вместе с
другими. Из продуктовой лавки на углу выходит маленькая худенькая женщина,
сразу видно - жена пролетария. Позвольте, говорю я, с каких же это пор в
Третьей империи объявились вдруг опять пролетарии, когда у нас, так сказать,
народное единство, включая самого Тиссена? "Ах, что вы, - говорит она, -
сейчас, когда маргарин так подскочил в цене - с пятидесяти пфеннигов сразу
до марки! - вы будете меня убеждать, что у нас народное единство!" Мамаша,
говорю я, будьте осторожны, что вы, право, так передо мной нараспашку, я же
истый немец до мозга костей. "Да, кости! - говорит она, - а на костях-то
нисколечко мяса, а в хлебе одни отруби". Вот куда загнула! Я стою
огорошенный и бормочу: покупали бы уж лучше масло, оно полезней. Только не
экономить на еде, это ослабляет силу нации, чего мы никак не можем себе
позволить пред лицом врагов, которые окружили нас со всех сторон и на самые
высшие государственные посты забрались, как нас о том предостерегают. "Нет,
- говорит она, - все мы честные немцы до последнего нашего издыхания,
которого и ждать, пожалуй, недолго осталось ввиду военной опасности. А вот
недавно, когда я хотела, - говорит она, - отдать свой плюшевый диван в
комитет Зимней помощи, - а то, я слышала, Геринг спит уже на голом полу,
потому что у нас недохват сырья, - так мне там в комитете сказали: лучше бы
нам сюда рояль - для силы через радость, знаете! А тут мука пропала. Я,
значит, забираю из Зимней помощи свой диван и иду с ним в лавку к
старьевщику - тут же за углом, я уже давно хотела купить полфунта масла. А в
молочной мне говорят: сегодня, уважаемая соплеменница, никакого масла не
будет, не угодно ли пушку? Давайте, говорю я", - это она мне говорит. А я
ей: как же так, к чему же это пушки, мамаша? Кушать их на пустой желудок?
"Нет, - говорит она, - но уже если мне помирать с голоду, надо кстати
разнести всю эту мразь с Гитлером во главе..." Что, что такое, кричу я в
ужасе. "...С Гитлером во главе мы, - говорит она, - и Францию одолеем - раз
что мы уже бензин из шерсти добываем". А шерсть? - говорю я. "А шерсть, -
говорит она, - из бензина. Шерсть нам тоже нужна. Когда попадет в Зимнюю
помощь хороший отрез старого доброго времени, его обязательно урвет
кто-нибудь из правления. Если бы Гитлер знал, - говорит она, - но он ничего
не знает, его дело - сторона, он, говорят, и в высшей школе не учился". Ну
как услышал я такой разлагающий разговор, у меня просто язык отнялся.
Сударыня, говори я, вы постойте минутку, Я только загляну тут в одно место
на Александерплаце. Так что же вы думаете, возвращаюсь я с агентом, а она не
изволила дождаться!.. (Прекращая игру.) Ну что вы на это скажете?
Штурмовик (продолжая игру). Я? Гм, что я на это скажу? Я, пожалуй,
посмотрю неодобрительно. Сразу же на Александерплац? - вот что я, пожалуй,
скажу. Да с тобой и поговорить нельзя!
Рабочий. Никак нельзя. Со мной - никак! Мне, если что скажете по
секрету, обязательно влипнете. Я знаю свой долг истинного немца. Пусть
только мне моя родная мать шепнет на ушко, что маргарин вздорожал или еще
что-нибудь, я пойду прямо в штаб к штурмовикам. Я родному брату спуску не
дам, если он станет ворчать насчет добровольной трудовой повинности. И с
невестой тоже: если она мне напишет, что ей там в трудовом лагере начинили
брюхо во славу Гитлера, я попрошу установить за ней слежку, чтобы она не
вытравила плод, это у нас не полагается, мы не можем иначе: если не идти
против собственной родни, то нашей Третьей империи, которую мы все так
любим, не на чем будет держаться. Ну что, теперь лучше пошла игра? Вы мной
довольны?
Штурмовик. Этого, пожалуй, хватит. (Продолжая игру.) А теперь ты можешь
спокойно подать свою карточку на отметку, я тебя отлично понял.Не правда ли,
мы все тебя отлично поняли, не так ли, братцы? Но на меня ты можешь вполне
положиться, приятель: все, что ты мне сказал, как в могиле похоронено.
(Хлопает его ладонью по спине. Прекращая игру.) Так. А теперь вы спокойно
пойдете отмечаться, и вас тут же на месте сцапают.
Рабочий. И вам не придется даже выйти из очереди и последовать за мной?
Штурмовик. Не придется.
Рабочий. И вы никому не мигнете? Этим тоже можно себя выдать.
Штурмовик. Не мигну.
Рабочий. Как же вы это делаете?
Штурмовик. Вот именно! Вам хотелось бы разгадать наш фокус! Встаньте и
повернитесь спиной. (Поворачивает рабочего за плечи так, что все могут
видеть его спину. К горничной.) Видишь?
Горничная. Крест стоит, белый крест!
Кухарка. Как раз посередке, между лопатками.
Шофер. В самом деле.
Штурмовик. А откуда он взялся, хотите знать? (Раскрывает ладонь.) Вот
маленький белый крестик, сделанный мелом, - он и отпечатался весь как есть!
Рабочий снимает с себя куртку, рассматривает отпечаток креста.
Рабочий. Тонко сработано.
Штурмовик. Что, неплохо? Мелок я всегда ношу при себе. Да, тут головой
работать надо, никакие уставы тут нам не помогут. (Благодушно.) А теперь
можно идти в Рейникендорф. (Спохватившись.) У меня там тетя. Что, вы как
будто не в восторге? (Горничной.) Что ты так смотришь, Анна? Не поняла, в
чем фокус?
Горничная. Поняла. Не такая уж я дура, как ты думаешь.
Штурмовик (протягивает ей руку с таким видом, как будто ему испортили
все удовольствие). Сотри.
Она платком вытирает ему ладонь.
Кухарка. Вот такими-то средствами и нужно работать, если враги хотят
разрушить все, что построил наш фюрер и в чем нам все другие народы
завидуют.
Шофер. Как, простите? А, совершенно правильно. (Достает часы.) Пойду
вымою машину. Хайль Гитлер! (Уходит.)
Штурмовик. Что за личность?
Горничная. Тихий человек. Никакой политикой не занимается.
Рабочий (встает). Так, Минна, я тоже, пожалуй, пойду. И не обижайтесь
за пиво. Могу сказать, я лишний раз убедился, что ничего ни у кого не
выйдет, если он что-нибудь затеет против Третьей империи, - очень
утешительно это сознавать. Что до меня, так я никогда не соприкасаюсь с
разрушителями, а то я с удовольствием сам бы выступил против них. Только у
меня нет такой находчивости, как у вас. (Ясно и отчетливо.) Итак, Минна,
премного тебе благодарен и хайль Гитлер!
Все остальные. Хайль Гитлер!
Штурмовик. Мой вам добрый совет: не представляйтесь вы лучше таким
невинным. Это бьет в глаза. Со мной вы можете и запустить что-нибудь, я-то
умею понять шутку. Ну - так хайль Гитлер!
Рабочий уходит.
Вот они как - сразу и распрощались. Что-то больно скоро! Точно испугались
чего. Зря я упомянул насчет Рейникендорфа. Как они сразу насторожились!
Горничная. Я хотела кое о чем попросить тебя, Тео.
Штурмовик. Говори, не стесняйся!
Кухарка. Пойду белье разберу. Я тоже была молода. (Уходит.)
Штурмовик. Ну что?
Горничная. Я скажу только в том случае, если буду знать, что ты
нисколько не рассердишься, а иначе я ничего не скажу.
Штурмовик. Ладно, выкладывай!
Горничная. Мне, понимаешь... мне так неприятно... Я хочу взять из тех
денег двадцать марок.
Штурмовик. Двадцать марок?
Горничная. Вот видишь, ты рассердился.
Штурмовик. Взять с книжки двадцать марок - этим ты меня, конечно, не
обрадовала. На что тебе понадобились двадцать марок?
Горничная. Я бы не хотела тебе говорить.
Штурмовик. Так. Ты мне не хочешь сказать? Что-то странно.
Горничная. Я знаю, что тебе не понравится, так что я лучше ничего
объяснять не буду, Тео.
Штурмовик. Если ты нисколько мне не доверяешь...
Горничная. Да нет же, я тебе доверяю вполне.
Штурмовик. Значит, нам, по-твоему, следует вовсе прикрыть наш общий
счет в сберегательной кассе?
Горничная. Ну как ты мог такое подумать! У меня, если я возьму двадцать
марок, останется там еще девяносто семь.
Штурмовик. Можешь не высчитывать мне с такой точностью. Знаю сам,
сколько у нас на счету. Я понимаю, ты хочешь порвать со мной, потому что
завела шашни с другим. Ты, пожалуй, еще хочешь проверить наши книжки?
Горничная. Никаких я шашен не заводила.
Штурмовик. Тогда скажи, в чем дело?
Горничная. Ты же все равно решил не давать.
Штурмовик. Откуда я знаю? Ты, может, просишь на какое-нибудь нехорошее
дело. Я сознаю свою ответственность.
Горничная. Прошу на самое хорошее. И если бы мне не нужно было, я бы не
просила, ты знаешь это сам.
Штурмовик. Ничего я не знаю. Знаю только, что тут пахнет паленым. Зачем
тебе вдруг понадобились двадцать монет? Кругленькая сумма! Ты беременна?
Горничная. Нет.
Штурмовик. Уверена, что нет?
Горничная. Уверена.
Штурмовик. Если до меня дойдет, что ты затеваешь что-то незаконное,
если только я что-нибудь такое пронюхаю - крышка! Прямо тебе говорю. Ты,
верно, слышала сама: все, что делается против зачатого плода, есть тягчайшее
преступление, какое только ты можешь совершить. Если немецкий народ
перестанет размножаться, тогда конец его исторической миссии.
Горничная. Но, Тео, я просто не понимаю, о чем ты говоришь. Ничего
такого нет, будь что-нибудь такое, я тебе сказала бы, это касалось бы и
тебя. Но раз уж у тебя такие мысли, я лучше скажу все как есть. Проста я
хочу добавить Фриде на покупку зимнего пальто.
Штурмовик. А почему твоя сестра не может сама купить себе пальто?
Горничная. Да как же она купит его на свою пенсию? Она получает по
инвалидности всего двадцать шесть марок восемьдесят пфеннигов в месяц.
Штурмовик. А Зимняя помощь! То-то и есть, что вы совершенно не
доверяете национал-социалистскому государству. Я это понял давно по тем
разговорам, которые ведутся здесь, на этой кухне. Думаешь, я не заметил, как
ты кисло приняла сейчас мой фокус?
Горничная. Ничуть не кисло.
Штурмовик. Кисло! Так же точно, как эти парни, которые вдруг сразу
распрощались.
Горничная. Если ты хочешь знать мое истинное мнение, мне тоже кое-что
не понравилось.
Штурмовик. Что же тебе не понравилось, осмелюсь спросить?
Горничная. Что ты ловишь несчастных бедняков своими представлениями и
фокусами и всякими штуками. Мой отец тоже безработный.
Штурмовик. Так. Я только и ждал, что ты мне это скажешь. Меня и так уже
сомнения разбирали во время разговора с этим Линке.
Горничная. Ты хочешь сказать, что ты собираешься его подловить на том,
что он тут наговорил тебе же в угоду? И когда сами же мы его на то
подзуживали.
Штурмовик. Ничего я не хочу сказать, как тебе уже сказано. А если тебе
не по вкусу то, что я делаю, исполняя свой долг, так я тебе на это заявляю:
ты можешь прочитать в "Моей борьбе", что сам фюрер не считал для себя
зазорным проверять настроения в народе, и это долгое время было его прямым
делом, когда он служил в рейхсвере. И делалось это ради Германии и дало
большие результаты.
Горничная. Ну если ты так со мной, Тео, то я хочу только знать, могу ли
я получить свои двадцать марок, вот и все.
Штурмовик. Я скажу тебе только одно: я не в таком настроении, когда
можно что-нибудь у меня вытянуть.
Горничная. Что значит - вытянуть? Мои это деньги или твои?
Штурмовик. Как ты странно вдруг заговорила о наших общих сбережениях!
Для того мы, что ли, убрали евреев, чтобы из нас теперь сосали кровь
собственные наши соплеменники!
Горничная. Как ты можешь говорить такие вещи по поводу двадцати марок!
Штурмовик. У меня и так немало расходов. За одни только сапоги двадцать
семь марок заплачено.
Горничная. Как? Вам же их выдали бесплатно?
Штурмовик. Да, так мы думали. И я поэтому выбрал самые первосортные. А
потом поставили нам всем в счет, и мы сели в лужу.
Горничная. Двадцать семь марок за одни только сапоги? А какие же другие
расходы?
Штурмовик. Другие расходы?
Горничная. Ты же сказал, что у тебя много расходов.
Штурмовик. Так сразу не вспомнишь. Да и вообще нечего мне учинять
допрос. Можешь не беспокоиться, я тебя не обману. И насчет двадцати марок я
тоже как-нибудь соображу.
Горничная (плача). Тео, это же просто невозможно, как ты мог сказать
мне, что с деньгами все в порядке, и вдруг оказывается, что нет. Я просто не
знаю, что теперь и думать. Хоть двадцать-то марок осталось у нас на счету -
из всех наших денег?
Штурмовик (хлопает ее по плечу). Кто же говорит, что у нас ничего не
осталось на счету? Ерунда. Ты можешь на меня положиться. То, что ты мне
доверила, то будет в полной сохранности, как в несгораемом шкафу. Ну, веришь
ты своему Тео?
Она плачет, не отвечая.
У тебя просто нервы не в порядке, ты переутомилась. Ну, я отправился на
учение. Значит, в пятницу я за тобой зайду. Хайль Гитлер! (Уходит.)
Горничная старается унять свои слезы и ходит в отчаянии взад и вперед по
кухне. Возвращается кухарка с корзиной белья.
Кухарка. Что тут между вами вышло? Поссорились? Тео молодец. Побольше
бы нам таких. Ничего серьезного, конечно?
Горничная (все еще плача). Минна, не можете ли вы поехать к вашему
брату и сказать, что ему нужно остерегаться?
Кухарка. Чего?
Горничная. Ну так... вообще...
Кухарка. Из-за сегодняшнего? Неужели вы думаете?.. Но разве Тео
способен на такое?
Горничная. Я и сама теперь не знаю, что мне думать, Минна. Он так
изменился. Они его совсем испортили. Нехорошая у него компания. Четыре года
мы с ним были вместе, и теперь мне вдруг стало казаться, точно... Я попрошу
вас, посмотрите у меня на спине, там нет креста?
БОЛОТНЫЕ СОЛДАТЫ
А эти - под стражею, в сборе,
Шагают, о Марксе и Бебеле споря,
Друг друга берут в оборот,
Пока эсэсовец сонный
В лагерный карцер бетонный
Всех вместе не запрет.
Концентрационный лагерь Эстервеген, 1934 год. Несколько заключенных
мешают цемент.
Брюль (тихо, Дивенбаху). Подальше держись от Ломана, ненадежный малый.
Дивенбах (громко). Слушай, Ломан, Брюль говорит, что ты ненадежный,
чтобы я держался подальше от тебя.
Брюль. Скотина.
Ломан. Не тебе бы говорить, Иуда. Из-за кого Карла посадили в карцер?
Брюль. Скажешь, из-за меня? Я, что ли, получил сигареты неизвестно от
кого?
Ломан. Когда это я получил сигареты?
Член библейского общества. Берегись!
Часовой-эсэсовец проходит вверху по насыпи.
Эсэсовец. Кто тут язык распускает? А?
Все молчат.
В следующий раз всех отправлю в карцер, поняли? Петь немедленно!
Заключенные поют первую строфу "Песни болотных солдат".
Эсэсовец проходит дальше.
Заключенные (поют).
Нас не тешат птичьи свисты,
Здесь лишь топь да мокрый луг,
Да молчащий лес безлистый,
Как забор, торчит вокруг.
Солдат болотных рота,
С лопатами в болота
Идем.
Член библейского общества. И почему вы вечно спорите?
Дивенбах. Не твоего это ума дело, святоша. Вчера в рейхстаге его партия
(указывает на Брюля) голосовала за одобрение гитлеровской внешней политики.
А он вот (указывая на Ломана) считает, что гитлеровская внешняя политика
ведет к войне.
Брюль. При нас войны не будет.
Ломан. Положим, при вас уже раз была война.
Брюль. И вообще Германия слишком слаба в военном отношении.
Ломан. Ну один-то уж крейсер вы принесли Гитлеру в приданое.
Член библейского общества (Дивенбаху). А ты кто был? Социал-демократ
или коммунист?
Дивенбах. Я держался вне партий. Ломан. Зато теперь ты премило сидишь
внутри - внутри концлагеря.
Член библейского общества. Берегись!
Эсэсовец появляется снова и смотрит на заключенных, Брюль медленно запевает
третью строфу "Песни болотных солдат". Эсэсовец идет дальше.
Брюль (поет).
Мы застряли безвозвратно.
За побег ты жизнь отдашь.
Обведен четырехкратно
Частоколом лагерь наш.
Солдат болотных рота,
С лопатами в болота
Идем.
Ломан (бросает лопату). Как подумаю, что сижу здесь из-за вас, из-за
того, что вы раскололи единый фронт, так бы и размозжил тебе башку.
Брюль. Ну да, это на вас похоже: "Поклонись мне, как дружку, а не то
снесу башку". Как же, единый фронт! Вы рады бы переманить у нас людей.
Ломан. А вам больше нравится, чтобы их переманил Гитлер! Предатели
народа!
Брюль (в бешенстве хватает лопату и замахивается на Ломана, тот тоже
держит лопату наготове). Я тебе покажу!
Член библейского общества. Берегись! (Поспешно запевает последнюю
строфу "Песни болотных солдат".)
Эсэсовец показывается снова.
Все заключенные (подхватывают песню, усердно мешая цемент).
Не томись тоской бесплодной.
Ведь не вечен снег зимы.
Будет родина свободной,
Будем с ней свободны мы!
Болотные солдаты,
В болото мы лопаты
Швырнем!
Эсэсовец. Кто крикнул "Предатели народа"?
Все молчат.
Мало вас учили. (Ломану.) Отвечай, кто?
Ломан смотрит на Брюля и молчит.
(Дивенбаху.) Кто?
Дивенбах молчит.
(Члену библейского общества.) Кто?
Член библейского общества молчит.
(Брюлю.) Кто?
Брюль молчит.
Даю вам пять секунд, а потом всех отправлю в карцер и сгною там. (Выжидает
пять секунд.)
Все стоят молча, глядя в пространство.
Марш в карцер!
СЛУЖЕНИЕ НАРОДУ
Вот лагерные вахтеры,
Убийцы и живодеры,
Служат народу вполне.
Чтоб весел был и не плакал,
Секут и сажают на кол
По самой дешевой цене.
Концентрационный лагерь Ораниенбург, 1934 год. Тесный дворик между бараками.
На сцене темно, но слышно, как кого-то порют. Когда вспыхивает свет, виден
эсэсовец, который порет заключенного. Эсэсовский группенфюрер стоит в
глубине двора и курит, повернувшись к избиваемому спиной. Затем он уходит.
Эсэсовец (устав, садится на бочку). Продолжать работу.
Заключенный встает с земли и, пошатываясь, начинает чистить отхожее место.
Ну что тебе стоит, свинья, сказать "нет", когда тебя опрашивают: ты
коммунист? Ведь тебя забьют до смерти, меня лишат увольнительной, а я устал
как собака. И почему они не поручат порку Клапроту? Для него это одно
удовольствие. Когда этот сукин кот опять выйдет (прислушивается), возьмешь
кнут и будешь лупить по земле. Понял?
Заключенный. Так точно, господин шарфюрер.
Эсэсовец. Но только потому, что я себе все руки отмотал с вами,
собаками, понял?
Заключенный. Так точно, господин шарфюрер.
Эсэсовец. Внимание!
Снаружи доносятся шаги, и эсэсовец показывает на кнут. Заключенный поднимает
его и хлещет им по земле. Так как звук ударов ненастоящий, то эсэсовец
ленивым движением указывает на корзину, и заключенный начинает хлестать по
корзине. Шаги приостанавливаются. Эсэсовец торопливо и нервно вскакивает,
вырывает у заключенного кнут и бьет его.
Заключенный (шепотом). Только не по животу.
Эсэсовец бьет его по заду. Во двор заглядывает группенфюрер.
Группенфюрер. Бей по животу.
Эсэсовец бьет заключенного по животу.
ПРАВОСУДИЕ
Вот судьи, вот прокуроры.
Ими командуют воры:
Законно лишь то, что Германии впрок.
И судьи толкуют и ладят,
Пока весь народ не засадят
За проволоку, под замок.
Аугсбург, 1934 год. Совещательная комната в суде. За окном мутное январское
утро. Круглый газовый рожок еще горит. Судья надевает свою мантию. В дверь
стучат.
Судья. Войдите.
Входит следователь уголовного розыска.
Следователь. Доброе утро.
Судья. Доброе утро, господин Таллингер. Я вызвал вас по делу Геберле,
Шюнта, Гауницера. Откровенно говоря, мне в этом деле не все ясно.
Следователь. ?
Судья. Из материалов следствия видно, что означенный случай произошел в
ювелирном магазине Арндта, то есть в магазине, принадлежащем еврею?
Следователь. ?
Судья. А Геберле, Шюнт, Гауницер и по сей день состоят в отряде
штурмовиков номер семь?
Следователь утвердительно кивает головой.
Значит, отряд не счел нужным наложить на них взыскание?
Следователь отрицательно качает головой.
Надо полагать, что после этого происшествия, взволновавшего весь квартал,
отряд, со своей стороны, расследовал дело?
Следователь пожимает плечами.
Я был бы вам очень благодарен, Таллингер, если бы вы мне до судебного
разбирательства несколько... осветили дело.
Следователь (без всякого выражения). Второго декабря прошлого года в
восемь часов пятнадцать минут утра в ювелирный магазин Арндта по
Шлеттовштрассе ворвались штурмовики Геберле, Шюнт и Гауницер и после
короткой перебранки нанесли пятидесятичетырехлетнему Арндту рану в затылок.
При этом магазину был причинен материальный ущерб, выразившийся в сумме
одиннадцать тысяч двести тридцать четыре марки. Расследование, произведенное
уголовным розыском седьмого декабря прошлого года, показало...
Судья. Дорогой Таллингер, все это есть в деле. (С досадой показывает на
обвинительный акт, занимающий одну страницу.) Такого тощего и невнятного
заключения мне еще ни разу не приходилось видеть, а уж за последние месяцы я
достаточно нагляделся! Но то, что вы говорите, здесь все же написано. Я
надеялся, что вы раскажете мне кое-что о подоплеке этого дела.
Следователь. Пожалуйста, господин судья.
Судья. Ну?
Следователь. Никакой подоплеки нет, господин судья.
Судья. Неужели, Таллингер, вы считаете, что дело ясное?
Следователь (ухмыляясь). Нет, этого я не считаю.
Судья. По-видимому, во время драки исчезли ювелирные изделия. Их
отобрали?
Следователь. Как будто нет.
Судья. ?
Следователь. Господин судья, у меня жена, дети.
Судья. И у меня, Таллингер.
Следователь. Вот то-то. (Пауза.) Видите ли, Арндт ведь еврей.
Судья. Это я понял уже по фамилии.
Следователь. Вот то-то. Одно время соседи поговаривали, что в его семье
имел место случай осквернения расы.
Судья (начиная прозревать). Ага! А кто был в этом замешан?
Следователь. Дочь Арндта. Ей девятнадцать лет и, говорят, хорошенькая.
Судья. Официальное расследование было?
Следователь (уклончиво). Нет. Слухи вскоре прекратились.
Судья. Кто же их распространял?
Следователь. Домовладелец. Некий фон Миль.
Судья. Он, вероятно, не хотел иметь в своем доме еврейский магазин?
Следователь. Мы тоже так думали. Но он, видимо, взял назад жалобу.
Судья. Тем не менее этим до некоторой степени объясняется озлобление
против Арндта в данном квартале. И молодые люди действовали, так сказать, в
состоянии национального аффекта...
Следователь (решительно). Не думаю, господин судья.
Судья. Чего вы не думаете?
Следователь. Что Геберле, Шюнт и Гауницер будут особенно натирать на
осквернение расы.
Судья. Почему?
Следователь. Имя замешанного в этом деле арийца нигде официально не
значится. Мало ли кто это может быть. Он может оказаться всюду, где арийцы в
большом числе. А где арийцы в особенно большом числе? Словом, отряд номер
семь не желает, чтобы на суде касались этого пункта.
Судья (сердито). Зачем же вы мне об этом сообщаете?
Следователь. Вы сказали, что у вас жена и дети. Для того и сообщил,
чтобы вы не касались этого пункта. Вдруг кто-нибудь из соседей-свидетелей
заговорит об этом.
Судья. Понимаю. А вообще-то я мало что понимаю в этом деле.
Следователь. Между нами; чем меньше вы будете понимать, тем лучше.
Судья. Вам легко говорить. А я должен вынести приговор.
Следователь (неопределенно). Да-а.
Судья. Остается одно: провокация со стороны Арндта. Иначе этого случая
не объяснишь.
Следователь. Совершенно с вами согласен, господин судья.
Судья. В чем выразилась провокация?
Следователь. По их показаниям, они были спровоцированы самим Арндтом и
неким безработным, которого Арндт нанял сгребать снег. Они будто бы
отправились вылить по кружке пива, и, когда они проходили мимо магазина,
безработный Вагнер и сам Арндт, стоявший в дверях, стали осыпать их
непристойной бранью.
Судья. Свидетелей, вероятно, у них нет?
Следователь. Есть. Домовладелец, тот самый фон Миль, показал, что он
видел в окно, как Вагнер спровоцировал штурмовиков. А компаньон Арндта,
некий Штау, в тот же день пришел в помещение отряда и сказал Геберле, Шюнту
и Гауницеру, что Арндт всегда, и в частности в разговоре с ним, презрительно
отзывался о штурмовиках.
Судья. Ах вот как? У Арндта есть компаньон? Ариец?
Следователь. Ну конечно. Кто же берет еврея для вывески?
Судья. Так не станет же его компаньон показывать против него?
Следователь (с хитрой улыбкой). А может быть, и станет.
Судья (раздраженно). Как же так? Ведь если на суде будет доказано, что
Арндт спровоцировал Геберле, Шюнта и Гауницера, фирма не сможет требовать
возмещения убытков.
Следователь. А почему вы думаете, что этот Штау заинтересован в
возмещении убытков?
Судья. Не понимаю. Он же компаньон Арндта.
Следователь. Вот то-то.
Судья. ?
Следователь. Мы установили, то есть узнали стороной - это неофициальные
сведения, - что этот Штау свой человек в отряде номер семь. Он сам бывший
штурмовик, а возможно, и сейчас состоит в каком-нибудь отряде. Поэтому
Арндт, вероятно, и взял его в компаньоны. Штау уже был раз замешан в одном
налете штурмовиков. Но тогда они не на таковского напали, и дело с большим
трудом удалось замять. Я, конечно, не утверждаю, что и тут не обошлось без
него... Но, во всяком случае, это довольно опасный субъект. Только,
пожалуйста, все это строго между нами, я рассказал это только потому, что вы
сказали о жене и детях.
Судья (качая головой). Все-таки я не понимаю, какая польза господину
Штау от того, что фирма понесет убыток в одиннадцать тысяч с лишним марок?
Следователь. Ведь драгоценности так и не обнаружены. То есть у Геберле,
Шюнта и Гауницера их нет. И продавать их они тоже не продавали.
Судья. Так.
Следователь. Никто не может требовать от Штау, чтобы он продолжал вести
дело с компаньоном, который признан виновным в провокационных действиях
против штурмовиков. А раз ответственность за понесенные убытки падает на
Арндта, то он и должен возместить их Штау. Ясно?
Судья. Да, это действительно, очень ясно. (С минуту задумчиво смотрит
на следователя, лицо которого снова приняло казенно бесстрастное выражение.)
По-видимому, нужно остановиться на том, что Арндт спровоцировал штурмовиков.
Совершенно очевидно, что общественное мнение против него. Вы сами сказали,
что его домохозяин уже подавал жалобу по поводу возмутительных нравов в
семье Арндта. Да-да, я помню, этого пункта не надо касаться. Но, во всяком
случае, можно предполагать, что и с этой стороны выселение Арндта будет
встречено благожелательно. Благодарю вас, Таллингер, вы оказали мне большую
услугу. (Протягивает следователю сигару.)
Следователь уходит. В дверях он сталкивается с прокурором.
Прокурор (судье). Можно к вам на минутку?
Судья (чистит яблоко). Пожалуйста.
Прокурор. Я по поводу дела Геберле, Шюнта, Гауницера.
Судья (рассеянно). Да?
Прокурор. Дело, правда, в достаточной степени ясное...
Судья. Да. Откровенно говоря, я даже не понимаю, зачем прокуратура
возбудила это дело.
Прокурор. А как же? Случай получил огласку, вызвал недовольство. Даже в
национал-социалистских кругах настаивали на следствии.
Судья. Я вижу тут типичный случай еврейской провокации, и больше
ничего.
Прокурор. Вздор, милейший Голь! Напрасно вы думаете, что наши
обвинительные акты, хотя они и немногословны, не заслуживают пристального
внимания. Я так и думал, что вы в простоте души пойдете по линии наименьшего
сопротивления. Только осторожней, не сядьте в лужу. И оглянуться не успеете,
как очутитесь в какой-нибудь глухой дыре, в Померании. А там в наше время
довольно-таки неуютно.
Судья (в недоумении, перестав жевать яблоко). Ничего не понимаю.
Неужели вы хотите сказать, что намерены оправдать еврея Арндта?
Прокурор (с пафосом). Еще бы не намерен! Да он и не думал никого
провоцировать. Вы что же полагаете? Если он еврей, так он не найдет
справедливости перед судом Третьей империи? Очень странные у вас взгляды,
любезный Голь!
Судья (с досадой). Да я же никаких взглядов не высказываю. Просто у
меня сложилось впечатление, что Геберле, Шюнт и Гауницер были
спровоцированы.
Прокурор. Но ведь спровоцировал их не Арндт, а безработный, ну этот,
который снег сгребал... как его... Вагнер!
Судья. Об этом, дорогой Шпитц, в вашем заключении нет ни слова.
Прокурор. Совершенно верно. До сведения прокуратуры дошло только то,
что три штурмовика напали на Арндта. И прокуратура, как и надлежит,
вмешалась в это дело. Но если, предположим, свидетель фон Миль покажет на
суде, что во время происшествия Арндта вообще не было на улице, а что,
напротив, безработный... ну как его... Вагнер, произносил ругательства по
адресу штурмовиков, то суду с этим придется считаться.
Судья (с изумлением). Это покажет фон Миль?! Так ведь он же
домовладелец, который хочет выселить Арндта из своего дома. Не станет же он
показывать в его пользу.
Прокурор. Теперь вы уже фон Миля подозреваете! Почему вы думаете, что
он будет лгать под присягой? А известно ли вам, что фон Миль, помимо того
что он эсэсовец, имеет большие связи в министерстве юстиции? Я бы советовал
вам, любезный Голь, считать его порядочным человеком.
Судья. Да Я ничего не говорю. Кто же в наше время станет винить
человека за то, что он не хочет, чтобы в его доме был еврейский магазин?
Прокурор (великодушно). Если владелец магазина аккуратно платит за
наем...
Судья (дипломатично). Говорят, что фон Миль уже раз подавал на него
жалобу...
Прокурор. Ах, так и это вам известно? Но с чего вы взяли, что это было
сделано с целью выселить его? Тем более что жалоба была взята обратно.
По-моему, это скорей свидетельствует о хороших отношениях между ними. Не
будьте же так наивны, дорогой Голь.
Судья (начинает сердиться). Дорогой Шпитц, это все не так просто.
Компаньон Арндта, который, как я полагал, должен бы покрывать его,
собирается его топить, а домохозяин, который должен бы топить его,
собирается его покрывать. Пойди пойми что-нибудь!
Прокурор. А за что же мы жалованье получаем?
Судья. Ужасно запутанное дело. Сигару хотите?
Прокурор берет сигару, оба молча курят.
(В мрачном раздумье.) Но если на суде будет установлено, что провокации со
стороны Арндта не было, он может предъявить отряду иск о возмещении
убытков.
Прокурор. Во-первых, он не может предъявить иск отряду, в крайнем
случае он может предъявить его персонально Геберле, Шюнту и Гауницеру, у
которых нет ни гроша... А скорее всего, ему придется предъявить иск
безработному, ну как его... Вагнеру. (С ударением.) Во-вторых, я думаю, он
все-таки поостережется подавать жалобу на штурмовиков.
Судья. Где он сейчас находится?
Прокурор. В больнице.
Судья. А Вагнер?
Прокурор. В концентрационном лагере.
Судья (со вздохом облегчения). Ну конечно, принимая во внимание все
обстоятельства, Арндт, вероятно, не станет подавать жалобу. Да и Вагнер не
станет особенно настаивать на своей невиновности. Но только штурмовикам едва
ли понравится, что еврея оправдали.
Прокурор. Так ведь на суде будет установлено, что они стали жертвами
провокации. А исходила ли провокация от еврея или от марксиста - какая им
разница.
Судья (все еще сомневаясь). Нет, не скажите. Все-таки во время стычки
между безработным Вагнером и штурмовиками ювелирному магазину был нанесен
ущерб. Это бросает тень на отряд.
Прокурор. Ну что же делать. На всех не угодишь. А кому угождать, это
уж, любезный Голь, вам должно подсказать ваше национальное сознание. Могу
вам только сообщить, что в национал-социалистских кругах и, в частности, в
высшем эсэсовском руководстве определенно ожидают большей твердости от
германских судей.
Судья (с глубоким вздохом). Правосудие в наше время не такое простое
дело, дорогой Шпитц. Согласитесь сами.
Прокурор. Не спорю. Но есть прекрасное изречение нашего министра
юстиции, которого вы можете держаться: законно лишь то, что Германии впрок.
Судья (без энтузиазма). Да-да.
Прокурор. Действуйте смелей. (Встает.) Теперь вы знаете подоплеку.
Значит, дело ясней ясного. До скорого, милейший Голь. (Уходит.)
Судья очень недоволен. Он стоит несколько минут у окна. Потом рассеянно
перелистывает бумаги. Наконец звонит. Входит служитель.
Судья. Вызовите еще раз следователя Таллингера из комнаты свидетелей.
Только незаметно.
Служитель уходит. Через несколько минут входит следователь.
Слушайте, Таллингер, хорош бы я был, если бы последовал вашему совету и
признал поведение Арндта провокационным. Господин фон Миль готов будто бы
показать под присягой, что спровоцировал штурмовиков безработный Вагнер, а
вовсе не Арндт.
Следователь (с непроницаемым видом). Да, так говорят, господин судья.
Судья. Что это значит - так говорят? Что говорят?
Следователь. Что ругался Вагнер.
Судья. А это неправда?
Следователь (с сердцем). Господин судья, как мы можем утверждать,
правда это или....
Судья (твердо). Послушайте, Таллингер, что я вам скажу. Помните, вы
находитесь в германском суде. Отвечайте: сознался Вагнер или не сознался?
Следователь. Я могу только сказать, что лично я не был в
концентрационном лагере. В протоколе дознания - сам Вагнер болен, у него
что-то с почками, - сказано, что сознался. Но...
Судья. Значит, сознался! Какое же еще "но"?
Следователь. Он инвалид войны, был ранен в шею. Так вот Штау - знаете,
компаньон Арндта, - показал, что он вообще громко говорить не может. Как мог
фон Миль из окна второго этажа слышать ругань...
Судья. На это возразят, что не обязательно иметь громкий голос, чтобы
оскорбить кого-нибудь. Достаточно красноречивого жеста. У меня создалось
впечатление что именно такого рода лазейку прокуратура хочет оставить
штурмовикам. Точнее говоря, именно эту лазейку и только эту.
Следователь. Вот то-то, господин судья.
Судья. А что показал Арндт?
Следователь. Что его вообще при этом не было, а голову он разбил при
падении с лестницы. И больше от него ничего нельзя добиться.
Судья. Должно быть, он ни в чем не виноват, просто его впутали в это
дело.
Следователь. Вот то-то, господин судья.
Судья. А штурмовой отряд должен бы удовлетвориться тем, что Геберле,
Шюнта и Гауницера оправдают.
Следователь. Вот то-то, господин судья.
Судья. Что вы заладили, как попугай: вот то-то, вот то-то!..
Следователь. Вот то-то, господин судья.
Судья. Что вы хотите этим сказать, Таллингер? Вы не обижайтесь на меня,
вы же понимаете, что я немного нервничаю. Я знаю, что вы честный человек, и
если вы мне дали совет, так не зря.
Следователь (смягчаясь). А вам не приходило в голову, что прокурор
просто метит на ваше место и расставляет вам ловушку? Это теперь часто
делается. Допустим, вы признаете еврея невиновным. Он никого не
провоцировал. Его вообще не было при перепалке. Голову ему поранили случайно
во время другой драки. Значит, после выздоровления Арндт возвращается в свой
магазин. Штау, его компаньон, не может помешать ему в этом. А магазину
нанесен ущерб в сумме одиннадцати тысяч марок. Значит, и Штау терпит убытки,
потому что он не может требовать возмещения с Арндта. И Штау - я этих
субъектов знаю - обратится со своими претензиями к отряду номер семь. Сам-то
он воздержится, потому что он компаньон еврея, а следовательно, еврейский
приспешник. Но он найдет кого послать вместо себя. Тогда начнут говорить,
что штурмовики в порыве национального энтузиазма воруют ювелирные изделия.
Вы можете себе легко представить, как отнесутся штурмовики к вашему
приговору. Этого у нас вообще никто не поймет. Как может в Третьей империи
еврей оказаться правым, а штурмовики неправыми?
Уже несколько минут за сценой слышен шум. Он все усиливается.
Судья. Что там за шум? Минутку, Таллингер. (Звонит.)
Входит служитель.
Что там происходит?
Служитель. Зал переполнен. Все коридоры забиты, никто пройти не может.
А штурмовики заявляют, что получили приказ быть на суде, и требуют, чтобы их
пропустили.
Служитель уходит, так как перепуганный судья не в силах выговорить ни
слова.
Следователь (продолжает). Вам тогда житья не будет. Послушайте меня,
держитесь за Арндта и не трогайте штурмовиков.
Судья (в изнеможении подпирает голову рукой). Ну спасибо, Таллингер, я
еще подумаю.
Следователь. Да, подумать вам не мешает, господин судья. (Уходит.)
Судья тяжело встает и изо всех сил нажимает звонок. Входит служитель.
Судья. Сбегайте, пожалуйста, к господину Фею, советнику окружного суда,
и скажите ему, что я прошу его зайти ко мне на минутку.
Служитель уходит. Входит служанка с завтраком для судьи.
Служанка. Вы когда-нибудь свою голову дома забудете. Просто беда с
вами. Ну что вы сегодня забыли? Подумайте-ка хорошенько: самое главное!
(Протягивает ему завтрак.) Завтрак забыли! Вот и наелись бы опять горячих
крендельков, а потом мучались бы животом, как на прошлой неделе. Не бережете
вы себя.
Судья. Ну ладно, Мари.
Служанка. Еле-еле прорвалась к вам. Весь суд набит штурмовиками -
пришли дело слушать. Ну сегодня им покажут, правда? Вот и в мясной все
говорят: хорошо, что еще есть закон! Подумать только! Ни с того ни с сего
напасть на коммерсанта! Половина штурмовиков - бывшие уголовники, это весь
квартал знает. Не будь у нас закона, они бы, чего доброго, и церковь унесли.
Это они из-за колец сделали: у Геберле невеста есть, а невеста эта еще году
нет как по панели ходила. А на безработного с простреленным горлом, на
Вагнера, тоже они навалились, когда он снег сгребал, все видели. Среди бела
дня разбойничают, весь квартал в страхе держат, а скажешь что - подкараулят
и изобьют до полусмерти.
Судья. Ладно, ладно, Мари, ступайте!
Служанка. Я им сказала в мясной: будьте покойны, господин судья их
научит уму-разуму, правда ведь? Все хорошие люди за вас будут стоять, в этом
не сомневайтесь. Только завтрак свой ешьте потихоньку, не давитесь, это ведь
вредно, ну я ухожу, вам пора дело слушать, смотрите не очень там
расстраивайтесь, а еще лучше - позавтракайте до суда, минутку-то уж
подождут, зато вы спокойно покушаете. Берегите себя, помните - здоровье
дороже всего, ну я ухожу, не мне вас учить, и я вижу, вам уже не сидится, а
мне еще нужно в бакалейную. (Уходит.)
Входит советник окружного суда Фей, пожилой человек, друг Голя.
Советник. Ты меня звал?
Судья. Есть у тебя минутка времени? Я хотел посоветоваться с тобой. У
меня сейчас очень каверзное дело будет слушаться.
Советник (садится). Да, дело штурмовиков.
Судья (ходивший взад и вперед по комнате, останавливается). Откуда ты
знаешь?
Советник. Об этом у нас еще вчера говорили. Очень неприятное дело.
Судья (взволнованно бегает по комнате). А что у вас говорят?
Советник. Не завидуют тебе. (С любопытством.) Что ты думаешь делать?
Судья. В том-то и беда, что не знаю. Но я, по правде сказать, не
предполагал, что этим делом так интересуются.
Советник (с удивлением). Вот как?
Судья. По-видимому, этот компаньон Арндта - опасный субъект.
Советник. Так говорят. Но фон Миль тоже не ангел.
Судья. О нем что-нибудь известно?
Советник. Не много, но достаточно. У него, понимаешь ли ты, связи.
Пауза.
Судья. В высоких сферах?
Советник. В очень высоких.
Пауза.
(Осторожно.) Если ты еврея отведешь, а Габерле, Шюнта и Гауницера оправдаешь
на том основании, что безработный Вагнер спровоцировал их, а потом поспешил
укрыться в магазине, то, по-моему, штурмовики будут довольны. Арндт ведь не
станет на них жаловаться.
Судья (озабоченно). Он-то не станет, а его компаньон? Он будет
требовать возвращения пропавших вещей. И тогда все руководство штурмовых
отрядов взъестся на меня.
Советник (обдумав этот довод, которого он явно не ожидал). Но если ты
закопаешь еврея, фон Миль тебе непременно шею сломает, это в лучшем случае.
Ты, должно быть, не знаешь, что у него просроченные векселя. Он держится за
Арндта, как утопающий за соломинку.
Судья (с ужасом). Векселя?
В дверь стучат.
Советник. Войдите!
Входит служитель.
Служитель. Господин судья, я просто не знаю, куда посадить господина
генерального прокурора и господина Шенлинга, председателя окружного суда.
Хоть предупреждали бы заранее.
Советник (так как судья молчит). Освободите два места и не мешайте нам.
Служитель уходит.
Судья. Только их недоставало!
Советник. Фон Миль ни за что не допустит, чтобы Арндта засудили, ведь
это верное разорение. Арндт ему нужен.
Судья (совершенно убит). Как дойная корова.
Советник. Этого я не говорил, И я вообще не понимаю, как ты можешь
-приписывать мне такие мысли, решительно не понимаю. Я категорически
заявляю, что не сказал ни единого слова против господина фон Миля. Мне очень
жаль, Голь, что приходится это подчеркивать.
Судья (взволнованно). Что ты, Фей, как ты можешь так со мной
разговаривать? При наших отношениях!
Советник. Какие такие "наши отношения"? Не могу же я вмешиваться в
дела, которые ты ведешь. Хочешь - ссорься с министром юстиции, хочешь - с
штурмовым отрядом, словом, решай как знаешь. В наше время каждый должен
думать о себе.
Судья. Я и думаю о себе. Я только не знаю, что придумать. (Подходит к
двери и прислушивается к шуму в зале.)
Советник. Да, прискорбно.
Судья (с отчаянием). Господи, я же на все готов, пойми ты это! Тебя
точно подменили. Я решу так или этак, как прикажут, но я же должен знать,
что мне приказано. Если этого не знаешь, так и правосудия больше нет!
Советник. Я на твоем месте не стал бы кричать, что правосудия больше
нет, Голь.
Судья. Что уж я опять не так сказал? Я вовсе не это имел в виду. Я
только хочу сказать, что когда интересы так противоречивы...
Советник. В Третьей империи нет противоречий.
Судья. Конечно, конечно. Разве я спорю? Что ты каждое мое слово как на
аптекарских весах взвешиваешь?
Советник. Почему бы и нет? Я - судья.
Судья (обливаясь потом). Если бы стали взвешивать на весах каждое слово
каждого судьи, дорогой Фей! Да я готов разобрать это дело самым тщательным,
самым добросовестным образом, но мне должны сказать, какое решение диктуется
высшими интересами. Если я решу, что еврей не выходил из магазина,
разозлится домовладелец... нет - компаньон... я уже совсем запутался... а
если я признаю, что спровоцировал штурмовиков безработный, то домовладелец,
фон... постой, постой, как раз фон Миль хочет, чтобы... За что меня сажать в
глухую дыру в Померании? У меня грыжа, и я не хочу связываться со
штурмовиками, и, наконец, у меня же семья, Фей! Хорошо моей жене говорить,
чтобы я просто разобрал, как было дело. После этого в лучшем случае очнешься
в больнице. Разве я ставлю вопрос о налете? Я ставлю вопрос о провокации.
Так что же от меня хотят? Я, конечно, засужу не штурмовиков, а еврея или
безработного, но которого из них засудить? Как мне выбрать между безработным
и евреем, иначе говоря, между компаньоном и домовладельцем? В Померанию я ни
за что не поеду, уж лучше в концентрационный лагерь! Это же невозможно, Фей.
Что ты на меня так смотришь, точно я подсудимый! Ведь я же, кажется, на все
готов!
Советник (встав с кресла). В том-то и дело, что одной готовности мало,
дорогой мой.
Судья. Как же я должен решить?
Советник. Предполагается, господин Голь, что совесть подсказывает судье
его решение. Запомните это! Имею честь.
Судья. Ну конечно. Совесть и разумение. Но в этом, данном случае что я
должен выбрать? Скажи, Фей!
Советник уходит. Судья, онемев, смотрит ему вслед. Звонит телефон.
Судья (снимает трубку). Да?.. Эмми?.. От чего отказались?.. От партии в
кегли?.. Кто звонил?.. Адвокат Приснитц?.. Он-то откуда знает? Что это
значит? Это значит, что я должен вынести приговор. (Вешает трубку.)
Входит служитель. Явственно доносится шум из коридора.
Служитель. Дело Геберле, Шюнта и Гауницера, господин судья.
Судья (собирает бумаги). Иду.
Служитель. Господина председателя окружного суда я посадил на места для
прессы. Он ничего, остался доволен; А вот господин генеральный прокурор
отказался сесть на скамью свидетелей. Он, видимо, хотел сесть за судейский
стол. Но тогда вам, господин судья, пришлось бы слушать дело, сидя на скамье
подсудимых! (Глупо смеется своей шутке.)
Судья. Нет-нет, туда я ни за что не сяду.
Служитель. Не сюда, не сюда, вот в эту дверь. А где же папка с
обвинительным заключением?
Судья (окончательно потеряв голову). Да, она мне нужна, а то я,
пожалуй, не буду знать, кто обвиняемый, что, а? Так куда же нам все-таки
посадить генерального прокурора?
Служитель. Да вы книжку с адресами захватили, господин судья. Вот ваша
папка. (Сует ему под мышку.)
Судья, вытирая пот, в полном смятении выходит.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ
Жрецы медицинской науки
Идут, потирая руки;
Им платят со штуки, подряд.
И тех, кого мастер заплечный калечит,
Они латают, штопают, лечат
И шлют в застенок назад.
Берлин, 1934 год. Больничная палата. Только что доставлен новый больной.
Сестры вписывают его фамилию на аспидную дощечку в головах койки. На
соседних койках разговаривают двое больных.
Первый больной. А у этого что?
Второй больной. Я уже видел его в перевязочной. Сидел рядом с его
носилками. Он был еще в сознании, но ничего не ответил, когда я спросил, что
с ним. У него все тело - одна сплошная рана.
Первый больной. Незачем было тогда и спрашивать.
Второй больной. Так я же увидел, только когда его начали перевязывать.
Одна из сестер. Тише, профессор идет!
В сопровождении ассистентов и сестер в палату входит хирург.
Хирург (останавливается возле одной из коек; наставительно). Перед
вами, господа, великолепнейший случай, показывающий, насколько важно
спрашивать все вновь и вновь, искать все более глубоких причин заболевания,
без чего медицина превращается в простое знахарство. У пациента все явления,
характерные для невралгии, и долгое время его от нее и лечили. На деле
оказалось, что он страдает болезнью Рейно; пациент нажил ее от работы с
пневматическими инструментами, то есть, господа, мы имеем дело с
профессиональным заболеванием. Лишь теперь можем мы вести лечение правильно.
Вы видите на этом случае, насколько ошибочно рассматривать пациента только в
клинической обстановке, вместо того чтобы спросить: откуда этот пациент, где
он нажил свою болезнь и куда пациент возвратится по излечении. Какие три
пункта обязательны для хорошего врача? Что он должен уметь? Во-первых...
Первый ассистент. Спрашивать.
Хирург. Во-вторых?
Второй ассистент. Спрашивать.
Хирург. В-третьих?
Третий ассистент. Спрашивать, господин профессор!
Хирург. Правильно! Спрашивать! И в первую очередь о чем?
Третий ассистент. О социальных условиях, господин профессор!
Хирург. И бесстрашно устремлять свой взор на частную жизнь пациента,
которая нередко бывает, увы, весьма печальной. Когда человек вынужден
заниматься такой профессией, которая рано или поздно должна его физически
разрушить, и он, так сказать, умирает, чтобы не околеть с голоду, мы не
любим слышать о таких вещах и избегаем об этом спрашивать. (Подходит со
своей свитой к койке нового пациента.) А что у этого?
Старшая сестра что-то шепчет ему на ухо.
Ах так! (Бегло и, видимо, принуждая себя осматривает больного. Диктует.)
Ушибы на спине и на бедрах. Открытые раны на животе. Еще что?
Старшая сестра (читает вслух). Кровь в моче.
Хирург. С каким диагнозом доставлен?
Старшая сестра. Разрыв левой почки.
Хирург. Сначала надо еще сделать рентген. (Намеревается отойти.)
Третий ассистент (записывающий историю болезни). Причина заболевания,
господин профессор?
Хирург. А какая причина указана?
Старшая сестра. Как причина заболевания указано падение с лестницы.
Хирург (диктует). Падение с лестницы. Почему руки связаны?
Старшая сестра. Пациент уже два раза срывал повязку.
Хирург. Почему?
Первый больной (вполголоса). Откуда пациент и куда пациент вернется по
излечении?
Все круто оборачиваются к нему.
Хирург (откашливаясь.) Если пациент будет неспокоен, дайте морфий.
(Подходит к следующей койке.) Ну что, получше стало? Набираемся сил?
(Смотрит у больного горло.)
Один из ассистентов (другому). Рабочий. Доставлен из Ораниенбурга.
Другой ассистент (усмехаясь). Стало быть, тоже профессиональное
заболевание.
ФИЗИКИ
Тевтонские бороды всклоченные
Приклеив, идут озабоченные
Ученые нашей страны.
Нелепую физику новую
С бесспорно арийской основою
Они придумать должны.
Геттинген, 1935 год. Институт физики. Двое ученых Икс и Игрек. Игрек
только что вошел. У него вид заговорщика.
Игрек. Получил!
Икс. Что?
Игрек. Ответ на вопросы, посланные Миковскому в Париж.
Икс. Относительно гравитационных волн?
Игрек. Да.
Икс. И что же?
Игрек. Знаешь, кто дал нам исчерпывающий ответ?
Икс. Кто?
Игрек пишет на бумажке фамилию и протягивает записку Иксу. После того как
Икс прочел, Игрек берет бумажку, рвет ее на мелкие клочки и бросает в
печку.
Игрек. Миковский переслал наши вопросы ему. Вот его ответ.
Икс (жадно протягивает руку). Дай сюда! (Внезапно отпрянув.) Но если
узнают, с кем мы переписываемся...
Игрек. Этого нельзя допустить!
Икс. Но иначе мы не можем сделать дальше ни шага. Давай уж, все равно!
Игрек. Ты ничего не поймешь. Я все тут зашифровал по-своему. Так оно
вернее. Я прочту тебе.
Икс. Потише!
Игрек. Ролькопф там, в лаборатории? (Указывает направо.)
Икс (указывает налево). Нет, зато там Рейнгард. Сядь сюда.
Игрек (читает). Речь идет о двух произвольных контрвариантных векторах
φ и Υ и о контрвариантном векторе t. С их помощью образуются компоненты
смешанного тензора второй степени, структура которого в соответствии с этим
выражается:
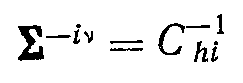 Икс (все время записывал то, что читал Игрек, но тут подает ему знак
замолчать). Минутку! (Встает и на цыпочках идет к стене налево. Не услышав,
очевидно, ничего подозрительного, возвращается.)
Игрек возобновляет чтение, которое время от времени прерывается таким же
образом: ученые обследуют телефон, внезапно распахивают дверь и т. д.
Игрек. Для покоящейся некогерентной материи, элементы которой не
действуют друг на друга посредством натяжения, Т = μ, единственная
компонента тензора плотности энергии, не равная нулю. Вследствие этого
возникает статическое гравитационное поле, уравнение которого при включении
коэффициента пропорциональности 8πх представляется так:
Икс (все время записывал то, что читал Игрек, но тут подает ему знак
замолчать). Минутку! (Встает и на цыпочках идет к стене налево. Не услышав,
очевидно, ничего подозрительного, возвращается.)
Игрек возобновляет чтение, которое время от времени прерывается таким же
образом: ученые обследуют телефон, внезапно распахивают дверь и т. д.
Игрек. Для покоящейся некогерентной материи, элементы которой не
действуют друг на друга посредством натяжения, Т = μ, единственная
компонента тензора плотности энергии, не равная нулю. Вследствие этого
возникает статическое гравитационное поле, уравнение которого при включении
коэффициента пропорциональности 8πх представляется так:
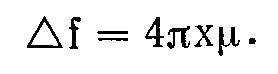 При соответствующем выборе пространственных координат отклонение от величины
c2dt2 очень незначительно.
Где-то хлопает дверь, и ученые спешат спрятать свои записи. Но тревога
оказывается напрасной. В дальнейшем оба настолько увлекаются, что даже
забывают, каким предосудительным делом они заняты.
(Продолжает читать.) С другой стороны, неизвестные массы очень малы тю
сравнению с покоящейся массой, создающей поле, вследствие чего движение тел,
помещенных в гравитационное поле, определяется геодезической мировой линией
в этом статическом гравитационном поле. Она (эта линия) удовлетворяет
вариационному принципу
При соответствующем выборе пространственных координат отклонение от величины
c2dt2 очень незначительно.
Где-то хлопает дверь, и ученые спешат спрятать свои записи. Но тревога
оказывается напрасной. В дальнейшем оба настолько увлекаются, что даже
забывают, каким предосудительным делом они заняты.
(Продолжает читать.) С другой стороны, неизвестные массы очень малы тю
сравнению с покоящейся массой, создающей поле, вследствие чего движение тел,
помещенных в гравитационное поле, определяется геодезической мировой линией
в этом статическом гравитационном поле. Она (эта линия) удовлетворяет
вариационному принципу
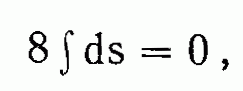 причем концы соответствующего отрезка мировой линии закреплены.
Икс. А что говорит Эйнштейн о...
По ужасу на лице Игрека Икс видит, что проговорился, и сам замирает на месте
от ужаса. Игрек вырывает у него из рук сделанные им записи и засовывает все
бумаги в карман.
Игрек (очень громко, обращаясь к стене налево). Чисто еврейские фокусы!
С физикой это не имеет ничего общего.
Облегченно вздохнув, оба снова берут свои записи и молча, с величайшей
опаской, продолжают работать.
ЖЕНА ЕВРЕЙКА
Идут на еврейках женатые,
Изменники расы завзятые.
Их спарят с арийками тут,
Блондинкой заменят брюнетку,
И, словно в случную клетку,
Насильно в расу вернут.
Франкфурт, 1935 год. Вечер. Жена укладывает чемоданы. Она выбирает вещи,
какие нужно взять с собой. Иногда она вынимает уже уложенную вещь и снова
ставит ее на место, а взамен укладывает другую. Долго она колеблется, взять
ли ей большую фотографию мужа, стоящую на комоде. В конце концов она
оставляет ее. Устав от сборов, она присаживается на чемодан, подперев голову
рукой. Потом встает, подходит к телефону и набирает номер.
Жена. Это вы, доктор?.. Говорит Юдифь Кейт. Добрый вечер. Я хотела
только сказать, что теперь вам придется поискать другого партнера в бридж. Я
уезжаю... Нет, ненадолго, недели на две... В Амстердам... Да, говорят,
весной там чудесно... У меня там друзья... Нет, не в единственном числе...
Напрасно сомневаетесь... С кем вы теперь будете играть в бридж?.. Но ведь мы
и) так уже две недели не играем... Ну конечно, Фриц тоже был простужен. В
такой холод вообще нельзя играть в бридж... Я так и сказала. Да что вы,
доктор, с чего бы? Нисколько... Ведь у Теклы гостила мать... Знаю... С какой
стати мне пришло бы это в голову... Нет, это не внезапно. Я давно
собиралась, только все откладывала, а теперь мне пора... Да, в кино пойти
нам уже тоже не придется. Кланяйтесь Текле. Может быть, вы как-нибудь в
воскресенье позвоните ему. Так до свидания! Да, конечно, с удовольствием!..
Прощайте! (Вешает трубку и набирает другой номер.) Говорит Юдифь Кейт.
Нельзя ли позвать фрау Шэкк?.. Я хочу проститься с тобой, я уезжаю
ненадолго... Нет, я здорова, просто хочется повидать новые места, новых
людей... Да, что я хотела тебе сказать, во вторник вечером у Фрица будет
профессор, может быть, и вы зайдете? Я ведь сегодня ночью уезжаю. Да, во
вторник... Нет, я только хотела сказать, что уезжаю сегодня ночью, так вот я
подумала, отчего бы и вам не прийти?.. Ну хорошо, скажем - несмотря на то,
что меня не будет. Я же знаю, что вы не из таких, ну что ж, время
беспокойное и всем приходится быть начеку. Так вы придете?.. Если у Макса
будет время?.. У него будет время, скажи ему, что придет профессор... Ну,
мне пора. Прощай. (Вешает трубку и набирает еще номер.) Гертруда, ты? Это я,
Юдифь. Прости, если помешала... Благодарю. Я хотела тебя спросить, не могла
бы ты присмотреть за Фрицем, я уезжаю на несколько месяцев... Вот как? Ты же
его сестра... Почему тебе не хочется?.. Никто ничего не подумает, и уж во
всяком случае не Фриц... Конечно, он знает, что мы с тобой не очень
дружим... но... ну хорошо, он сам тебе позвонит. Да, я ему скажу... Все ведь
более или менее налажено, но квартира несколько велика... Как убирать его
кабинет, Ида знает, пусть там хозяйничает... По-моему, она очень
расторопная, и Фриц привык к ней... И вот что еще - пожалуйста, не пойми это
превратно, - он не любит разговоров до обеда - не забудешь? Я всегда
воздерживалась... Ну не будем сейчас спорить об этом, до отхода поезда
осталось мало времени, а я еще не уложила вещи... Последи за его костюмами и
напомни ему, что нужно пойти к портному, он заказал пальто. И позаботься,
чтобы у него в спальне подольше топили, он спит всегда с открытым окном, а
еще слишком холодно... Нет, я не думаю, что ему нужно закаляться, прости,
Гертруда, у меня больше нет времени... Я тебе очень благодарна, и мы же
будем писать друг другу. Прощай. (Вешает трубку и набирает еще номер.) Анна?
Говорит Юдифь. Слушай, я сейчас уезжаю... Нет, это необходимо, становится
слишком трудно... Слишком трудно!.. Нет, Фриц яе хочет, и он еще ничего не
знает. Я просто уложила вещи... Не думаю... Не думаю, чтобы он стал особенно
возражать. Для него это становится слишком трудно по внешним причинам. Нет,
об этом мы не уславливались... Мы вообще никогда об этом не говорили,
никогда!.. Нет, он не переменился, напротив... Слушай, я хотела бы, чтобы вы
немного развлекали его, хотя бы в первое время... Да, особенно по
воскресеньям, и уговорите его переехать... Квартира слишком велика для него.
Я бы охотно забежала к тебе проститься, но ведь ваш швейцар, понимаешь?.. Ну
прощай, нет-нет, не приезжай на вокзал, ни под каким видом!.. Прощай, я
напишу... Непременно. (Вешает трубку. Во время разговора она курила. Теперь
она сжигает записную книжку, которую перелистывала, ища номера телефонов.
Несколько раз прохаживается по комнате. Потом начинает говорить, репетируя
маленькую речь перед мужем, и становится ясно, что муж всегда сидит на
определенном кресле.) Так вот, Фриц, я уезжаю. Пожалуй, мне следовало давно
уже это сделать, ты не сердись, что я не могла решиться, но...
(Остановилась, задумалась. Начинает снова.) Фриц, не надо удерживать меня,
мне нельзя оставаться... Ясно же, что я погублю тебя. Я знаю, ты не трус,
полиции ты не боишься, но есть вещи пострашнее. Они не отправят тебя в
концлагерь, но не сегодня-завтра закроют перед тобой двери клиники. Ты
ничего не скажешь, но ты заболеешь. Не хочу я, чтобы ты тут сидел без дела,
перелистывал журналы. Я уезжаю из чистого эгоизма, только и всего. Молчи...
(Снова останавливается и снова начинает.) Не говори, что ты не изменился, -
это неправда! На прошлой неделе ты вполне объективно заметил, что процент
евреев среди ученых не так-то уж велик. Всегда начинается с объективности. И
почему ты постоянно твердишь мне теперь, что никогда во мне не был так силен
еврейский национализм. Конечно, я националистка. Это заразительно. Ах, Фриц,
что с нами случилось! (Останавливается. Начинает снова.) Я не говорила тебе,
что хочу уехать, давно уже хочу, потому что, как только взгляну на тебя,
слова застревают в горле. В самом деле, нужно ли объясняться, Фриц? Ведь все
уже решено. Какой бес вселился в них? Чего они, в сущности, хотят? Что я им
сделала? Политикой я никогда не занималась. Разве я была за Тельмана? Я же
из тех буржуазных дам, которые держат прислугу и так далее, и вдруг
оказывается, что на это имеют право только блондинки. Я последнее время
часто вспоминаю: как много лет назад ты сказал мне, что существуют очень
ценные люди и менее ценные и что одним дают инсулин при диабете, а другим не
дают. А я-то, дура, согласилась с этим. Теперь они сортируют людей по новому
признаку, и теперь я в числе неполноценных. Поделом мне. (Останавливается.
Начинает снова.) Да, я укладываю вещи. Не притворяйся, что ты этого не
замечал. Фриц, все можно вынести, кроме одного: неужели в последний час мы
не взглянем честно друг другу в глаза? Нельзя, чтобы они этого добились,
Фриц. Они сами лгут и хотят всех принудить ко лжи. Десять лет назад, когда
кто-то сказал мне, что я совсем не похожа на еврейку, ты тут же возразил:
нет, похожа. Меня это порадовало. Все было ясно. Зачем же теперь нам ходить
вокруг да около? Я уезжаю, потому что иначе тебя лишат должности. Потому что
с тобой и сейчас уже не здороваются в клинике и потому что ты уже не спишь
по ночам. Не говори, что я не должна уезжать. Я тороплюсь, потому что не
хочу дождаться того дня, когда ты скажешь мне: уезжай. Это только вопрос
времени. Стойкость - это тоже вопрос времени. Она может выдержать
определенный срок, точно так как перчатки. Хорошие перчатки носятся долго,
но не вечно. Не думай, что я сержусь. Нет, сержусь. Почему я должна со всем
соглашаться? Что плохого в форме моего носа, в цвете моих волос? Меня
вынуждают бежать из города, в котором я родилась, чтобы им остался лишний
паек масла. Что вы за люди? Да-да, и ты. Вы изобрели квантовую теорию,
остроумнейшие методы лечения, и вы позволяете этим дикарям командовать вами.
Вам внушают, что вы завоюете мир, но вам не разрешают иметь жену по своему
выбору. Искусственное дыхание и "Помни, солдат, о задаче своей: каждою пулей
русского сбей". Вы чудовища или подлизы чудовищ! Да, неразумно, что я это
говорю, но к чему разум в таком мире, как наш? Ты сидишь и смотришь, как
твоя жена укладывает чемоданы, и молчишь. У стен есть уши, да? Так вы же
молчите! Одни подслушивают, другие молчат. Фу, черт! Мне лучше бы помолчать.
Если бы я тебя любила, я бы молчала. А я ведь и вправду тебя люблю. Подай
мне белье - вон то. Видишь, какое нарядное. Оно мне понадобится. Мне
тридцать шесть лет, это еще не старость, но долго заниматься экспериментами
мне уже нельзя. В той стране, куда я попаду, это не должно повториться.
Человек, за которого я выйду, должен иметь право держать меня при себе. И
пожалуйста, не говори, что ты будешь высылать мне деньги, ты же знаешь, что
тебе этого не разрешат. И не делай вид, что это на какой-нибудь месяц. То,
что здесь происходит, продлится не один месяц. Ты это знаешь и я знаю. Так
что не говори: всего-то на несколько недель, подавая мне шубу, - ведь
шуба-то понадобится мне только зимой. И не будем называть это несчастьем.
Будем называть это позором. Ах, Фриц! (Умолкает.)
Где-то хлопает дверь. Жена наспех приводит себя в порядок. Входит ее муж.
Муж. Ты что это? Порядок наводишь?
Жена. Нет.
Муж. Зачем ты укладываешь вещи?
Жена. Хочу уехать.
Муж. Что случилось?
Жена. Мы же как-то говорили, что мне следовало бы на время уехать.
Здесь ведь теперь не слишком приятно.
Муж. Какие глупости!
Жена. Так что же, оставаться мне?
Муж. А ты куда, собственно, думаешь поехать?
Жена. В Амстердам. Только бы уехать.
Муж. Но ведь у тебя там никого нет.
Жена. Никого.
Муж. Почему же ты не хочешь остаться? Во всяком случае, из-за меня тебе
незачем уезжать.
Жена. Незачем.
Муж. Ты знаешь, что я ничуть к тебе не переменился. Ты это знаешь,
Юдифь?
Жена. Да.
Он обнимает ее. Они молча стоят среди чемоданов.
Муж. Никаких других причин для твоего отъезда нет?
Жена. Ты же знаешь.
Муж. Может быть, это не так уж глупо. Тебе нужно подышать свежим
воздухом. Здесь можно задохнуться. Я приеду за тобой. Два-три дня, что я
пробуду по ту сторону границы, освежат и меня.
Жена. Верно.
Муж. Да и вообще - долго здесь так продолжаться не может. Откуда-нибудь
придет перемена. Все это кончится, как воспалительный процесс.
Жена. Конечно. Ты видел Шэкка?
Муж. Да, то есть мы столкнулись на лестнице. Мне кажется, он уже
жалеет, что они разошлись с нами. Он был явно смущен. В конце концов им
придется ослабить нажим на нас, интеллигентов. С одними лакеями, которые
только и умеют что спину гнуть, воевать не пойдешь. И люди не так уж сильно
хамят, если им давать отпор. Ты когда хочешь ехать?
Жена. В девять пятнадцать.
Муж. А куда посылать тебе деньги?
Жена. Лучше всего - Амстердам, главный почтамт, до востребования.
Муж. Я добьюсь специального разрешения. Черт возьми, не могу же я
допустить, чтобы моя жена жила на десять марок в месяц! В общем все это
большое свинство. На душе у меня просто отвратительно.
Жена. Если ты приедешь за мной, тебе станет легче.
Муж. Хоть почитать газету, в которой что-нибудь сказано.
Жена. Гертруде я звонила. Она будет присматривать за тобой.
Муж. Совершенно излишне. Из-за нескольких недель...
Жена (начинает опять, укладываться). А теперь подай мне, пожалуйста,
шубу.
Муж (подает ей шубу). В конце концов, всего-то на несколько недель.
ШПИОН
Профессоры маршируют,
Их лоботрясы муштруют
И жучат, отставкой грозя.
Зачем для безусых отребий
Знать о земле и о небе,
Когда им думать нельзя?
Идут прелестные детки,
Что служат в контрразведке,
Доносит каждый юнец,
О чем болтают и мама и папа,
И вот уже мама и папа - в гестапо,
И маме и папе конец.
Кельн, 1935 год. Дождливый день. Воскресенье. Муж, жена и сын-школьник
только что пообедали. Входит служанка.
Служанка. Фрау Климбч с мужем спрашивают, дома ли господа?
Муж (резко). Нет.
Служанка выходит.
Жена. Ты должен был сам подойти к телефону. Они ведь знают, что мы
никуда не могли уйти.
Муж. Почему это мы никуда не могли уйти?
Жена. Потому что идет дождь.
Муж. Это еще не причина.
Жена. Да и куда бы мы могли пойти? Они сразу об этом подумают.
Муж. Мало ли куда можно пойти.
Жена. Так почему же мы не идем?
Муж. А куда нам идти?
Жена. Если бы хоть дождя не было.
Муж. А куда бы мы пошли, если бы дождя не было?
Жена. Прежде можно было по крайней мере встречаться с людьми.
Пауза.
Напрасно ты не подошел к телефону. Теперь они знают, что мы не хотим
поддерживать с ними знакомство.
Муж. Ну и пусть знают!
Жена. Неприятно, что мы сторонимся их теперь, когда все начали их
сторониться.
Муж. Мы их не сторонимся.
Жена. Так почему им тогда не прийти к нам?
Муж. Потому что этот Климбч надоел мне до смерти.
Жена. Прежде ты этого не говорил.
Муж. Прежде! Не раздражай ты меня своим вечным "прежде"!
Жена. Во всяком случае, прежде ты не оборвал бы знакомства с ним
потому, что школьная инспекция что-то против него затевает.
Муж. Ты, значит, хочешь сказать, что я трус?
Пауза.
Так позвони им и скажи, что мы вернулись из-за дождя.
Жена (не двигается с места). Может быть, спросить Лемке, не зайдут ли
они?
Муж. Чтобы они опять доказывали нам, что мы с недостаточным рвением
относимся к противоздушной обороне?
Жена (мальчику). Клаус Генрих, отойди от радио!
Муж. И как нарочно сегодня идет дождь. Что за несчастье! Нечего
сказать, удовольствие жить в стране, где дождь - это целое несчастье!
Жена. По-твоему, очень умно говорить вслух такие вещи?
Муж. У себя, в моих четырех стенах, я могу говорить что мне угодно. Я
не позволю, чтобы мне в моем собственном доме... (Умолкает.)
Входит служанка с кофейным сервизом. Оба молчат, пока она не выходит.
Неужели нельзя обойтись без служанки, у которой отец - квартальный
наблюдатель?
Жена. Об этом мы, кажется, уже достаточно говорили. В конце концов ты
сказал, что это имеет свои преимущества.
Муж. Тебя послушать, чего только я не говорил. Вот скажи такое твоей
мамаше, и мы попадем в хорошенькую историю.
Жена. О чем я говорю с моей матерью - это...
Входит служанка с кофе.
Больше ничего не нужно, Эрна, можете идти. Я сама налью.
Служанка. Большое спасибо, сударыня. (Уходит.)
Мальчик (отрываясь от газеты). Все священники так делают, папа?
Муж. Что делают?
Мальчик. Что здесь написано.
Муж. Что это ты читаешь? (Вырывает у него газету из рук.)
Мальчик. Наш группенфюрер сказал нам - можете читать все, что пишут в
этой газете.
Муж. Группенфюрер мне не указ. Что тебе можно и чего тебе нельзя
читать, решаю я.
Жена. Вот десять пфеннигов, Клаус Генрих, поди купи себе что-нибудь.
Мальчик. Да ведь дождь идет. (Нерешительно подходит к окну.)
Муж. Если они не перестанут печатать отчеты о процессах священников, я
вообще откажусь от подписки на эту газету.
Жена. А на какую ты подпишешься? Ведь это печатают во всех.
Муж. Если такие мерзости печатаются во всех газетах, то я не стану
читать ни одной. И от этого я буду знать не меньше, чем сейчас, что делается
на свете.
Жена. Собственно, не так плохо, что они наводят чистоту.
Муж. Все это только политика.
Жена. Во всяком случае, нас это не касается. Мы ведь протестанты.
Муж. Но народу не все равно, если при мысли о ризнице ему мерещатся
всякие гадости.
Жена. Ну а что же им делать, если такие вещи действительно происходят?
Муж. Что им делать? Не мешало бы им хоть раз на себя оборотиться. У них
в Коричневом доме будто бы вполне чисто.
Жена. Но ведь эти процессы доказывают оздоровление нашего народа, Карл!
Муж. Оздоровление! Хорошенькое оздоровление! Если это называется
здоровьем, то я предпочитаю болезнь.
Жена. Ты сегодня все время нервничаешь. Что-нибудь случилось в школе?
Муж. Что могло случиться в школе? И, пожалуйста, не тверди постоянно,
что я нервничаю, именно от этого я и начинаю нервничать.
Жена. Почему мы вечно спорим, Карл? Прежде...
Муж. Этого только я и ждал! "Прежде"! Ни прежде, ни теперь я не желал и
не желаю, чтобы кто-нибудь отравлял воображение моего сына.
Жена. Кстати, где он?
Муж. Откуда мне знать?
Жена. Ты видел, как он ушел?
Муж. Нет.
Жена. Не понимаю, куда он мог деться. (Зовет.) Клаус Генрих!..
(Выбегает из комнаты. Слышно, как она зовет сына. Через некоторое время она
возвращается.) Он действительно ушел!
Муж. Почему бы ему и не уйти?
Жена. Дождь льет как из ведра!
Муж. Незачем так волноваться, если мальчику захотелось выйти из дому.
Жена. Что мы, собственно, говорили?
Муж. Какое это имеет к нему отношение?
Жена. Ты так несдержан последнее время. -Муж. Во-первых, это вовсе не
так, а во-вторых, если бы даже я действительно был несдержан последнее
время, то какое это имеет отношение к тому, что мальчика нет дома?
Жена. Но ведь они всегда прислушиваются.
Муж. Ну и?..
Жена. "Ну и..." Что, если он начнет болтать? Ты ведь знаешь, что им
вколачивают в голову в Гитлерюгенд. От них же прямо требуют, чтобы они
доносили обо всем. Странно, что он так тихонько ушел.
Муж. Глупости.
Жена. Ты не заметил, когда он ушел?
Муж. Он довольно долго стоял у окна.
Жена. Хотела бы я знать, что он успел услышать.
Муж. Но ведь ему известно, что бывает, когда на кого-нибудь донесут.
Жена. А тот мальчик, о котором рассказывал Шмульке? Его отец до сих пор
в концлагере. Если бы мы хоть знали, до каких пор он оставался тут в
комнате.
Муж. Все это совершеннейший вздор! (Пробегает по другим комнатам и
зовет мальчика.)
Жена. Странно, что он, не сказав ни слова, просто взял и ушел. Это на
него не похоже.
Муж. Может быть, он пошел к товарищу?
Жена. Тогда он у Муммерманов. Я сейчас позвоню туда. (Снимает
телефонную трубку.)
Муж. Уверен, что это ложная тревога.
Жена (у телефона). Говорит фрау Фурке. Добрый день, фрау Муммерман.
Скажите, Клаус Генрих у вас?.. Нет?.. Не понимаю, куда он пропал.... Вы не
знаете, фрау Муммерман, комитет Гитлерюгенд открыт по воскресеньям?.. Да?..
Большое спасибо, я сейчас позвоню туда. (Вешает трубку.)
Оба некоторое время сидят молча.
Муж. Что он, собственно, мог слышать?
Жена. Ты говорил про газету, И про Коричневый дом - что было уже
совершенно лишнее. Ты ведь знаешь, какой он истинный немец.
Муж. А что я такого сказал про Коричневый дом?
Жена. Неужели ты не помнишь? Что там не все чисто.
Муж. Но это ведь нельзя истолковать как враждебный выпад. Не все чисто,
или, как я сказал в более мягкой форме, не все вполне чисто - что уже
составляет разницу, и притом довольно существенную, - это скорее шутливое
замечание в народном духе, так сказать, в стиле обыденной разговорной речи,
которое всего лишь означает, что, вероятно, даже там кое-что не всегда
обстоит так, как хотелось бы фюреру. И я намеренно подчеркнул этот оттенок
вероятности, сказав, как я отлично помню, что даже и там тоже - "как будто"
не все вполне - заметь, именно - "не вполне" чисто. Как будто! А не наверно!
Я не могу сказать, что то или иное там нечисто, для этого у меня нет никаких
данных. Не бывает людей без недостатков. Только это я и хотел сказать, да и
то в самой смягченной форме. Сам фюрер выступал однажды с гораздо более
резкой критикой по этому поводу.
Жена. Я тебя не понимаю. Со мной тебе незачем так разговаривать.
Муж. Ну знаешь, как сказать. Мне ведь совершенно неизвестно, где и с
кем ты болтаешь о том, что может иной раз вырваться сгоряча у себя дома.
Разумеется, я далек от того, чтобы обвинять тебя в легкомысленном
распространении слухов, порочащих твоего мужа, точно так же как я ни на
минуту не допускаю, чтобы мой мальчик мог предпринять что-либо против своего
отца. Но делать зло и отдавать себе в этом: отчет - вовсе не одно и то же.
Жена. Замолчи наконец! Лучше бы ты следил за своим языком! Я все время
ломаю себе голову и не могу вспомнить, когда именно ты сказал, что в
гитлеровской Германии жить нельзя; до того или после того, как ты говорил о
Коричневом доме.
Муж. Я вообще ничего подобного не говорил.
Жена. Ты в самом деле разговариваешь со мной так, как будто я -
полиция! Я же только пытаюсь вспомнить, что мог слышать мальчик.
Муж. Гитлеровская Германия-выражение не из моего лексикона.
Жена. И про квартального наблюдателя, и что в газетах сплошное вранье,
и то, что ты на днях говорил о противовоздушной обороне. Мальчик вообще не
слышит от тебя ничего положительного! Это безусловно плохо действует на юную
душу и только разлагает ее, а фюрер всегда повторяет, что молодежь Германии
- это ее будущее. Но мальчик, конечно, вовсе не такой, чтобы просто побежать
туда и донести. Ох, мне прямо-таки тошно.
Муж. У него мстительный характер.
Жена. За что же он стал бы мстить?
Муж. А кто его знает, всегда найдется что-нибудь. Может быть, за то,
что я отнял у него лягушку.
Жена. Но это было еще на прошлой неделе.
Муж. Он таких вещей не забывает.
Жена. А зачем ты ее отнял?
Муж. Потому что он не ловил для нее мух. Он морил ее голодом.
Жена. У него действительно слишком много других дел.
Муж. Лягушке от этого не легче.
Жена. Но он ни слова об этом с тех пор не говорил, а сейчас я дала ему
десять пфеннигов. И вообще мы ему ни в чем не отказываем.
Муж. Да, это называется подкупом.
Жена. Что ты хочешь сказать?
Муж. Они сейчас же заявят, что мы пытались его подкупить, чтобы он
держал язык за зубами.
Жена. Как ты думаешь, что они могут с тобой сделать?
Муж. Да все! Разве существуют для них границы? Изволь тут быть
учителем! Воспитателем юношества! От этих юношей у меня душа в пятки уходит!
Жена. Но ведь ты ни в чем не замешан?
Муж. Каждый в чем-нибудь да замешан. Все под подозрением. Ведь
достаточно заподозрить человека в том, что он подозрителен.
Жена. Но ведь ребенок не может быть надежным свидетелем. Ребенок же не
понимает, что он говорит.
Муж. Это по-твоему. Но с каких это пор они стали нуждаться в
свидетелях?
Жена. А нельзя ли придумать, как объяснить твои замечания? Чтобы видно
было, что он тебя просто неправильно понял.
Муж. Что я, собственно, такое сказал? Я уже ничего не помню. Во всем
виноват этот проклятый дождь. Начинаешь злиться. В конце концов, я последний
стал бы возражать против духовного возрождения, переживаемого сейчас
немецким народом. Я предсказывал все это еще в конце тридцать второго года.
Жена. Карл, мы не можем сейчас тратить время на эти разговоры. Нам надо
условиться обо всем, и притом немедленно. Нельзя терять ни минуты.
Муж. Я не могу поверить, чтобы Клаус Генрих был способен на это.
Жена. Прежде всего - насчет Коричневого дома и мерзостей.
Муж. Я и звука не сказал о мерзостях.
Жена. Ты сказал, что в газете сплошь мерзости и что ты откажешься от
подписки.
Муж. Ах, в газете! Но не в Коричневом доме!
Жена. Предположим, ты сказал, что осуждаешь мерзости, которые
происходят в ризнице. И считаешь вполне вероятным, что именно эти люди,
которые сидят теперь на скамье подсудимых, в свое время сочиняли сказки об
ужасах Коричневого дома и распускали слухи, что там не все чисто? И что им
еще тогда не мешало на себя оборотиться? И что вообще ты сказал мальчику:
отойди от радио и почитай лучше газету, так как ты держишься того взгляда,
что молодежь в Третьей империи должна открытыми глазами смотреть на то, что
происходит вокруг.
Муж. Все это ничуть не поможет.
Жена. Карл, только не падай духом! Надо быть твердым, как фюрер всегда
нам...
Муж. Как я могу предстать перед судом, когда свидетелем будет выступать
моя собственная плоть и кровь и давать показания против меня!
Жена. Не надо так смотреть на это.
Муж. Напрасно мы дружили с этими Климбчами. Какое легкомыслие!
Жена. Но он же цел и невредим.
Муж. Да, но расследование уже затевается.
Жена. Если бы все, кому грозит расследование, ставили на себе крест...
Муж. Как по-твоему, квартальный наблюдатель имеет что-нибудь против
нас?
Жена. Ты думаешь - на случай, если у него запросят сведения? Ко дню
рождения я послала ему коробку сигар, и к Новому году я тоже не поскупилась.
Муж. Наши соседи, Гауффы, дали ему пятнадцать марок!
Жена. Так они в тридцать втором еще читали "форвертс", а в мае тридцать
третьего вывесили черно-бело-красный флаг!
Телефонный звонок.
Муж. Телефон!
Жена. Подойти?
Муж. Не знаю.
Жена. Кто это может быть?
Муж. Подожди немного. Если позвонят еще раз, тогда подойдешь.
Ждут. Звонок не повторяется.
Это же не жизнь!
Жена. Карл!
Муж. Иуду ты родила мне! Сидит за столом, прихлебывает суп, которым мы
же его кормим, и караулит каждое слово, которое произносят его родители...
Шпион!
Жена. Этого ты не имеешь права говорить!
Пауза.
Как по-твоему, нужно как-то приготовиться?
Муж. Как по-твоему, они прямо придут вместе с ним?
Жена. Разве так не бывает?
Муж. Может быть, надеть мой Железный крест?
Жена. Это обязательно, Карл!
Он достает орден и дрожащими руками прикрепляет его.
Но в школе у тебя ведь все в порядке?
Муж. Откуда мне знать! Я готов преподавать все, что они хотят. Но что
именно они хотят? Если бы я знал! Разве я знаю, какой им требуется Бисмарк?
Они бы еще помедленней выпускали новые учебники! Ты не можешь прибавить
служанке еще десять марок? Она тоже вечно подслушивает.
Жена (кивает). А не повесить ли портрет Гитлера над твоим письменным
столом? Так будет лучше.
Муж. Да, ты права.
Она снимает портрет.
Но если мальчик скажет, что мы нарочно перевесили портрет, это будет
указывать, что мы чувствуем за собой вину.
Жена вешает портрет на старое место.
Кажется, дверь скрипнула?
Жена. Я ничего не слышала.
Муж. А я говорю - скрипнула!
Жена. Карл! (Бросается к мужу и обнимает его.)
Муж. Не теряй мужества. Собери мне немного белья.
Входная дверь захлопывается: муж и жена застывают на месте в углу комнаты.
Открывается дверь, входит мальчик с фунтиком в руках. Пауза.
Мальчик. Что это с вами?
Жена. Где ты был?
Мальчик показывает пакетик с конфетами.
Ты только конфеты купил?
Мальчик. А что же еще? Ясно. (Жуя конфеты, проходит через комнату и
выходит в другую дверь.)
Родители провожают его испытующим взглядом.
Муж. По-твоему, он правду говорит?
Жена пожимает плечами.
ЧЕРНЫЕ БАШМАКИ
Идут сироты и вдовы.
Приманки для них готовы:
Роскошная жизнь впереди.
А нынче - все хуже и хуже,
Затягивай пояс потуже
И жди, и жди, и жди.
Биттерфельд, 1935 год. Кухня в квартире рабочего. Мать чистит картошку.
Тринадцатилетняя дочка делает уроки.
Дочка. Мама, дашь мне два пфеннига?
Мать. Для Гитлерюгенд?
Дочка. Да.
Мать. Нету у меня лишних денег.
Дочка. Если я не буду вносить два пфеннига в неделю, меня не отправят
летом в деревню. А учительница говорит - Гитлер хочет, чтобы город и деревня
лучше познакомились. Чтоб городские жители сблизились с крестьянами. Только
для этого нужно вносить два пфеннига.
Мать. Уж постараюсь как-нибудь выкроить.
Дочка. Вот это здорово. А я тебе помогу чистить картошку. Правда, мама,
в деревне хорошо? Ешь сколько хочешь. А то учительница на гимнастике
сказала, что у меня от картошки раздутый живот.
Мать. Нет у тебя никакого живота.
Дочка. Да, теперь-то нет. А в прошлом году был. Ну, правда, не очень.
Мать. Может, я как-нибудь достану требухи.
Дочка. Мне-то хоть дают булочку в школе. А тебе ничего не дают. Берта
говорила, когда она была в деревне, там давали хлеб с гусиным салом. А когда
и мясо. Правда, здорово?
Мать. Еще бы.
Дочка. И воздух там хороший.
Мать. Ну работать ей, верно, тоже пришлось?
Дочка. Понятно. Зато уж и кормили. Только она говорит, хозяин ужасно к
ней приставал.
Мать. Как приставал?
Дочка. Да ну так - просто прохода ей не давал.
Мать. А-а.
Дочка. Ну Берта была больше меня. На целый год старше.
Мать. Делай уроки!
Пауза.
Дочка. Можно мне не надевать старые черные башмаки, те, пожертвованные.
Мать. Пока незачем. У тебя ведь еще есть другие.
Дочка. Да они продырявились.
Мать. Вот видишь, и погода сырая.
Дочка. Я заложу дыру бумагой. Не протечет.
Мать. Нет, протечет. Раз они прохудились, надо подкинуть подметки.
Дочка. Да ведь это очень дорого.
Мать. А чем тебе не нравятся те, пожертвованные?
Дочка. Терпеть их не могу.
Мать. Потому что они с длинными носами?
Дочка. Видишь, ты сама говоришь!
Мать. Ну они немножко старомодные.
Дочка. И мне надо их носить?
Мать. Не носи, раз ты их терпеть не можешь.
Дочка. Но я ведь не кокетка, правда?
Мать. Нет, просто ты становишься старше.
Пауза.
Дочка. Так дашь мне два пфеннига, мама? Чтобы поехать в деревню.
Мать (раздельно). Нет у меня на это денег.
ТРУДОВАЯ ПОВИННОСТЬ
О классовом мире болтая,
Надсмотрщиков наглая стая
За пару сапог и харчи
Велит батрачить рабочим,
Интеллигентам и прочим,
Но в барышах - богачи!
Люнебургская пустошь, 1935 год. Бригада отбывающих трудовую повинность
за работой. Молодой рабочий и студент вместе копают землю.
Студент. Почему засадили того, молоденького, из третьей бригады? Ведь
он был такой сильный.
Молодой рабочий (усмехаясь). Группенфюрер сказал, что мы, мол, теперь
учимся по-настоящему работать, а тот возьми да и скажи себе под нос, что не
худо бы научиться и зарплату получать. Ну им это пришлось не по вкусу.
Студент. Зачем же он это говорил?
Молодой рабочий. А затем, верно, что работать он и раньше умел. Он с
четырнадцати лет маялся в шахте.
Студент. Берегись, - толстопузый идет.
Молодой рабочий. Не могу я при нем копать на пол-лопаты.
Студент. А я не могу выбрасывать больше.
Молодой рабочий. Если он меня накроет, тогда держись.
Студент. Ну что ж, я не стану швыряться сигаретами.
Молодой рабочий. Так он же непременно меня накроет!
Студент. А гулять хочешь? Думаешь, я буду тебе платить, если ты ничем
не желаешь рисковать.
Молодой рабочий. Все твои подачки давно окупились с лихвой.
Студент. Ничего ты больше не получишь.
Группенфюрер (подходит и наблюдает за ними). Ну, господин ученый,
видишь теперь, что значит работать?
Студент. Так точно, господин группенфюрер.
Молодой рабочий копает на пол-лопаты, студент делает вид, будто
трудится изо всех сил.
Группенфюрер. Этим ты обязан фюреру.
Студент. Так точно, господин группенфюрер.
Группенфюрер. Да-да, плечом к плечу и без всякого там сословного
чванства. Фюрер желает, чтобы в его трудовых лагерях все были равны. На
папашу у нас не сошлешься. Ну-ну, пошевеливайся. (Уходит.)
Студент. По-твоему, ты копал на пол-лопаты?
Молодой рабочий. Конечно, на пол-лопаты.
Студент. Сигарет сегодня не жди. И вообще советую тебе подумать, что
таких, как ты, охотников до сигарет много найдется.
Молодой рабочий (раздельно). Да, таких, как я, много. Об этом мы иногда
забываем.
РАДИОЧАС ДЛЯ РАБОЧИХ
Вот Геббельса сброд зловонный!
Рабочим суют микрофоны
Для лживой болтовни,
И тут же бесправным страдальцам
Грозят указательным пальцем,
Чтоб не стонали они.
Лейпциг, 1934 год. Контора старшего мастера на фабрике. Диктор, стоя возле
микрофона, разговаривает с рабочим средних лет, стариком рабочим и
работницей. В глубине сцены - служащий конторы и широкоплечий молодчик в
форме штурмовика.
Диктор. И вот мы стоим среди маховых колес и приводных ремней,
окруженные усердно и бодро работающими соотечественниками, вносящими и свою
лепту, чтобы дать нашему дорогому фатерланду все, в чем он нуждается.
Сегодня мы находимся на ткацкой фабрике акционерного общества Фукс. И хотя
работа эта тяжелая и напряжен каждый мускул, все же мы видим вокруг только
радостные и довольные лица. Но дадим слово нашим соотечественникам. (Старику
рабочему.) Вы ведь уже двадцать один год на производстве, господин...
Старик рабочий. Зедельмайер.
Диктор. Господин Зедельмайер. Так вот скажите, господин Зедельмайер,
отчего мы видим здесь только радостные и беззаботные лица?
Старик рабочий (после некоторого раздумья). Да ведь они только и знают
что зубоскалить.
Диктор, Так. И работать легче под веселые шутки. Верно?
Национал-социализму чужд человеконенавистнический пессимизм, хотите вы
сказать? Раньше было иначе, верно?
Старик рабочий. Да-да.
Диктор. В прежние времена рабочим было не до смеху, хотите вы сказать.
Тогда говорили: ради чего мы работаем?
Старик рабочий. Да-да, кое-кто так говорит.
Диктор. Что? Ах да, вы имеете в виду всяких нытиков, которые всегда
найдутся, хотя их становится все меньше, так как они вынуждены признать, что
их нытье бессильно, все идет вверх в Третьей империи с тех пор, как страной
опять правит твердая рука. Ведь и вы (обращаясь к работнице) так думаете,
фрейлейн...
Работница. Шмидт.
Диктор. Фрейлейн Шмидт. На каком из наших стальных гигантов вы
работаете?
Работница (отвечает, словно вызубренный урок). И потом работа по
украшению рабочего помещения, которая доставляет нам большую радость. На
добровольные пожертвования мы приобрели портрет фюрера, и мы этим очень
гордимся. А также геранью в горшках, которая своими волшебными красками
оживляет серые тона рабочего помещения, - предложение фрейлейн Кинце.
Диктор. Итак, вы украшаете цеха цветами, этими чарующими детьми полей?
И многое другое, наверно, изменилось у вас на производстве с тех пор, как
изменились судьбы Германии?
Служащий конторы (подсказывает). Умывальные.
Работница. Умывальные - эта мысль принадлежит лично господину директору
Бойшле, за что мы ему искренне благодарны. Желающие могут мыться в
прекрасных умывальных, когда не очень много народу и нет давки.
Диктор. Да, каждый жаждет быть первым. Верно? И там всегда веселая
толкотня?
Работница. На пятьсот пятьдесят два человека только шесть кранов,
поэтому всегда скандал. Есть такие бессовестные...
Диктор. Но все это происходит в самой дружелюбной атмосфере. А теперь
нам хочет еще сказать кое-что господин... забыл его фамилию.
Рабочий. Ман.
Диктор. Значит, Ман, господин Ман. Скажите, господин Ман, что же, все
эти нововведения на фабрике оказали влияние на дух ваших коллег-рабочих?
Рабочий. То есть как?
Диктор. Ну, вы рады, что опять все колеса вертятся и для всех рук есть
работа?
Рабочий. Конечно.
Диктор. И что каждый в конце недели опять уносит домой конверт с
заработной платой. Об этом тоже забывать не следует.
Рабочий. Нет.
Диктор. Ведь так было не всегда? В прежние времена не одному
соотечественнику пришлось изведать все прелести благотворительности. И жить
на подачки.
Рабочий. Восемнадцать марок пятьдесят. Никаких вычетов.
Диктор (смеется деланным смехом). Ха-ха-ха! Замечательно сострил! Из
такой суммы много не вычтешь!
Рабочий. Нет, теперь есть из чего.
Служащий конторы нервничает, он выступает вперед, так же как и
широкоплечий молодчик в форме штурмовика.
Диктор. Да, в Третьей империи все теперь опять получили работу и хлеб.
Вы совершенно правы, господин, - опять забыл вашу фамилию! Нет колеса,
которое - снова не вертелось бы, нет руки, которая оставалась бы праздной в
Германии Адольфа Гитлера. (Грубо отталкивает рабочего от микрофона.) В
радостном сотрудничестве приступили наши соотечественники - и те, кто
работает головой, и те, кто работает руками, - к воссозданию нашего дорогого
фатерланда. Хайль Гитлер!
ЯЩИК
С гробами из цинка, рядами
Идут они к смрадной яме...
А в цинке - останки того,
Кто подлой своре не сдался,
Кто в классовой битве сражался
За наше торжество.
Эссен, 1934 год. Квартира рабочего. Женщина и двое детей, Молодой рабочий с
женой пришли их навестить. Женщина плачет. С лестницы доносятся шаги. Дверь
открыта.
Женщина. Ведь он сказал только, что заработки теперь нищенские. А разве
неправда? У девочки нашей неладно с легкими, а нам не на что молоко
покупать. За это ведь ничего не могли с ним сделать.
Штурмовики вносят большой ящик и ставят на пол.
Один из штурмовиков. Только без сцен. Воспаление легких схватить может
всякий. Вот документы. Все в порядке. Только помните - никаких штук.
Штурмовики уходят.
Ребенок. Мама, папа там в середке?
Рабочий (подошел к ящику). Цинковый.
Ребенок. А можно его открыть?
Рабочий (в бешенстве). Да, можно! Где у тебя инструменты? (Ищет
инструменты.)
Жена (пытается его удержать). Не открывай, Ганс! Они заберут и тебя.
Рабочий. Я хочу видеть, что они с ним сделали. Этого-то они и боятся.
Иначе бы они не запихнули его в цинковый ящик. Пусти меня!
Жена. Не пущу. Ты слышал, что они сказали?
Рабочий. Что ж, даже взглянуть на него нельзя? А?
Женщина (берет за руки детей и подходит к цинковому ящику). У меня еще
цел брат, они могут его арестовать. И тебя могут арестовать, Ганс. Не надо,
не открывай. Смотреть на него нам не надо... Мы и так не забудем его!
ВЫПУСТИЛИ ИЗ ЛАГЕРЯ
Всю ночь их пытали в подвале,
Они же не выдавали...
Вот открывается дверь.
Входят - друзья их в сборе.
Но недоверье во взоре:
Кому они служат теперь?
Берлин, 1936 год. Кухня в рабочей квартире. Воскресное утро. Муж и
жена. Издалека слышна военная музыка.
Муж. Он сейчас должен прийти.
Жена. У вас, собственно, нет улик против него.
Муж. Мы знаем только, что его выпустили из концлагеря.
Жена. Почему же вы его подозреваете?
Муж. Слишком часто это бывало. Очень уж на них там наседают.
Жена. Как же ему оправдаться?
Муж. Мы сумеем узнать, устоял он или нет.
Жена. На это время нужно.
Муж. Да.
Жена. А возможно, он самый честный товарищ.
Муж. Возможно.
Жена. Как ему будет тяжело, когда он увидит, что ему не доверяют.
Муж. Он знает, что это необходимо.
Жена. А все-таки.
Муж. Вот, кажется, он. Не уходи ни на минуту.
Звонок. Муж открывает дверь, входит освобожденный.
Здравствуй, Макс.
Освобожденный молча жмет руки мужу и жене.
Жена. Выпьете с нами кофе? Мы как раз собираемся пить.
Освобожденный. Пожалуйста, если не трудно.
Пауза.
У вас новый шкаф?
Жена. Собственно, он старый - стоит всего одиннадцать марок пятьдесят.
Прежний развалился.
Освобожденный. А-а.
Муж. Что там происходит на улицах?
Освобожденный. Вещи собирают.
Жена. Не худо бы получить костюм для Вилли.
Муж. Да ведь я же на работе.
Жена. А костюм тебе все-таки нужен.
Муж. Не болтай глупостей.
Освобожденный. Работа работой, а каждому что-нибудь да нужно.
Муж. Ты уже получил работу?
Освобожденный. Говорят - получу.
Муж. У Сименса?
Освобожденный. Да, или в другом месте.
Муж. Теперь стало полегче с работой?
Освобожденный. Да.
Пауза.
Муж. Сколько ты в этот раз пробыл там?
Освобожденный. Полгода.
Муж. Кого-нибудь еще там встретил?
Освобожденный. Никого из знакомых.
Пауза.
Они теперь рассылают по разным лагерям. Некоторые попадают даже в Баварию.
Муж. А-а.
Освобожденный. А тут мало что изменилось.
Муж. Да, не много.
Жена. Знаете, мы живем очень тихо, своей семьей. Вилли почти не
встречается со старыми товарищами правда, Вилли?
Муж. Да, знакомство у нас небольшое.
Освобожденный. А мусорные ящики по-прежнему в коридоре?
Жена. Ах, вы не забыли? Говорят, для них нет другого места,
Освобожденный (видя, что хозяйка наливает ему кофе). Один глоток
только. Мне пора.
Муж. У тебя дела?
Освобожденный. Зельма рассказала мне, что вы ее навещали, когда она
хворала. Большое спасибо.
Жена. Не за что. Мы охотно бы звали ее к себе по вечерам, но ведь у нас
даже радио нет.
Муж. То, что там услышишь, можно и в газете прочесть.
Освобожденный. Из "Моргенпост" немного узнаешь.
Жена. Столько же, сколько из "Фелькишер".
Освобожденный. А из "Фелькишер" столько же, сколько из "Моргенпост",
да?
Муж. Я не могу читать по вечерам. Устаю.
Жена. Что у вас с рукой? Вся покалечена и двух пальцев нет!
Освобожденный. Я там упал.
Муж. Хорошо, что левая.
Освобожденный. Да, это еще счастье. Мне бы хотелось поговорить с тобой.
Извините меня, фрау Ман.
Жена. Ну что вы. Мне только надо убрать на плите. (Возится у плиты.)
Освобожденный следит за ней, у него на губах легкая усмешка.
Муж. Мы собираемся выйти после обеда. Зельма поправилась?
Освобожденный. Бедро еще болит. Стирка ей не под силу. Скажите...
(Останавливается и смотрит на обоих. Они смотрят на него. Он молчит.)
Муж (хрипло). Не пойти ли нам на Александерплац перед обедом? Там
невесть что творится со сбором вещей.
Жена. Можно пойти, правда?
Освобожденный. Конечно.
Пауза.
(Тихо.) Слушай, Вилли, я все тот же.
Муж (беспечным тоном). Ну да, конечно! А может быть, на Александерплац,
кстати, и музыка играет. Ступай оденься, Анна. Кофе мы выпили. И я тоже
пойду волосы приглажу.
Они уходят в соседнюю комнату. Освобожденный остается на месте. Он взял
свою шляпу, сидит и тихо насвистывает. Супруги возвращаются одетые.
Идем, Макс.
Освобожденный. Хорошо. Я хочу сказать тебе только одно: по-моему, ты
совершенно прав.
Муж. Что ж! Так пойдемте.
Выходят все вместе.
ЗИМНЯЯ ПОМОЩЬ
В патриотизме рьяном,
С флагом и барабаном
Сборщики ломятся в дом.
И, выклянчив в нищем жилище
Тряпье и остатки пищи,
Дают их нищим соседям потом.
Палач в шутовском одеянье
Швыряет им подаянье,
Но проку от этого нет!
И дрянь, что им в горло вперли,
У них застревает в горле,
Как и гитлеровский привет.
Карлсруэ, 1937 год. Двое штурмовиков приносят посылку Зимней помощи на
квартиру старухе, та стоит у стола с дочерью.
Первый штурмовик. Вот, мамаша, это вам посылает фюрер.
Второй штурмовик. Теперь вы не скажете, что он не заботится о вас.
Старуха. Спасибо, большое вам спасибо. Гляди, Эрна, - картошка. И
шерстяная кофта. И яблоки!
Первый штурмовик. И письмо от фюрера, а в нем еще кое-что. Ну-ка,
вскройте.
Старуха (вскрывает). Двадцать пять марок! Что ты на это скажешь, Эрна?
Второй штурмовик. Это вам Зимняя помощь!
Старуха. Угоститесь яблочком, молодой человек. И вы тоже. Вы ведь ее
тащили и по лестнице взбирались. Другого-то у меня ничего нет. И сама я тоже
угощусь. (Надкусывает яблоко.)
Все едят, кроме молодой женщины.
Да возьми, же, Эрна, не стой как пень. Сама теперь видишь - твой муж зря
говорит.
Первый штурмовик. А что он говорит?
Молодая женщина. Ничего он не говорит. Старуха мелет вздор.
Старуха. Да нет же, он только так болтает. Не подумайте, чтобы очень
дурное. Все кругом это говорят. Цены, мол, что-то вскочили за последнее
время. (Указывает яблоком на дочь.) И правда, она подсчитала по расходной
книге, на еду у нее в нынешний год уходит на сто двадцать три марки больше,
чем в прошлый. Правда, Эрна? (Видит, что штурмовики отнеслись к этому с
явным неодобрением.) Да я знаю, это потому, что деньги нужны на вооружение.
Что вы? Что я такого сказала?
Первый штурмовик (дочери). Где у вас хранится расходная книга?
Второй штурмовик. Вы всем ее показываете?
Молодая женщина. Она у меня дома, и никому я ее не показываю.
Старуха. Разве плохо, что она ведет расходную книгу?
Первый штурмовик. А что она распространяет гнусную клевету, это хорошо,
да?
Второй штурмовик. И что-то она не очень громко крикнула "хайль Гитлер",
когда мы вошли. Как по-твоему?
Старуха. Но ведь она все-таки крикнула "хайль Гитлер". А я и сейчас
повторю: "Хайль Гитлер!"
Второй штурмовик. Куда мы с тобой угодили, Альберт? Ведь это же
настоящее марксистское логово. Придется нам самим заглянуть в расходную
книгу. Сейчас же ведите нас к себе домой. (Хватает молодую женщину за руку.)
Старуха. Да ведь она на третьем месяце! Как же это можно! Ведь вы же
сами и посылку принесли и яблоками угощались. И Эрна-то кричала: "Хайль
Гитлер!" Господи, что же мне теперь делать... Хайль Гитлер! Хайль Гитлер!
(Ее рвет яблоком.)
Штурмовики уводят дочь.
(Вместе с рвотой.) Хайль Гитлер!
ДВА БУЛОЧНИКА
Вот булочники-бедняжки,
У каждого пухлый и тяжкий
Мешок суррогатной муки.
Приказ - великая сила!
Но из отрубей и опилок
Попробуй-ка хлеб испеки!
Ландсберг, 1936 год. Тюремный двор. Заключенные ходят по кругу. Двое
передних переговариваются шепотом.
Первый. Ты тоже булочник, новенький?
Второй. Да. Ты тоже?
Первый. Да. Тебя за что зацапали?
Второй. Берегись!
Вновь идут по кругу.
За то, что я не подмешивал отрубей и картофеля в муку. А ты? Сколько ты уже
здесь?
Первый. Два года.
Второй. А за что? Берегись!
Вновь проходят круг.
Первый. За то, что я подмешивал отруби в муку. Два года тому назад это
еще называлось фальсификацией продуктов.
Второй. Берегись!
КРЕСТЬЯНИН КОРМИТ СВИНЬЮ
Крестьянин дорогою длинной
Шагает с кислой миной:
Ни гроша с поставки зерна,
А молоко для свинки
Ищи на черном рынке! -
И зол он, как сам сатана.
Айхах, 1937 год. Крестьянский двор. Ночь. Перед свинарником крестьянин
наставляет жену и двоих детей.
Крестьянин. Я не хотел втягивать вас в это дело, но, раз уж вы
пронюхали, держите язык за зубами. Не то засадят меня в концлагерь, в
Ландсберг, на веки вечные. Плохого мы ничего не делаем. Мы только кормим
голодную скотину. Господь бог не хочет, чтобы его творение голодало.
Скотина, когда голодает, голос подает. А я не могу слушать, как на моем
дворе свинья визжит с голоду. А кормить ее мне не позволяют. Из
государственных соображений. Но я все равно ее кормлю и буду кормить. Ежели
ее не кормить, она сдохнет. Тогда мне убыток, и никто мне его не покроет.
Крестьянка. И я так говорю. Наше зерно - это наше зерно. И нечего нам
указывать. Правители выискались. Евреев вытурили, а сами хуже всякого
ростовщика. Господин пастор тоже говорит: "И сохрани вола твоего". Стало
быть, он указал, что мы можем свой скот кормить за милую душу. Не мы ведь
выдумали ихний четырехлетний план, нас об этом не спрашивали.
Крестьянин. Верно. Они не для крестьян, и крестьяне не для них. Ишь ты,
свое зерно им отдай, а корм для скота купи, да по какой цене! А они пушки
будут покупать. Придумали!
Крестьянка. Так вот: ты, Тони, стань у забора, а ты, Мари, выбеги на
лужок. Как кого увидишь, прибеги сказать.
Дети занимают посты. Крестьянин замешивает корм и, озираясь, несет его
в свинарник. Жена его тоже со страхом озирается.
Крестьянин (засыпая зерно в кормушку). Ну лопай, Лина, лопай! Хайль
Гитлер! Коли скотина голодает, разве это государство?
СТАРЫЙ БОЕЦ
Идут избиратели сбором
На стопроцентный кворум
Голосовать за кнут.
На них - ни кожи, ни рожи,
У них - ни жратвы, ни одежи,
Но Гитлера изберут!
Вюртемберг, 1938 год. Площадь маленького города. На заднем плане мясная
лавка. На переднем - молочная. Пасмурное зимнее утро. Мясная лавка еще не
открыта. Молочная уже освещена. У дверей ждут несколько покупателей.
Мужчина. Наверно, и сегодня масла не будет.
Первая женщина. Вот беда! А мне и нужно-то на грош. Не раскупишься на
то, что мой зарабатывает.
Юноша. Хватит вам брюзжать. Германии нужны пушки, а не масло. И это
вернее верного. Он же ясно сказал.
Первая женщина (покорно). Правильно.
Молчание.
Юноша. Разве масло помогло бы нам занять Рейнскую область? Когда
заняли, то все были довольны, а пойти на какую-нибудь жертву никому не
хочется.
Вторая женщина. Спокойней, молодой человек. Все мы идем на жертвы.
Юноша (подозрительно). Что вы хотите этим сказать?
Вторая женщина (первой). Разве, вы ничего не даете, когда производится
сбор пожертвований?
Первая женщина молча кивает головой.
Вот видите: она дает. И мы даем. Добровольно.
Юноша. Знаем мы вас. Дрожите за каждый пфенниг, когда фюреру для его
великих задач нужна, так сказать, поддержка. На Зимнюю помощь жертвуют
всякое тряпье. Охотнее всего отдали бы одну только моль. Фабрикант из
одиннадцатого номера пожертвовал пару дырявых сапог!
Мужчина. До чего люди неосторожны!
Из молочной выходит хозяйка молочной в белом переднике.
Хозяйка молочной. Сейчас откроем. (Второй женщине.) Доброе утро, фрау
Руль. Слышали, вчера вечером они увели молодого Летнера?
Вторая женщина. Мясника?
Хозяйка молочной. Да, сына.
Вторая женщина. Но он же штурмовик?
Хозяйка молочной. Ну и что? Старик с двадцать девятого года в партии.
Вчера его случайно не было, он поехал за товаром, а то бы они и его взяли.
Вторая женщина. В чем же их обвиняют?
Хозяйка молочной. В спекуляции. Последнее время у него совсем не было
товара, приходилось отказывать покупателям. И вот, говорят, он купил на
черном рынке. Чуть ли не у евреев.
Юноша. И, по-вашему, его не за что было взять?
Хозяйка молочной. Он был один из самых усердных. Ведь это он донес на
старика Цейслера из семнадцатого номера, что тот не подписался на "Фелькишер
беобахтер". Он старый боец.
Вторая женщина. То-то он вытаращит глаза, когда вернется.
Хозяйка молочной. Если вернется!
Мужчина. До чего люди неосторожны!
Вторая женщина. Должно быть, они сегодня не откроют лавку.
Хозяйка молочной. Оно и лучше. Уж если полиция куда заглянет, она
всегда что-нибудь да найдет. А товар-то нелегко теперь доставать. Мы-то
получаем все прямо из кооператива, там пока нет перебоев. (Громко.) Сливок
сегодня не будет.
Всеобщий ропот.
У Летнеров ведь и дом заложен. Они надеялись, что закладную аннулируют, или
что-то в этом роде.
Мужчина. Как же можно аннулировать закладные! Многого захотели.
Вторая женщина. Молодой Летнер был очень славный юноша.
Хозяйка молочной. Да. Вот старик - тот бешеный. Он ведь чуть не силой
загнал сына в штурмовики. А сыну бы только с девушкой погулять.
Юноша. Что значит - бешеный?
Хозяйка молочной. Разве я сказала бешеный? Ну да, я имела в виду, что
его раньше бесило всегда, когда кто-нибудь оспаривал идею. Он всегда говорил
про идею и осуждал людской эгоизм.
Мужчина. Они все-таки открывают лавку.
Вторая женщина. Жить-то им надо.
Из полуосвещенной мясной лавки выходит толстая женщина, жена мясника,
останавливается на тротуаре и всматривается в конец улицы. Потом обращается
к хозяйке молочной.
Жена мясника. Доброе утро, фрау Шлихтер. Вы не видели моего Рихарда?
Ему давно пора бы уже быть с товаром.
Хозяйка молочной не отвечает. Все молча смотрят на жену мясника. Она поняла,
в чем дело, и быстро скрывается в лавке.
Хозяйка молочной. Делает вид, что ничего не случилось. А ведь что там
было позавчера! Старик бушевал так, что на всю площадь было слышно. Это они
тоже записали ему в счет.
Вторая женщина. Я ничего не слышала об этом, фрау Шлихтер.
Хозяйка молочной. Да что вы? Он же отказался выставить в витрине
окорока из папье-маше, которые они ему принесли. А он их заказал - это они
потребовали, потому что целую неделю у него в витрине вообще ничего не было,
только прейскурант висел. Он им так и сказал: ничего для витрины у меня нет.
Когда они пришли с окороками из папье-маше - и телячья ножка там была,
здорово сделано, ну прямо не отличишь от настоящей, - он и начал рычать, что
не станет вывешивать никакой бутафории, и еще такое, что и повторить-то
нельзя. Все против правительства. А окорока из папье-маше выбросил на улицу.
Им и пришлось вытаскивать их из грязи.
Вторая женщина. Тсс, тсс, тсс.
Мужчина. До чего люди неосторожны!
Вторая женщина. И почему это люди так из себя выходят?
Хозяйка молочной. И как раз самые хитрые!
В мясной лавке зажигается вторая лампочка.
Глядите! (Показывает на полутемную витрину мясной.)
Вторая женщина. Там в витрине все-таки что-то есть!
Хозяйка молочной. Это же старик Летнер! И в пальто! Но на чем он стоит?
(Вдруг вскрикивает.) Фрау Летнер!
Жена мясника (выходя из лавки). Что такое?
Хозяйка молочной безмолвно показывает на витрину. Жена мясника смотрит туда,
вскрикивает и падает без чувств. Вторая женщина и хозяйка молочной подбегают
к витрине.
Вторая женщина (кричит через плечо). Он повесился в витрине!
Мужчина. У него на шее какой-то плакат.
Первая женщина. Это прейскурант. На нем что-то написано.
Вторая женщина. На нем написано: я голосовал за Гитлера.
НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ
Идут христиане, от катов
Христовы заветы припрятав,
Иначе - тюремный срок.
Нацисты хохочут над ними:
Он изгнан богами иными -
Их мирный еврейский бог!
Любек, 1937 год. Комната-кухня в семье рыбака. Рыбак при смерти. У его
постели жена и сын в форме штурмовика. Тут же пастор.
Умирающий. Скажите мне, там и вправду что-то есть?
Пастор. Неужто вас мучат сомнения?
Жена. Последние дни он все говорил: столько, мол, у нас болтают и сулят
всего, не знаешь, чему и верить. Не гневайтесь на него за это, господин
пастор.
Пастор. Там нас ждет жизнь вечная.
Умирающий. А она будет лучше?
Пастор. Разумеется.
Умирающий. Да и надо бы!
Жена. Очень уж он намаялся.
Пастор. Поверьте мне, господу это ведомо.
Умирающий. Правда? (Помолчав.) Может, там на небесах не будут тебе рот
затыкать? Как по-вашему?
Пастор (несколько смутившись). В писании сказано: вера горами двигает.
Веруйте. Это принесет вам облегчение.
Жена. Не думайте, господин пастор, что он неверующий. Он всегда ходил
причащаться. (Мужу, настойчиво.) Господин пастор думает - ты неверующий. А
ведь ты верующий, да?
Умирающий. Да...
Пауза.
Умирающий. Ведь кроме-то ничего нет.
Пастор. Что вы хотите этим сказать? Как это - ничего нет?
Умирающий. Ну вообще, больше ничего нет. А по-вашему как? Я хочу
сказать - будь хоть что-нибудь, кроме...
Пастор. Но что же должно быть?
Умирающий. Да что-нибудь.
Пастор. Но у вас была ведь и хорошая жена и сынок был.
Жена. Ведь мы-то у тебя были?
Умирающий. Да...
Пауза.
Я хочу сказать, если бы было что путное в жизни...
Пастор. Вероятно, я вас неправильно понял. Вы не то хотели сказать.
Неужели вы веруете лишь потому, что в вашей жизни ничего не было, кроме
тягот и трудов?
Умирающий (оглядываясь, словно ищет кого-то, наконец видит сына). А им
лучше будет?
Пастор. Вы хотите сказать - молодежи? Мы на это уповаем.
Умирающий. Вот будь у нас моторный катер...
Жена. Полно, не порти ты себе кровь!
Пастор. Вам не подобает помышлять сейчас о таких делах.
Умирающий. Приходится.
Жена. Как-нибудь пробьемся.
Умирающий. А вдруг будет война?
Жена. Перестань говорить про это. (Пастору.) Последнее время у них с
сыном только и разговору было что про войну. И ссорились же они!
Пастор бросает взгляд на сына.
Сын. Он не верит в возрождение.
Умирающий. Скажите, а он там, наверху, войну одобряет?
Пастор (запинаясь). В писании сказано: блаженны миротворцы.
Умирающий. Ну а как же, если будет война...
Сын. Фюрер не желает войны!
Умирающий (отмахивается от него). Значит, как же, если будет война...
Сын порывается что-то сказать.
Жена. Помолчи.
Умирающий (пастору, указывая на сына). Ему вот скажите про миротворцев!
Пастор. Не забудьте, что все мы в руке божьей.
Умирающий. Это вы ему говорите?
Жена. Брось ты, разве господин пастор может помешать войне! И
толковать-то про это нынче не годится. Правду я говорю, господин пастор?
Умирающий. Вы сами знаете, как они горазды врать. Мне не купить мотора
для лодки. Все моторы идут у них на самолеты. Для войны, для бойни. Мне вот
в непогоду никак не пристать к берегу, потому - мотора нет. А они все врут,
а сами собираются воевать! (В изнеможении падает на подушку.)
Жена (испуганно хватает миску с водой и полотенцем вытирает у него пот
со лба). Не слушайте его. Он уже и сам не помнит, что говорит.
Пастор. Успокойтесь, господин Клаазен.
Умирающий. А вы ему скажете про миротворцев?
Пастор (помолчав). Пусть сам прочтет. Это из Нагорной проповеди.
Умирающий. Он говорит - все это сказано евреем и ничего не стоит.
Жена. Ну вот, опять завел. Сам он так не думает. Это он от приятелей
слышал!
Умирающий. Да. (Пастору.) Так ничего не стоит?
Жена (опасливо покосившись на сына). Не подводи ты господина пастора
под беду, Ганнес. Не спрашивай его про это.
Сын. А почему бы и не спросить?
Умирающий. Стоит или не стоит?
Пастор (после долгого молчания, через силу). В писании сказано также:
отдавайте кесарево кесарю, а божье - богу.
Умирающий падает на подушку. Жена кладет ему на лоб мокрое полотенце.
ПРИЗЫВ
Мальчишек придурковатых
Учат: умри за богатых!..
Отдай им жизнь свою!..
Учители злы, словно черти,
И парни больше, чем смерти,
Боятся струсить в бою.
Хемниц, 1937 год. Помещение Гитлерюгенд. Группа подростков, большинство с
противогазами через плечо. Кучка ребят наблюдает за подростком без
противогаза, который сидит один на скамье и безостановочно шевелит губами,
видимо, что-то заучивая.
Первый подросток. Видишь, у него до сих пор нет.
Второй подросток. Мать ему не покупает.
Первый подросток. Что ж, она не знает, как ему за это всыплют?
Третий подросток. А если у нее купилок нет?
Первый подросток. Толстяк и без того к нему придирается.
Второй подросток. Смотри, опять зубрит призыв.
Четвертый подросток. Битый месяц зубрит, а там и всего-то два
четверостишия.
Третий подросток. Да он давно уже выучил.
Второй подросток. А запинается потому, что боится.
Четвертый подросток. Каждый раз со смеху умрешь, правда?
Первый подросток. Да уж, потеха. (Окликает сидящего.) Заучил, Пширер?
Пятый подросток растерянно поднимает глаза и, сообразив, кивает. Потом
снова принимается зубрить.
Второй подросток. Толстяк жучит его только за то, что у него
противогаза нет.
Третий подросток. А он говорит - за то, что он с ним, с толстяком, в
кино не пошел.
Четвертый подросток. Слышал я это. А вы верите?
Второй подросток. Очень может быть. Я бы тоже не пошел в кино с
толстяком. Но ко мне он не смеет сунуться. Мой предок задаст ему жару.
Первый подросток. Тише - толстяк!
Ребята выстраиваются в два ряда и стоят навытяжку. Входит дородный шарфюрер.
Гитлеровское приветствие.
Шарфюрер. По порядку номеров рассчитайсь!
Команда исполняется.
Противогазы надеть!
Ребята надевают противогазы. Те, у кого их нет, проделывают заученные
движения.
Начнем с призыва. Кто нам его прочтет наизусть? (Оглядывается как бы в
нерешимости, затем вдруг.) Пширер! У тебя это так хорошо получается.
Пятый подросток выходит и становится впереди. Он очень бледен.
Заучил, умная голова?
Пятый подросток. Так точно, господин шарфюрер!
Шарфюрер. Выкладывай! Первая строфа!
Пятый подросток.
Должен ты теперь учиться,
Смерть встречать бесстрашно впредь.
Тот, кто смерти не боится,
Может гордо умереть.
Шарфюрер. Смотри не напусти в штаны! Дальше! Вторая строфа!
Пятый подросток.
Бей, стреляй, круши с размаху,
Это всех...
(Запинается, повторяет последние слова.)
Некоторые из ребят еле удерживаются, чтобы не прыснуть.
Шарфюpep. Опять недоучил!
Пятый подросток. Так точно, господин шарфюрер!
Шарфюрер. Верно, дома ты чему-то другому учишься? (Рявкает.) Дальше!
Пятый подросток.
Это всех... побед залог.
Все отдай... умри без страха... умри
без страха...
Все отдай! Умри без страха...
Чтоб ты смелым... Чтоб ты смелым
зваться мог!
Шарфюрер. Подумаешь, что тут трудного!
В КАЗАРМАХ СТАЛО ИЗВЕСТНО О БОМБЕЖКЕ АЛЬМЕРИИ
Солдатам - суп и жаркое,
Чтоб шли на войну в покое,
Пока утроба полна,
Чтоб слепо за Гитлера драться,
Чтоб долго не разбираться,
На кой им дьявол война!
Берлин, февраль 1937 года. Коридор в казарме. Два пролетарских
мальчика-подростка, боязливо оглядываясь, несут что-то завернутое в
оберточную бумагу.
Первый мальчик. У них сегодня переполох, да?
Второй мальчик. Они говорят - это потому, что может начаться война.
Из-за Испании.
Первый мальчик. Сидят белые как мел.
Второй мальчик. Это потому, что мы бомбили Альмерию. Вчера вечером.
Первый мальчик. Где это?
Второй мальчик. Да там, в Испании. Гитлер заявил туда по телеграфу, что
немецкий военный корабль немедленно начнет бомбить Альмерию. В наказание.
Потому что там они все красные, а надо, чтобы красные наклали в штаны со
страху перед Третьей империей. Теперь может начаться война.
Первый мальчик. И теперь они сами в штаны наклали.
Второй мальчик. Да, наклали в штаны.
Первый мальчик. Так чего же они хорохорятся, если сами сидят белые как
мел и кладут в штаны со страху, что может начаться война?
Второй мальчик. Они хорохорятся только потому, что этого хочет Гитлер.
Первый мальчик. Но чего хочет Гитлер, того хотят и они. Все же за
Гитлера. Потому что он создал наш вермахт.
Второй мальчик. Факт!
Пауза.
Первый мальчик. Как ты думаешь, нам уже можно выйти?
Второй мальчик. Погоди. Еще напоремся на лейтенанта. Он у нас тогда все
отберет, и мы их всех завалим.
Первый мальчик. Какие они хорошие, что позволяют нам приходить сюда
каждый день.
Второй мальчик. Они ведь тоже не у миллионеров росли. Они сами хлебнули
горя. Моя мать получает только десять марок в неделю, а нас у нее трое.
Сидим на одной картошке.
Первый мальчик. А их тут здорово кормят. Сегодня были клецки.
Второй мальчик. Сколько тебе сегодня дали?
Первый мальчик. Ложку. Как всегда. А что?
Второй мальчик. Мне сегодня досталось две.
Первый мальчик. А ну, покажи. Мне дали одну.
Второй мальчик показывает.
Ты что-нибудь им сказал?
Второй мальчик. Нет. Доброе утро, как всегда.
Первый мальчик. Не понимаю. Я тоже сказал, как всегда, - хайль Гитлер.
Второй мальчик. Странно. Я получил две.
Первый мальчик. С чего бы это вдруг? Не понимаю.
Второй мальчик. И я не понимаю... Ну теперь можно - фюить!
Быстро убегают.
РАБОТОДАТЕЛИ
Шагают работорговцы,
Для них бедняки словно овцы,
Которых каждый дерет.
Танки и пушки готовя,
Реками пота и крови
Должен платиться народ.
Шпандау, 1937 год. Возвратясь домой, рабочий застает у себя соседку.
Соседка. Добрый вечер, господин Фенн. Я хотела занять у вашей жены
хлеба. Она вышла на минуту.
Рабочий. Пожалуйста, фрау Диц. Как вам нравится, какое место я получил?
Соседка. Да, теперь всем дают работу. Вы на новом авиазаводе?
Бомбардировщики делаете?
Рабочий. Без передышки.
Соседка. Это им в Испанию нужно.
Рабочий. Почему в Испанию?
Соседка. Говорят, чего они только туда не посылают. Стыд и срам!
Рабочий. Ну-ну! Попридержите язык!
Соседка. Вы что, тоже к ним перешли?
Рабочий. Никуда я не переходил. Я делаю свое дело. А где же Марта?
Соседка. Пожалуй, лучше вас предупредить: кажется, какая-то
неприятность. Когда я вошла, почтальон как раз принес письмо. Ваша жена
прочла и разволновалась. Я уже собралась идти за хлебом к Ширманам.
Рабочий. Да что вы? (Зовет.) Марта!
Входит его жена. Она в трауре.
Что с тобой? Кто умер?
Жена. Франц. Письмо пришло. (Дает ему письмо.)
Соседка. Господи! Что с ним случилось?
Рабочий. Авария.
Соседка (недоверчиво). Он ведь летчиком был, да?
Рабочий. Да.
Соседка. И у него случилась авария?
Рабочий. Да, в Штеттине. Ночью во время учебного полета в учебном
лагере, так здесь сказано.
Соседка. Какая там авария! Меня вы не проведете.
Рабочий. Я повторяю то, что здесь сказано. Письмо от лагерного
начальства.
Соседка. А он писал вам последнее время? Из Штеттина?
Рабочий. Не убивайся, Марта. Этим горю не поможешь.
Жена (рыдая). Я знаю.
Соседка. Славный был парень ваш брат. Не сварить ли вам кофе?
Рабочий. Будьте так добры, фрау Диц.
Соседка (ищет кастрюлю). Да, тяжелый удар.
Жена. Умойся, Герберт. Фрау Диц - свой человек.
Рабочий. Не к спеху.
Соседка. А из Штеттина он вам писал?
Рабочий. Письма все время приходили из Штеттина.
Соседка (многозначительно). Вот как! А сам он, верно, был южнее?
Рабочий. Как - южнее?
Соседка. На далеком юге, в прекрасной Испании.
Рабочий (жене, которая опять разрыдалась). Возьми себя в руки, Марта! А
вам не следует так говорить, фрау Диц.
Соседка. Мне бы только хотелось знать, что бы вам ответили в Штеттине,
если бы вы приехали за телом шурина?
Рабочий. Я не поеду в Штеттин.
Соседка. Они умеют прятать концы в воду. Даже за подвиг считают, что у
них все шито-крыто. Вот недавно в пивной один хвастал, как ловко они
маскируют свою войну. Когда сбивают бомбардировщик, те, что внутри, прыгают
с парашютом, а их с других машин тут же в воздухе расстреливают из пулемета.
Свои же расстреливают, чтобы они не рассказали красным, откуда их прислали.
Жена (ей дурно). Дай мне воды, Герберт, мне дурно.
Соседка. Конечно, не следует вас волновать, но уж очень они ловко
прячут концы. Они сами понимают, какое это преступление, какой позор - их
война. Вот и тут: авария во время учебного полета! А чему они учатся?
Воевать они учатся!
Рабочий. Говорите хоть потише. (Жене.) Лучше тебе?
Соседка. Вы тоже из тех, что на все глаза закрывают. Вот вас и
отблагодарили в этом письме!
Рабочий. Замолчите же наконец!
Жена. Герберт!
Соседка. Да, теперь "замолчите". Потому что вам дали место! Вашему
шурину тоже дали место! Он потерпел "аварию" как раз на такой штуке, какие
вы изготовляете на авиазаводе.
Рабочий. Ну это уж слишком, фрау Диц. Вы говорите - я изготовляю такие
штуки. А что делают другие? Что делает ваш муж? Лампочки, да? Это,
по-вашему, не для войны? Это только освещение! А на что нужно освещение? Что
они освещают? Может быть, танки? Или военные корабли? Или тоже такие штуки!
Ну да, он делает только лампочки. А что сейчас делают не для войны? Где же
искать работу не для войны? Или прикажете с голоду умирать?
Соседка (смутившись). Я же не говорю, чтобы вы умирали с голоду.
Конечно, вы должны работать. Я только об этих преступниках говорю. Хорошую
они дают работу!
Рабочий (строго, жене). Тебе нельзя ходить в черном. Им это не
нравится.
Соседка. Им не нравится, чтобы спрашивали, почему да отчего.
Жена (спокойно). По-твоему, мне надо снять черное?
Рабочий. Да, иначе меня сразу же прогонят с места.
Жена. А я не сниму.
Рабочий. То есть как?
Жена. Не сниму. Мой брат умер. Я буду носить траур.
Рабочий. Если бы Роза не купила черного платья после смерти матери, у
тебя бы его не было и ты бы его не носила.
Жена (кричит). Никто не запретит мне носить траур! Если уж они его
прикончили, так я имею право хоть поплакать вволю. Этого никогда не бывало!
Такого зверства мир не видел! Бандиты!
Рабочий онемел от ужаса.
Соседка. Что вы, фрау Фенн!
Рабочий (хрипло). Если ты будешь так говорить, мы не только лишимся
работы, с нами что-нибудь похуже стрясется.
Жена. Пускай меня заберут! Ведь у них есть женские концлагеря. Пускай
меня туда упрячут за то, что я не могу молчать, когда они убивают моего
брата! Какое ему было дело до Испании!
Рабочий. Не ори ты про Испанию!
Соседка. Вы доведете себя до беды, фрау Фенн!
Жена. Оттого, что они тебя с места прогонят, - мы должны молчать?
Оттого, что мы подохнем, если не будем делать им бомбардировщики? Все равно
скоро придется подыхать, как Францу. Ему они тоже дали место. На метр под
землей. Такое бы он и здесь получил!
Рабочий (пытается зажать ей рот). Замолчи! Это ничему не поможет!
Жена. А что поможет? Так делайте же то, что поможет!
ПЛЕБИСЦИТ
Так шли они страшным парадом,
А мы провожали их взглядом,
Крича: какого рожна
Вы молча шагаете к смерти
Во имя нацистов? Поверьте,
Ведь это не ваша война!
Берлин, 13 марта 1938 года. Пролетарская квартира. Двое рабочих и женщина. В
маленькой комнатушке тесно от высокого древка знамени. Из
радиорепродуктора вырывается неистовое ликование, колокольный звон и шум
авиамоторов. Раздается голос: "И вот фюрер въезжает в Вену".
Женщина. Точно море ревет.
Пожилой рабочий. Да, у него победа за победой.
Молодой рабочий. Его победы - наше поражение.
Женщина. Так оно и есть.
Молодой рабочий. Как они орут! Как будто им самим что-нибудь
достанется!
Пожилой рабочий. И достанется. Оккупационная армия.
Молодой рабочий. А потом "плебисцит". Единый народ, единый рейх, единый
фюрер! Хочешь ты этого, немец? А мы у себя, в рабочем городе Нейкельне, не
можем даже листовку выпустить к этому плебисциту.
Женщина. Как так - не можем?
Молодой рабочий. Очень уж опасно.
Пожилой рабочий. В особенности с тех пор как и Карла засадили. Где нам
адреса раздобыть?
Молодой рабочий. А где найти человека, чтобы текст написал?
Женщина (показывает на радио). У него для нападения сто тысяч нашлось,
а мы не можем сыскать одного человека. Нечего сказать. Если он только будет
находить что нужно, он и будет побеждать.
Молодой рабочий (сердито). Так, по-твоему, и без Карла можно обойтись?
Женщина. Чем так разговаривать, лучше отправиться по домам.
Пожилой рабочий. Товарищи, незачем нам притворяться друг перед другом.
Ведь мы же знаем, что выпускать листовки с каждым днем все труднее. Не можем
мы делать вид, будто до нас не долетает их победный вой. (Показывая на
радио, женщине.) Согласись сама, что каждый, кто это слышит, все больше
верит в их силу. Можно и в самом деле подумать, что это кричит единый народ.
Женщина. Это кричат двадцать тысяч пьянчуг, которых накачали пивом.
Молодой рабочий. А вдруг это мы только так думаем?
Женщина. Ну да. Мы и такие, как мы. (Расправляет смятую записку.)
Пожилой рабочий. Это что такое?
Женщина. Копия письма. Под этот гам нестрашно прочесть. (Читает.)
"Дорогой мой сын! Завтра меня не станет. Казнь обычно бывает в шесть утра. Я
пишу тебе напоследок, чтобы сказать тебе, что убеждения мои не изменились.
Не подавал я и прошения о помиловании, потому что не знаю за собой никакой
вины. Я только служил своему классу. Хотя и кажется, что я ничего не
добился, но это неверно. Каждый на своем посту - таков должен быть наш
лозунг! Задача наша очень трудна, но нет в мире выше задачи, чем
освобождение человечества от ярма угнетателей. Без этого жизнь не имеет
цены. Жить стоит только ради этого. Если у нас не будет этой цели, все
человечество одичает. Ты еще мал, но не мешает тебе всегда помнить, на чьей
ты стороне. Будь верен своему классу, чтобы отец твой недаром претерпел свою
горькую долю. Потому что мне сейчас нелегко. Заботься о матери, о братьях и
сестрах. Ты ведь старший. Будь умницей. Привет вам всем от любящего тебя
отца".
Пожилой рабочий. - Оказывается, не так уж нас мало.
Молодой рабочий. Что же нам писать в листовке к плебисциту?
Женщина. Лучше всего одно слово: "НЕТ!"
{* Примечания переведены А. Голембой.}
В основу "Страха и нищеты в Третьей империи" положены свидетельства
очевидцев и сообщения газет. Эти сцены были отпечатаны для издательства
"Малик Ферлаг" в Праге в 1938 г., но не получили распространения ввиду
нападения Гитлера.
Сценическая обработка для Америки была поставлена в Нью-Йорке и
Сан-Франциско под названием "The Private Life of the Master Race" ("Частная
жизнь расы господ"). В нее вошли:
в первой части сцены 2, 3, 4, 13 и 14,
во второй части сцены 8, 9, 6 и 10,
в третьей части сцены 15, 19, 17, 11, 18, 16, 20 и 24.
Центральный элемент декорации составляет обычный бронетранспортер
гитлеровской армии. Он появляется четырежды - в начале, между частями и в
конце. Между отдельными сценами слышен человеческий голос и лязг гусениц.
Этот лязг слышен и в сценах, показывающих гитлеровский террор, который
впоследствии втянет людей в машину войны.
Например:
Первая часть.
Из темноты под варварские звуки военного марша возникает огромный
дорожный столб с надписью: "На Польшу", и рядом - бронетранспортер. В
команде от двенадцати до шестнадцати солдат; они в стальных касках, с
винтовками между колен; лица иссиня-бледные.
Затем - хор:
Наш фюрер...
...железною рукой.
Снова темнеет. Глухое громыхание бронетранспортера слышно еще несколько
секунд. Потом сцена освещается, и видна лестничная клетка. Сверху
свешиваются большие черные буквы: Бреславль, Шустергассе, два. Затем - сцена
вторая.
Затем - голос:
Так предал сосед...
...на нашу боевую колесницу.
причем концы соответствующего отрезка мировой линии закреплены.
Икс. А что говорит Эйнштейн о...
По ужасу на лице Игрека Икс видит, что проговорился, и сам замирает на месте
от ужаса. Игрек вырывает у него из рук сделанные им записи и засовывает все
бумаги в карман.
Игрек (очень громко, обращаясь к стене налево). Чисто еврейские фокусы!
С физикой это не имеет ничего общего.
Облегченно вздохнув, оба снова берут свои записи и молча, с величайшей
опаской, продолжают работать.
ЖЕНА ЕВРЕЙКА
Идут на еврейках женатые,
Изменники расы завзятые.
Их спарят с арийками тут,
Блондинкой заменят брюнетку,
И, словно в случную клетку,
Насильно в расу вернут.
Франкфурт, 1935 год. Вечер. Жена укладывает чемоданы. Она выбирает вещи,
какие нужно взять с собой. Иногда она вынимает уже уложенную вещь и снова
ставит ее на место, а взамен укладывает другую. Долго она колеблется, взять
ли ей большую фотографию мужа, стоящую на комоде. В конце концов она
оставляет ее. Устав от сборов, она присаживается на чемодан, подперев голову
рукой. Потом встает, подходит к телефону и набирает номер.
Жена. Это вы, доктор?.. Говорит Юдифь Кейт. Добрый вечер. Я хотела
только сказать, что теперь вам придется поискать другого партнера в бридж. Я
уезжаю... Нет, ненадолго, недели на две... В Амстердам... Да, говорят,
весной там чудесно... У меня там друзья... Нет, не в единственном числе...
Напрасно сомневаетесь... С кем вы теперь будете играть в бридж?.. Но ведь мы
и) так уже две недели не играем... Ну конечно, Фриц тоже был простужен. В
такой холод вообще нельзя играть в бридж... Я так и сказала. Да что вы,
доктор, с чего бы? Нисколько... Ведь у Теклы гостила мать... Знаю... С какой
стати мне пришло бы это в голову... Нет, это не внезапно. Я давно
собиралась, только все откладывала, а теперь мне пора... Да, в кино пойти
нам уже тоже не придется. Кланяйтесь Текле. Может быть, вы как-нибудь в
воскресенье позвоните ему. Так до свидания! Да, конечно, с удовольствием!..
Прощайте! (Вешает трубку и набирает другой номер.) Говорит Юдифь Кейт.
Нельзя ли позвать фрау Шэкк?.. Я хочу проститься с тобой, я уезжаю
ненадолго... Нет, я здорова, просто хочется повидать новые места, новых
людей... Да, что я хотела тебе сказать, во вторник вечером у Фрица будет
профессор, может быть, и вы зайдете? Я ведь сегодня ночью уезжаю. Да, во
вторник... Нет, я только хотела сказать, что уезжаю сегодня ночью, так вот я
подумала, отчего бы и вам не прийти?.. Ну хорошо, скажем - несмотря на то,
что меня не будет. Я же знаю, что вы не из таких, ну что ж, время
беспокойное и всем приходится быть начеку. Так вы придете?.. Если у Макса
будет время?.. У него будет время, скажи ему, что придет профессор... Ну,
мне пора. Прощай. (Вешает трубку и набирает еще номер.) Гертруда, ты? Это я,
Юдифь. Прости, если помешала... Благодарю. Я хотела тебя спросить, не могла
бы ты присмотреть за Фрицем, я уезжаю на несколько месяцев... Вот как? Ты же
его сестра... Почему тебе не хочется?.. Никто ничего не подумает, и уж во
всяком случае не Фриц... Конечно, он знает, что мы с тобой не очень
дружим... но... ну хорошо, он сам тебе позвонит. Да, я ему скажу... Все ведь
более или менее налажено, но квартира несколько велика... Как убирать его
кабинет, Ида знает, пусть там хозяйничает... По-моему, она очень
расторопная, и Фриц привык к ней... И вот что еще - пожалуйста, не пойми это
превратно, - он не любит разговоров до обеда - не забудешь? Я всегда
воздерживалась... Ну не будем сейчас спорить об этом, до отхода поезда
осталось мало времени, а я еще не уложила вещи... Последи за его костюмами и
напомни ему, что нужно пойти к портному, он заказал пальто. И позаботься,
чтобы у него в спальне подольше топили, он спит всегда с открытым окном, а
еще слишком холодно... Нет, я не думаю, что ему нужно закаляться, прости,
Гертруда, у меня больше нет времени... Я тебе очень благодарна, и мы же
будем писать друг другу. Прощай. (Вешает трубку и набирает еще номер.) Анна?
Говорит Юдифь. Слушай, я сейчас уезжаю... Нет, это необходимо, становится
слишком трудно... Слишком трудно!.. Нет, Фриц яе хочет, и он еще ничего не
знает. Я просто уложила вещи... Не думаю... Не думаю, чтобы он стал особенно
возражать. Для него это становится слишком трудно по внешним причинам. Нет,
об этом мы не уславливались... Мы вообще никогда об этом не говорили,
никогда!.. Нет, он не переменился, напротив... Слушай, я хотела бы, чтобы вы
немного развлекали его, хотя бы в первое время... Да, особенно по
воскресеньям, и уговорите его переехать... Квартира слишком велика для него.
Я бы охотно забежала к тебе проститься, но ведь ваш швейцар, понимаешь?.. Ну
прощай, нет-нет, не приезжай на вокзал, ни под каким видом!.. Прощай, я
напишу... Непременно. (Вешает трубку. Во время разговора она курила. Теперь
она сжигает записную книжку, которую перелистывала, ища номера телефонов.
Несколько раз прохаживается по комнате. Потом начинает говорить, репетируя
маленькую речь перед мужем, и становится ясно, что муж всегда сидит на
определенном кресле.) Так вот, Фриц, я уезжаю. Пожалуй, мне следовало давно
уже это сделать, ты не сердись, что я не могла решиться, но...
(Остановилась, задумалась. Начинает снова.) Фриц, не надо удерживать меня,
мне нельзя оставаться... Ясно же, что я погублю тебя. Я знаю, ты не трус,
полиции ты не боишься, но есть вещи пострашнее. Они не отправят тебя в
концлагерь, но не сегодня-завтра закроют перед тобой двери клиники. Ты
ничего не скажешь, но ты заболеешь. Не хочу я, чтобы ты тут сидел без дела,
перелистывал журналы. Я уезжаю из чистого эгоизма, только и всего. Молчи...
(Снова останавливается и снова начинает.) Не говори, что ты не изменился, -
это неправда! На прошлой неделе ты вполне объективно заметил, что процент
евреев среди ученых не так-то уж велик. Всегда начинается с объективности. И
почему ты постоянно твердишь мне теперь, что никогда во мне не был так силен
еврейский национализм. Конечно, я националистка. Это заразительно. Ах, Фриц,
что с нами случилось! (Останавливается. Начинает снова.) Я не говорила тебе,
что хочу уехать, давно уже хочу, потому что, как только взгляну на тебя,
слова застревают в горле. В самом деле, нужно ли объясняться, Фриц? Ведь все
уже решено. Какой бес вселился в них? Чего они, в сущности, хотят? Что я им
сделала? Политикой я никогда не занималась. Разве я была за Тельмана? Я же
из тех буржуазных дам, которые держат прислугу и так далее, и вдруг
оказывается, что на это имеют право только блондинки. Я последнее время
часто вспоминаю: как много лет назад ты сказал мне, что существуют очень
ценные люди и менее ценные и что одним дают инсулин при диабете, а другим не
дают. А я-то, дура, согласилась с этим. Теперь они сортируют людей по новому
признаку, и теперь я в числе неполноценных. Поделом мне. (Останавливается.
Начинает снова.) Да, я укладываю вещи. Не притворяйся, что ты этого не
замечал. Фриц, все можно вынести, кроме одного: неужели в последний час мы
не взглянем честно друг другу в глаза? Нельзя, чтобы они этого добились,
Фриц. Они сами лгут и хотят всех принудить ко лжи. Десять лет назад, когда
кто-то сказал мне, что я совсем не похожа на еврейку, ты тут же возразил:
нет, похожа. Меня это порадовало. Все было ясно. Зачем же теперь нам ходить
вокруг да около? Я уезжаю, потому что иначе тебя лишат должности. Потому что
с тобой и сейчас уже не здороваются в клинике и потому что ты уже не спишь
по ночам. Не говори, что я не должна уезжать. Я тороплюсь, потому что не
хочу дождаться того дня, когда ты скажешь мне: уезжай. Это только вопрос
времени. Стойкость - это тоже вопрос времени. Она может выдержать
определенный срок, точно так как перчатки. Хорошие перчатки носятся долго,
но не вечно. Не думай, что я сержусь. Нет, сержусь. Почему я должна со всем
соглашаться? Что плохого в форме моего носа, в цвете моих волос? Меня
вынуждают бежать из города, в котором я родилась, чтобы им остался лишний
паек масла. Что вы за люди? Да-да, и ты. Вы изобрели квантовую теорию,
остроумнейшие методы лечения, и вы позволяете этим дикарям командовать вами.
Вам внушают, что вы завоюете мир, но вам не разрешают иметь жену по своему
выбору. Искусственное дыхание и "Помни, солдат, о задаче своей: каждою пулей
русского сбей". Вы чудовища или подлизы чудовищ! Да, неразумно, что я это
говорю, но к чему разум в таком мире, как наш? Ты сидишь и смотришь, как
твоя жена укладывает чемоданы, и молчишь. У стен есть уши, да? Так вы же
молчите! Одни подслушивают, другие молчат. Фу, черт! Мне лучше бы помолчать.
Если бы я тебя любила, я бы молчала. А я ведь и вправду тебя люблю. Подай
мне белье - вон то. Видишь, какое нарядное. Оно мне понадобится. Мне
тридцать шесть лет, это еще не старость, но долго заниматься экспериментами
мне уже нельзя. В той стране, куда я попаду, это не должно повториться.
Человек, за которого я выйду, должен иметь право держать меня при себе. И
пожалуйста, не говори, что ты будешь высылать мне деньги, ты же знаешь, что
тебе этого не разрешат. И не делай вид, что это на какой-нибудь месяц. То,
что здесь происходит, продлится не один месяц. Ты это знаешь и я знаю. Так
что не говори: всего-то на несколько недель, подавая мне шубу, - ведь
шуба-то понадобится мне только зимой. И не будем называть это несчастьем.
Будем называть это позором. Ах, Фриц! (Умолкает.)
Где-то хлопает дверь. Жена наспех приводит себя в порядок. Входит ее муж.
Муж. Ты что это? Порядок наводишь?
Жена. Нет.
Муж. Зачем ты укладываешь вещи?
Жена. Хочу уехать.
Муж. Что случилось?
Жена. Мы же как-то говорили, что мне следовало бы на время уехать.
Здесь ведь теперь не слишком приятно.
Муж. Какие глупости!
Жена. Так что же, оставаться мне?
Муж. А ты куда, собственно, думаешь поехать?
Жена. В Амстердам. Только бы уехать.
Муж. Но ведь у тебя там никого нет.
Жена. Никого.
Муж. Почему же ты не хочешь остаться? Во всяком случае, из-за меня тебе
незачем уезжать.
Жена. Незачем.
Муж. Ты знаешь, что я ничуть к тебе не переменился. Ты это знаешь,
Юдифь?
Жена. Да.
Он обнимает ее. Они молча стоят среди чемоданов.
Муж. Никаких других причин для твоего отъезда нет?
Жена. Ты же знаешь.
Муж. Может быть, это не так уж глупо. Тебе нужно подышать свежим
воздухом. Здесь можно задохнуться. Я приеду за тобой. Два-три дня, что я
пробуду по ту сторону границы, освежат и меня.
Жена. Верно.
Муж. Да и вообще - долго здесь так продолжаться не может. Откуда-нибудь
придет перемена. Все это кончится, как воспалительный процесс.
Жена. Конечно. Ты видел Шэкка?
Муж. Да, то есть мы столкнулись на лестнице. Мне кажется, он уже
жалеет, что они разошлись с нами. Он был явно смущен. В конце концов им
придется ослабить нажим на нас, интеллигентов. С одними лакеями, которые
только и умеют что спину гнуть, воевать не пойдешь. И люди не так уж сильно
хамят, если им давать отпор. Ты когда хочешь ехать?
Жена. В девять пятнадцать.
Муж. А куда посылать тебе деньги?
Жена. Лучше всего - Амстердам, главный почтамт, до востребования.
Муж. Я добьюсь специального разрешения. Черт возьми, не могу же я
допустить, чтобы моя жена жила на десять марок в месяц! В общем все это
большое свинство. На душе у меня просто отвратительно.
Жена. Если ты приедешь за мной, тебе станет легче.
Муж. Хоть почитать газету, в которой что-нибудь сказано.
Жена. Гертруде я звонила. Она будет присматривать за тобой.
Муж. Совершенно излишне. Из-за нескольких недель...
Жена (начинает опять, укладываться). А теперь подай мне, пожалуйста,
шубу.
Муж (подает ей шубу). В конце концов, всего-то на несколько недель.
ШПИОН
Профессоры маршируют,
Их лоботрясы муштруют
И жучат, отставкой грозя.
Зачем для безусых отребий
Знать о земле и о небе,
Когда им думать нельзя?
Идут прелестные детки,
Что служат в контрразведке,
Доносит каждый юнец,
О чем болтают и мама и папа,
И вот уже мама и папа - в гестапо,
И маме и папе конец.
Кельн, 1935 год. Дождливый день. Воскресенье. Муж, жена и сын-школьник
только что пообедали. Входит служанка.
Служанка. Фрау Климбч с мужем спрашивают, дома ли господа?
Муж (резко). Нет.
Служанка выходит.
Жена. Ты должен был сам подойти к телефону. Они ведь знают, что мы
никуда не могли уйти.
Муж. Почему это мы никуда не могли уйти?
Жена. Потому что идет дождь.
Муж. Это еще не причина.
Жена. Да и куда бы мы могли пойти? Они сразу об этом подумают.
Муж. Мало ли куда можно пойти.
Жена. Так почему же мы не идем?
Муж. А куда нам идти?
Жена. Если бы хоть дождя не было.
Муж. А куда бы мы пошли, если бы дождя не было?
Жена. Прежде можно было по крайней мере встречаться с людьми.
Пауза.
Напрасно ты не подошел к телефону. Теперь они знают, что мы не хотим
поддерживать с ними знакомство.
Муж. Ну и пусть знают!
Жена. Неприятно, что мы сторонимся их теперь, когда все начали их
сторониться.
Муж. Мы их не сторонимся.
Жена. Так почему им тогда не прийти к нам?
Муж. Потому что этот Климбч надоел мне до смерти.
Жена. Прежде ты этого не говорил.
Муж. Прежде! Не раздражай ты меня своим вечным "прежде"!
Жена. Во всяком случае, прежде ты не оборвал бы знакомства с ним
потому, что школьная инспекция что-то против него затевает.
Муж. Ты, значит, хочешь сказать, что я трус?
Пауза.
Так позвони им и скажи, что мы вернулись из-за дождя.
Жена (не двигается с места). Может быть, спросить Лемке, не зайдут ли
они?
Муж. Чтобы они опять доказывали нам, что мы с недостаточным рвением
относимся к противоздушной обороне?
Жена (мальчику). Клаус Генрих, отойди от радио!
Муж. И как нарочно сегодня идет дождь. Что за несчастье! Нечего
сказать, удовольствие жить в стране, где дождь - это целое несчастье!
Жена. По-твоему, очень умно говорить вслух такие вещи?
Муж. У себя, в моих четырех стенах, я могу говорить что мне угодно. Я
не позволю, чтобы мне в моем собственном доме... (Умолкает.)
Входит служанка с кофейным сервизом. Оба молчат, пока она не выходит.
Неужели нельзя обойтись без служанки, у которой отец - квартальный
наблюдатель?
Жена. Об этом мы, кажется, уже достаточно говорили. В конце концов ты
сказал, что это имеет свои преимущества.
Муж. Тебя послушать, чего только я не говорил. Вот скажи такое твоей
мамаше, и мы попадем в хорошенькую историю.
Жена. О чем я говорю с моей матерью - это...
Входит служанка с кофе.
Больше ничего не нужно, Эрна, можете идти. Я сама налью.
Служанка. Большое спасибо, сударыня. (Уходит.)
Мальчик (отрываясь от газеты). Все священники так делают, папа?
Муж. Что делают?
Мальчик. Что здесь написано.
Муж. Что это ты читаешь? (Вырывает у него газету из рук.)
Мальчик. Наш группенфюрер сказал нам - можете читать все, что пишут в
этой газете.
Муж. Группенфюрер мне не указ. Что тебе можно и чего тебе нельзя
читать, решаю я.
Жена. Вот десять пфеннигов, Клаус Генрих, поди купи себе что-нибудь.
Мальчик. Да ведь дождь идет. (Нерешительно подходит к окну.)
Муж. Если они не перестанут печатать отчеты о процессах священников, я
вообще откажусь от подписки на эту газету.
Жена. А на какую ты подпишешься? Ведь это печатают во всех.
Муж. Если такие мерзости печатаются во всех газетах, то я не стану
читать ни одной. И от этого я буду знать не меньше, чем сейчас, что делается
на свете.
Жена. Собственно, не так плохо, что они наводят чистоту.
Муж. Все это только политика.
Жена. Во всяком случае, нас это не касается. Мы ведь протестанты.
Муж. Но народу не все равно, если при мысли о ризнице ему мерещатся
всякие гадости.
Жена. Ну а что же им делать, если такие вещи действительно происходят?
Муж. Что им делать? Не мешало бы им хоть раз на себя оборотиться. У них
в Коричневом доме будто бы вполне чисто.
Жена. Но ведь эти процессы доказывают оздоровление нашего народа, Карл!
Муж. Оздоровление! Хорошенькое оздоровление! Если это называется
здоровьем, то я предпочитаю болезнь.
Жена. Ты сегодня все время нервничаешь. Что-нибудь случилось в школе?
Муж. Что могло случиться в школе? И, пожалуйста, не тверди постоянно,
что я нервничаю, именно от этого я и начинаю нервничать.
Жена. Почему мы вечно спорим, Карл? Прежде...
Муж. Этого только я и ждал! "Прежде"! Ни прежде, ни теперь я не желал и
не желаю, чтобы кто-нибудь отравлял воображение моего сына.
Жена. Кстати, где он?
Муж. Откуда мне знать?
Жена. Ты видел, как он ушел?
Муж. Нет.
Жена. Не понимаю, куда он мог деться. (Зовет.) Клаус Генрих!..
(Выбегает из комнаты. Слышно, как она зовет сына. Через некоторое время она
возвращается.) Он действительно ушел!
Муж. Почему бы ему и не уйти?
Жена. Дождь льет как из ведра!
Муж. Незачем так волноваться, если мальчику захотелось выйти из дому.
Жена. Что мы, собственно, говорили?
Муж. Какое это имеет к нему отношение?
Жена. Ты так несдержан последнее время. -Муж. Во-первых, это вовсе не
так, а во-вторых, если бы даже я действительно был несдержан последнее
время, то какое это имеет отношение к тому, что мальчика нет дома?
Жена. Но ведь они всегда прислушиваются.
Муж. Ну и?..
Жена. "Ну и..." Что, если он начнет болтать? Ты ведь знаешь, что им
вколачивают в голову в Гитлерюгенд. От них же прямо требуют, чтобы они
доносили обо всем. Странно, что он так тихонько ушел.
Муж. Глупости.
Жена. Ты не заметил, когда он ушел?
Муж. Он довольно долго стоял у окна.
Жена. Хотела бы я знать, что он успел услышать.
Муж. Но ведь ему известно, что бывает, когда на кого-нибудь донесут.
Жена. А тот мальчик, о котором рассказывал Шмульке? Его отец до сих пор
в концлагере. Если бы мы хоть знали, до каких пор он оставался тут в
комнате.
Муж. Все это совершеннейший вздор! (Пробегает по другим комнатам и
зовет мальчика.)
Жена. Странно, что он, не сказав ни слова, просто взял и ушел. Это на
него не похоже.
Муж. Может быть, он пошел к товарищу?
Жена. Тогда он у Муммерманов. Я сейчас позвоню туда. (Снимает
телефонную трубку.)
Муж. Уверен, что это ложная тревога.
Жена (у телефона). Говорит фрау Фурке. Добрый день, фрау Муммерман.
Скажите, Клаус Генрих у вас?.. Нет?.. Не понимаю, куда он пропал.... Вы не
знаете, фрау Муммерман, комитет Гитлерюгенд открыт по воскресеньям?.. Да?..
Большое спасибо, я сейчас позвоню туда. (Вешает трубку.)
Оба некоторое время сидят молча.
Муж. Что он, собственно, мог слышать?
Жена. Ты говорил про газету, И про Коричневый дом - что было уже
совершенно лишнее. Ты ведь знаешь, какой он истинный немец.
Муж. А что я такого сказал про Коричневый дом?
Жена. Неужели ты не помнишь? Что там не все чисто.
Муж. Но это ведь нельзя истолковать как враждебный выпад. Не все чисто,
или, как я сказал в более мягкой форме, не все вполне чисто - что уже
составляет разницу, и притом довольно существенную, - это скорее шутливое
замечание в народном духе, так сказать, в стиле обыденной разговорной речи,
которое всего лишь означает, что, вероятно, даже там кое-что не всегда
обстоит так, как хотелось бы фюреру. И я намеренно подчеркнул этот оттенок
вероятности, сказав, как я отлично помню, что даже и там тоже - "как будто"
не все вполне - заметь, именно - "не вполне" чисто. Как будто! А не наверно!
Я не могу сказать, что то или иное там нечисто, для этого у меня нет никаких
данных. Не бывает людей без недостатков. Только это я и хотел сказать, да и
то в самой смягченной форме. Сам фюрер выступал однажды с гораздо более
резкой критикой по этому поводу.
Жена. Я тебя не понимаю. Со мной тебе незачем так разговаривать.
Муж. Ну знаешь, как сказать. Мне ведь совершенно неизвестно, где и с
кем ты болтаешь о том, что может иной раз вырваться сгоряча у себя дома.
Разумеется, я далек от того, чтобы обвинять тебя в легкомысленном
распространении слухов, порочащих твоего мужа, точно так же как я ни на
минуту не допускаю, чтобы мой мальчик мог предпринять что-либо против своего
отца. Но делать зло и отдавать себе в этом: отчет - вовсе не одно и то же.
Жена. Замолчи наконец! Лучше бы ты следил за своим языком! Я все время
ломаю себе голову и не могу вспомнить, когда именно ты сказал, что в
гитлеровской Германии жить нельзя; до того или после того, как ты говорил о
Коричневом доме.
Муж. Я вообще ничего подобного не говорил.
Жена. Ты в самом деле разговариваешь со мной так, как будто я -
полиция! Я же только пытаюсь вспомнить, что мог слышать мальчик.
Муж. Гитлеровская Германия-выражение не из моего лексикона.
Жена. И про квартального наблюдателя, и что в газетах сплошное вранье,
и то, что ты на днях говорил о противовоздушной обороне. Мальчик вообще не
слышит от тебя ничего положительного! Это безусловно плохо действует на юную
душу и только разлагает ее, а фюрер всегда повторяет, что молодежь Германии
- это ее будущее. Но мальчик, конечно, вовсе не такой, чтобы просто побежать
туда и донести. Ох, мне прямо-таки тошно.
Муж. У него мстительный характер.
Жена. За что же он стал бы мстить?
Муж. А кто его знает, всегда найдется что-нибудь. Может быть, за то,
что я отнял у него лягушку.
Жена. Но это было еще на прошлой неделе.
Муж. Он таких вещей не забывает.
Жена. А зачем ты ее отнял?
Муж. Потому что он не ловил для нее мух. Он морил ее голодом.
Жена. У него действительно слишком много других дел.
Муж. Лягушке от этого не легче.
Жена. Но он ни слова об этом с тех пор не говорил, а сейчас я дала ему
десять пфеннигов. И вообще мы ему ни в чем не отказываем.
Муж. Да, это называется подкупом.
Жена. Что ты хочешь сказать?
Муж. Они сейчас же заявят, что мы пытались его подкупить, чтобы он
держал язык за зубами.
Жена. Как ты думаешь, что они могут с тобой сделать?
Муж. Да все! Разве существуют для них границы? Изволь тут быть
учителем! Воспитателем юношества! От этих юношей у меня душа в пятки уходит!
Жена. Но ведь ты ни в чем не замешан?
Муж. Каждый в чем-нибудь да замешан. Все под подозрением. Ведь
достаточно заподозрить человека в том, что он подозрителен.
Жена. Но ведь ребенок не может быть надежным свидетелем. Ребенок же не
понимает, что он говорит.
Муж. Это по-твоему. Но с каких это пор они стали нуждаться в
свидетелях?
Жена. А нельзя ли придумать, как объяснить твои замечания? Чтобы видно
было, что он тебя просто неправильно понял.
Муж. Что я, собственно, такое сказал? Я уже ничего не помню. Во всем
виноват этот проклятый дождь. Начинаешь злиться. В конце концов, я последний
стал бы возражать против духовного возрождения, переживаемого сейчас
немецким народом. Я предсказывал все это еще в конце тридцать второго года.
Жена. Карл, мы не можем сейчас тратить время на эти разговоры. Нам надо
условиться обо всем, и притом немедленно. Нельзя терять ни минуты.
Муж. Я не могу поверить, чтобы Клаус Генрих был способен на это.
Жена. Прежде всего - насчет Коричневого дома и мерзостей.
Муж. Я и звука не сказал о мерзостях.
Жена. Ты сказал, что в газете сплошь мерзости и что ты откажешься от
подписки.
Муж. Ах, в газете! Но не в Коричневом доме!
Жена. Предположим, ты сказал, что осуждаешь мерзости, которые
происходят в ризнице. И считаешь вполне вероятным, что именно эти люди,
которые сидят теперь на скамье подсудимых, в свое время сочиняли сказки об
ужасах Коричневого дома и распускали слухи, что там не все чисто? И что им
еще тогда не мешало на себя оборотиться? И что вообще ты сказал мальчику:
отойди от радио и почитай лучше газету, так как ты держишься того взгляда,
что молодежь в Третьей империи должна открытыми глазами смотреть на то, что
происходит вокруг.
Муж. Все это ничуть не поможет.
Жена. Карл, только не падай духом! Надо быть твердым, как фюрер всегда
нам...
Муж. Как я могу предстать перед судом, когда свидетелем будет выступать
моя собственная плоть и кровь и давать показания против меня!
Жена. Не надо так смотреть на это.
Муж. Напрасно мы дружили с этими Климбчами. Какое легкомыслие!
Жена. Но он же цел и невредим.
Муж. Да, но расследование уже затевается.
Жена. Если бы все, кому грозит расследование, ставили на себе крест...
Муж. Как по-твоему, квартальный наблюдатель имеет что-нибудь против
нас?
Жена. Ты думаешь - на случай, если у него запросят сведения? Ко дню
рождения я послала ему коробку сигар, и к Новому году я тоже не поскупилась.
Муж. Наши соседи, Гауффы, дали ему пятнадцать марок!
Жена. Так они в тридцать втором еще читали "форвертс", а в мае тридцать
третьего вывесили черно-бело-красный флаг!
Телефонный звонок.
Муж. Телефон!
Жена. Подойти?
Муж. Не знаю.
Жена. Кто это может быть?
Муж. Подожди немного. Если позвонят еще раз, тогда подойдешь.
Ждут. Звонок не повторяется.
Это же не жизнь!
Жена. Карл!
Муж. Иуду ты родила мне! Сидит за столом, прихлебывает суп, которым мы
же его кормим, и караулит каждое слово, которое произносят его родители...
Шпион!
Жена. Этого ты не имеешь права говорить!
Пауза.
Как по-твоему, нужно как-то приготовиться?
Муж. Как по-твоему, они прямо придут вместе с ним?
Жена. Разве так не бывает?
Муж. Может быть, надеть мой Железный крест?
Жена. Это обязательно, Карл!
Он достает орден и дрожащими руками прикрепляет его.
Но в школе у тебя ведь все в порядке?
Муж. Откуда мне знать! Я готов преподавать все, что они хотят. Но что
именно они хотят? Если бы я знал! Разве я знаю, какой им требуется Бисмарк?
Они бы еще помедленней выпускали новые учебники! Ты не можешь прибавить
служанке еще десять марок? Она тоже вечно подслушивает.
Жена (кивает). А не повесить ли портрет Гитлера над твоим письменным
столом? Так будет лучше.
Муж. Да, ты права.
Она снимает портрет.
Но если мальчик скажет, что мы нарочно перевесили портрет, это будет
указывать, что мы чувствуем за собой вину.
Жена вешает портрет на старое место.
Кажется, дверь скрипнула?
Жена. Я ничего не слышала.
Муж. А я говорю - скрипнула!
Жена. Карл! (Бросается к мужу и обнимает его.)
Муж. Не теряй мужества. Собери мне немного белья.
Входная дверь захлопывается: муж и жена застывают на месте в углу комнаты.
Открывается дверь, входит мальчик с фунтиком в руках. Пауза.
Мальчик. Что это с вами?
Жена. Где ты был?
Мальчик показывает пакетик с конфетами.
Ты только конфеты купил?
Мальчик. А что же еще? Ясно. (Жуя конфеты, проходит через комнату и
выходит в другую дверь.)
Родители провожают его испытующим взглядом.
Муж. По-твоему, он правду говорит?
Жена пожимает плечами.
ЧЕРНЫЕ БАШМАКИ
Идут сироты и вдовы.
Приманки для них готовы:
Роскошная жизнь впереди.
А нынче - все хуже и хуже,
Затягивай пояс потуже
И жди, и жди, и жди.
Биттерфельд, 1935 год. Кухня в квартире рабочего. Мать чистит картошку.
Тринадцатилетняя дочка делает уроки.
Дочка. Мама, дашь мне два пфеннига?
Мать. Для Гитлерюгенд?
Дочка. Да.
Мать. Нету у меня лишних денег.
Дочка. Если я не буду вносить два пфеннига в неделю, меня не отправят
летом в деревню. А учительница говорит - Гитлер хочет, чтобы город и деревня
лучше познакомились. Чтоб городские жители сблизились с крестьянами. Только
для этого нужно вносить два пфеннига.
Мать. Уж постараюсь как-нибудь выкроить.
Дочка. Вот это здорово. А я тебе помогу чистить картошку. Правда, мама,
в деревне хорошо? Ешь сколько хочешь. А то учительница на гимнастике
сказала, что у меня от картошки раздутый живот.
Мать. Нет у тебя никакого живота.
Дочка. Да, теперь-то нет. А в прошлом году был. Ну, правда, не очень.
Мать. Может, я как-нибудь достану требухи.
Дочка. Мне-то хоть дают булочку в школе. А тебе ничего не дают. Берта
говорила, когда она была в деревне, там давали хлеб с гусиным салом. А когда
и мясо. Правда, здорово?
Мать. Еще бы.
Дочка. И воздух там хороший.
Мать. Ну работать ей, верно, тоже пришлось?
Дочка. Понятно. Зато уж и кормили. Только она говорит, хозяин ужасно к
ней приставал.
Мать. Как приставал?
Дочка. Да ну так - просто прохода ей не давал.
Мать. А-а.
Дочка. Ну Берта была больше меня. На целый год старше.
Мать. Делай уроки!
Пауза.
Дочка. Можно мне не надевать старые черные башмаки, те, пожертвованные.
Мать. Пока незачем. У тебя ведь еще есть другие.
Дочка. Да они продырявились.
Мать. Вот видишь, и погода сырая.
Дочка. Я заложу дыру бумагой. Не протечет.
Мать. Нет, протечет. Раз они прохудились, надо подкинуть подметки.
Дочка. Да ведь это очень дорого.
Мать. А чем тебе не нравятся те, пожертвованные?
Дочка. Терпеть их не могу.
Мать. Потому что они с длинными носами?
Дочка. Видишь, ты сама говоришь!
Мать. Ну они немножко старомодные.
Дочка. И мне надо их носить?
Мать. Не носи, раз ты их терпеть не можешь.
Дочка. Но я ведь не кокетка, правда?
Мать. Нет, просто ты становишься старше.
Пауза.
Дочка. Так дашь мне два пфеннига, мама? Чтобы поехать в деревню.
Мать (раздельно). Нет у меня на это денег.
ТРУДОВАЯ ПОВИННОСТЬ
О классовом мире болтая,
Надсмотрщиков наглая стая
За пару сапог и харчи
Велит батрачить рабочим,
Интеллигентам и прочим,
Но в барышах - богачи!
Люнебургская пустошь, 1935 год. Бригада отбывающих трудовую повинность
за работой. Молодой рабочий и студент вместе копают землю.
Студент. Почему засадили того, молоденького, из третьей бригады? Ведь
он был такой сильный.
Молодой рабочий (усмехаясь). Группенфюрер сказал, что мы, мол, теперь
учимся по-настоящему работать, а тот возьми да и скажи себе под нос, что не
худо бы научиться и зарплату получать. Ну им это пришлось не по вкусу.
Студент. Зачем же он это говорил?
Молодой рабочий. А затем, верно, что работать он и раньше умел. Он с
четырнадцати лет маялся в шахте.
Студент. Берегись, - толстопузый идет.
Молодой рабочий. Не могу я при нем копать на пол-лопаты.
Студент. А я не могу выбрасывать больше.
Молодой рабочий. Если он меня накроет, тогда держись.
Студент. Ну что ж, я не стану швыряться сигаретами.
Молодой рабочий. Так он же непременно меня накроет!
Студент. А гулять хочешь? Думаешь, я буду тебе платить, если ты ничем
не желаешь рисковать.
Молодой рабочий. Все твои подачки давно окупились с лихвой.
Студент. Ничего ты больше не получишь.
Группенфюрер (подходит и наблюдает за ними). Ну, господин ученый,
видишь теперь, что значит работать?
Студент. Так точно, господин группенфюрер.
Молодой рабочий копает на пол-лопаты, студент делает вид, будто
трудится изо всех сил.
Группенфюрер. Этим ты обязан фюреру.
Студент. Так точно, господин группенфюрер.
Группенфюрер. Да-да, плечом к плечу и без всякого там сословного
чванства. Фюрер желает, чтобы в его трудовых лагерях все были равны. На
папашу у нас не сошлешься. Ну-ну, пошевеливайся. (Уходит.)
Студент. По-твоему, ты копал на пол-лопаты?
Молодой рабочий. Конечно, на пол-лопаты.
Студент. Сигарет сегодня не жди. И вообще советую тебе подумать, что
таких, как ты, охотников до сигарет много найдется.
Молодой рабочий (раздельно). Да, таких, как я, много. Об этом мы иногда
забываем.
РАДИОЧАС ДЛЯ РАБОЧИХ
Вот Геббельса сброд зловонный!
Рабочим суют микрофоны
Для лживой болтовни,
И тут же бесправным страдальцам
Грозят указательным пальцем,
Чтоб не стонали они.
Лейпциг, 1934 год. Контора старшего мастера на фабрике. Диктор, стоя возле
микрофона, разговаривает с рабочим средних лет, стариком рабочим и
работницей. В глубине сцены - служащий конторы и широкоплечий молодчик в
форме штурмовика.
Диктор. И вот мы стоим среди маховых колес и приводных ремней,
окруженные усердно и бодро работающими соотечественниками, вносящими и свою
лепту, чтобы дать нашему дорогому фатерланду все, в чем он нуждается.
Сегодня мы находимся на ткацкой фабрике акционерного общества Фукс. И хотя
работа эта тяжелая и напряжен каждый мускул, все же мы видим вокруг только
радостные и довольные лица. Но дадим слово нашим соотечественникам. (Старику
рабочему.) Вы ведь уже двадцать один год на производстве, господин...
Старик рабочий. Зедельмайер.
Диктор. Господин Зедельмайер. Так вот скажите, господин Зедельмайер,
отчего мы видим здесь только радостные и беззаботные лица?
Старик рабочий (после некоторого раздумья). Да ведь они только и знают
что зубоскалить.
Диктор, Так. И работать легче под веселые шутки. Верно?
Национал-социализму чужд человеконенавистнический пессимизм, хотите вы
сказать? Раньше было иначе, верно?
Старик рабочий. Да-да.
Диктор. В прежние времена рабочим было не до смеху, хотите вы сказать.
Тогда говорили: ради чего мы работаем?
Старик рабочий. Да-да, кое-кто так говорит.
Диктор. Что? Ах да, вы имеете в виду всяких нытиков, которые всегда
найдутся, хотя их становится все меньше, так как они вынуждены признать, что
их нытье бессильно, все идет вверх в Третьей империи с тех пор, как страной
опять правит твердая рука. Ведь и вы (обращаясь к работнице) так думаете,
фрейлейн...
Работница. Шмидт.
Диктор. Фрейлейн Шмидт. На каком из наших стальных гигантов вы
работаете?
Работница (отвечает, словно вызубренный урок). И потом работа по
украшению рабочего помещения, которая доставляет нам большую радость. На
добровольные пожертвования мы приобрели портрет фюрера, и мы этим очень
гордимся. А также геранью в горшках, которая своими волшебными красками
оживляет серые тона рабочего помещения, - предложение фрейлейн Кинце.
Диктор. Итак, вы украшаете цеха цветами, этими чарующими детьми полей?
И многое другое, наверно, изменилось у вас на производстве с тех пор, как
изменились судьбы Германии?
Служащий конторы (подсказывает). Умывальные.
Работница. Умывальные - эта мысль принадлежит лично господину директору
Бойшле, за что мы ему искренне благодарны. Желающие могут мыться в
прекрасных умывальных, когда не очень много народу и нет давки.
Диктор. Да, каждый жаждет быть первым. Верно? И там всегда веселая
толкотня?
Работница. На пятьсот пятьдесят два человека только шесть кранов,
поэтому всегда скандал. Есть такие бессовестные...
Диктор. Но все это происходит в самой дружелюбной атмосфере. А теперь
нам хочет еще сказать кое-что господин... забыл его фамилию.
Рабочий. Ман.
Диктор. Значит, Ман, господин Ман. Скажите, господин Ман, что же, все
эти нововведения на фабрике оказали влияние на дух ваших коллег-рабочих?
Рабочий. То есть как?
Диктор. Ну, вы рады, что опять все колеса вертятся и для всех рук есть
работа?
Рабочий. Конечно.
Диктор. И что каждый в конце недели опять уносит домой конверт с
заработной платой. Об этом тоже забывать не следует.
Рабочий. Нет.
Диктор. Ведь так было не всегда? В прежние времена не одному
соотечественнику пришлось изведать все прелести благотворительности. И жить
на подачки.
Рабочий. Восемнадцать марок пятьдесят. Никаких вычетов.
Диктор (смеется деланным смехом). Ха-ха-ха! Замечательно сострил! Из
такой суммы много не вычтешь!
Рабочий. Нет, теперь есть из чего.
Служащий конторы нервничает, он выступает вперед, так же как и
широкоплечий молодчик в форме штурмовика.
Диктор. Да, в Третьей империи все теперь опять получили работу и хлеб.
Вы совершенно правы, господин, - опять забыл вашу фамилию! Нет колеса,
которое - снова не вертелось бы, нет руки, которая оставалась бы праздной в
Германии Адольфа Гитлера. (Грубо отталкивает рабочего от микрофона.) В
радостном сотрудничестве приступили наши соотечественники - и те, кто
работает головой, и те, кто работает руками, - к воссозданию нашего дорогого
фатерланда. Хайль Гитлер!
ЯЩИК
С гробами из цинка, рядами
Идут они к смрадной яме...
А в цинке - останки того,
Кто подлой своре не сдался,
Кто в классовой битве сражался
За наше торжество.
Эссен, 1934 год. Квартира рабочего. Женщина и двое детей, Молодой рабочий с
женой пришли их навестить. Женщина плачет. С лестницы доносятся шаги. Дверь
открыта.
Женщина. Ведь он сказал только, что заработки теперь нищенские. А разве
неправда? У девочки нашей неладно с легкими, а нам не на что молоко
покупать. За это ведь ничего не могли с ним сделать.
Штурмовики вносят большой ящик и ставят на пол.
Один из штурмовиков. Только без сцен. Воспаление легких схватить может
всякий. Вот документы. Все в порядке. Только помните - никаких штук.
Штурмовики уходят.
Ребенок. Мама, папа там в середке?
Рабочий (подошел к ящику). Цинковый.
Ребенок. А можно его открыть?
Рабочий (в бешенстве). Да, можно! Где у тебя инструменты? (Ищет
инструменты.)
Жена (пытается его удержать). Не открывай, Ганс! Они заберут и тебя.
Рабочий. Я хочу видеть, что они с ним сделали. Этого-то они и боятся.
Иначе бы они не запихнули его в цинковый ящик. Пусти меня!
Жена. Не пущу. Ты слышал, что они сказали?
Рабочий. Что ж, даже взглянуть на него нельзя? А?
Женщина (берет за руки детей и подходит к цинковому ящику). У меня еще
цел брат, они могут его арестовать. И тебя могут арестовать, Ганс. Не надо,
не открывай. Смотреть на него нам не надо... Мы и так не забудем его!
ВЫПУСТИЛИ ИЗ ЛАГЕРЯ
Всю ночь их пытали в подвале,
Они же не выдавали...
Вот открывается дверь.
Входят - друзья их в сборе.
Но недоверье во взоре:
Кому они служат теперь?
Берлин, 1936 год. Кухня в рабочей квартире. Воскресное утро. Муж и
жена. Издалека слышна военная музыка.
Муж. Он сейчас должен прийти.
Жена. У вас, собственно, нет улик против него.
Муж. Мы знаем только, что его выпустили из концлагеря.
Жена. Почему же вы его подозреваете?
Муж. Слишком часто это бывало. Очень уж на них там наседают.
Жена. Как же ему оправдаться?
Муж. Мы сумеем узнать, устоял он или нет.
Жена. На это время нужно.
Муж. Да.
Жена. А возможно, он самый честный товарищ.
Муж. Возможно.
Жена. Как ему будет тяжело, когда он увидит, что ему не доверяют.
Муж. Он знает, что это необходимо.
Жена. А все-таки.
Муж. Вот, кажется, он. Не уходи ни на минуту.
Звонок. Муж открывает дверь, входит освобожденный.
Здравствуй, Макс.
Освобожденный молча жмет руки мужу и жене.
Жена. Выпьете с нами кофе? Мы как раз собираемся пить.
Освобожденный. Пожалуйста, если не трудно.
Пауза.
У вас новый шкаф?
Жена. Собственно, он старый - стоит всего одиннадцать марок пятьдесят.
Прежний развалился.
Освобожденный. А-а.
Муж. Что там происходит на улицах?
Освобожденный. Вещи собирают.
Жена. Не худо бы получить костюм для Вилли.
Муж. Да ведь я же на работе.
Жена. А костюм тебе все-таки нужен.
Муж. Не болтай глупостей.
Освобожденный. Работа работой, а каждому что-нибудь да нужно.
Муж. Ты уже получил работу?
Освобожденный. Говорят - получу.
Муж. У Сименса?
Освобожденный. Да, или в другом месте.
Муж. Теперь стало полегче с работой?
Освобожденный. Да.
Пауза.
Муж. Сколько ты в этот раз пробыл там?
Освобожденный. Полгода.
Муж. Кого-нибудь еще там встретил?
Освобожденный. Никого из знакомых.
Пауза.
Они теперь рассылают по разным лагерям. Некоторые попадают даже в Баварию.
Муж. А-а.
Освобожденный. А тут мало что изменилось.
Муж. Да, не много.
Жена. Знаете, мы живем очень тихо, своей семьей. Вилли почти не
встречается со старыми товарищами правда, Вилли?
Муж. Да, знакомство у нас небольшое.
Освобожденный. А мусорные ящики по-прежнему в коридоре?
Жена. Ах, вы не забыли? Говорят, для них нет другого места,
Освобожденный (видя, что хозяйка наливает ему кофе). Один глоток
только. Мне пора.
Муж. У тебя дела?
Освобожденный. Зельма рассказала мне, что вы ее навещали, когда она
хворала. Большое спасибо.
Жена. Не за что. Мы охотно бы звали ее к себе по вечерам, но ведь у нас
даже радио нет.
Муж. То, что там услышишь, можно и в газете прочесть.
Освобожденный. Из "Моргенпост" немного узнаешь.
Жена. Столько же, сколько из "Фелькишер".
Освобожденный. А из "Фелькишер" столько же, сколько из "Моргенпост",
да?
Муж. Я не могу читать по вечерам. Устаю.
Жена. Что у вас с рукой? Вся покалечена и двух пальцев нет!
Освобожденный. Я там упал.
Муж. Хорошо, что левая.
Освобожденный. Да, это еще счастье. Мне бы хотелось поговорить с тобой.
Извините меня, фрау Ман.
Жена. Ну что вы. Мне только надо убрать на плите. (Возится у плиты.)
Освобожденный следит за ней, у него на губах легкая усмешка.
Муж. Мы собираемся выйти после обеда. Зельма поправилась?
Освобожденный. Бедро еще болит. Стирка ей не под силу. Скажите...
(Останавливается и смотрит на обоих. Они смотрят на него. Он молчит.)
Муж (хрипло). Не пойти ли нам на Александерплац перед обедом? Там
невесть что творится со сбором вещей.
Жена. Можно пойти, правда?
Освобожденный. Конечно.
Пауза.
(Тихо.) Слушай, Вилли, я все тот же.
Муж (беспечным тоном). Ну да, конечно! А может быть, на Александерплац,
кстати, и музыка играет. Ступай оденься, Анна. Кофе мы выпили. И я тоже
пойду волосы приглажу.
Они уходят в соседнюю комнату. Освобожденный остается на месте. Он взял
свою шляпу, сидит и тихо насвистывает. Супруги возвращаются одетые.
Идем, Макс.
Освобожденный. Хорошо. Я хочу сказать тебе только одно: по-моему, ты
совершенно прав.
Муж. Что ж! Так пойдемте.
Выходят все вместе.
ЗИМНЯЯ ПОМОЩЬ
В патриотизме рьяном,
С флагом и барабаном
Сборщики ломятся в дом.
И, выклянчив в нищем жилище
Тряпье и остатки пищи,
Дают их нищим соседям потом.
Палач в шутовском одеянье
Швыряет им подаянье,
Но проку от этого нет!
И дрянь, что им в горло вперли,
У них застревает в горле,
Как и гитлеровский привет.
Карлсруэ, 1937 год. Двое штурмовиков приносят посылку Зимней помощи на
квартиру старухе, та стоит у стола с дочерью.
Первый штурмовик. Вот, мамаша, это вам посылает фюрер.
Второй штурмовик. Теперь вы не скажете, что он не заботится о вас.
Старуха. Спасибо, большое вам спасибо. Гляди, Эрна, - картошка. И
шерстяная кофта. И яблоки!
Первый штурмовик. И письмо от фюрера, а в нем еще кое-что. Ну-ка,
вскройте.
Старуха (вскрывает). Двадцать пять марок! Что ты на это скажешь, Эрна?
Второй штурмовик. Это вам Зимняя помощь!
Старуха. Угоститесь яблочком, молодой человек. И вы тоже. Вы ведь ее
тащили и по лестнице взбирались. Другого-то у меня ничего нет. И сама я тоже
угощусь. (Надкусывает яблоко.)
Все едят, кроме молодой женщины.
Да возьми, же, Эрна, не стой как пень. Сама теперь видишь - твой муж зря
говорит.
Первый штурмовик. А что он говорит?
Молодая женщина. Ничего он не говорит. Старуха мелет вздор.
Старуха. Да нет же, он только так болтает. Не подумайте, чтобы очень
дурное. Все кругом это говорят. Цены, мол, что-то вскочили за последнее
время. (Указывает яблоком на дочь.) И правда, она подсчитала по расходной
книге, на еду у нее в нынешний год уходит на сто двадцать три марки больше,
чем в прошлый. Правда, Эрна? (Видит, что штурмовики отнеслись к этому с
явным неодобрением.) Да я знаю, это потому, что деньги нужны на вооружение.
Что вы? Что я такого сказала?
Первый штурмовик (дочери). Где у вас хранится расходная книга?
Второй штурмовик. Вы всем ее показываете?
Молодая женщина. Она у меня дома, и никому я ее не показываю.
Старуха. Разве плохо, что она ведет расходную книгу?
Первый штурмовик. А что она распространяет гнусную клевету, это хорошо,
да?
Второй штурмовик. И что-то она не очень громко крикнула "хайль Гитлер",
когда мы вошли. Как по-твоему?
Старуха. Но ведь она все-таки крикнула "хайль Гитлер". А я и сейчас
повторю: "Хайль Гитлер!"
Второй штурмовик. Куда мы с тобой угодили, Альберт? Ведь это же
настоящее марксистское логово. Придется нам самим заглянуть в расходную
книгу. Сейчас же ведите нас к себе домой. (Хватает молодую женщину за руку.)
Старуха. Да ведь она на третьем месяце! Как же это можно! Ведь вы же
сами и посылку принесли и яблоками угощались. И Эрна-то кричала: "Хайль
Гитлер!" Господи, что же мне теперь делать... Хайль Гитлер! Хайль Гитлер!
(Ее рвет яблоком.)
Штурмовики уводят дочь.
(Вместе с рвотой.) Хайль Гитлер!
ДВА БУЛОЧНИКА
Вот булочники-бедняжки,
У каждого пухлый и тяжкий
Мешок суррогатной муки.
Приказ - великая сила!
Но из отрубей и опилок
Попробуй-ка хлеб испеки!
Ландсберг, 1936 год. Тюремный двор. Заключенные ходят по кругу. Двое
передних переговариваются шепотом.
Первый. Ты тоже булочник, новенький?
Второй. Да. Ты тоже?
Первый. Да. Тебя за что зацапали?
Второй. Берегись!
Вновь идут по кругу.
За то, что я не подмешивал отрубей и картофеля в муку. А ты? Сколько ты уже
здесь?
Первый. Два года.
Второй. А за что? Берегись!
Вновь проходят круг.
Первый. За то, что я подмешивал отруби в муку. Два года тому назад это
еще называлось фальсификацией продуктов.
Второй. Берегись!
КРЕСТЬЯНИН КОРМИТ СВИНЬЮ
Крестьянин дорогою длинной
Шагает с кислой миной:
Ни гроша с поставки зерна,
А молоко для свинки
Ищи на черном рынке! -
И зол он, как сам сатана.
Айхах, 1937 год. Крестьянский двор. Ночь. Перед свинарником крестьянин
наставляет жену и двоих детей.
Крестьянин. Я не хотел втягивать вас в это дело, но, раз уж вы
пронюхали, держите язык за зубами. Не то засадят меня в концлагерь, в
Ландсберг, на веки вечные. Плохого мы ничего не делаем. Мы только кормим
голодную скотину. Господь бог не хочет, чтобы его творение голодало.
Скотина, когда голодает, голос подает. А я не могу слушать, как на моем
дворе свинья визжит с голоду. А кормить ее мне не позволяют. Из
государственных соображений. Но я все равно ее кормлю и буду кормить. Ежели
ее не кормить, она сдохнет. Тогда мне убыток, и никто мне его не покроет.
Крестьянка. И я так говорю. Наше зерно - это наше зерно. И нечего нам
указывать. Правители выискались. Евреев вытурили, а сами хуже всякого
ростовщика. Господин пастор тоже говорит: "И сохрани вола твоего". Стало
быть, он указал, что мы можем свой скот кормить за милую душу. Не мы ведь
выдумали ихний четырехлетний план, нас об этом не спрашивали.
Крестьянин. Верно. Они не для крестьян, и крестьяне не для них. Ишь ты,
свое зерно им отдай, а корм для скота купи, да по какой цене! А они пушки
будут покупать. Придумали!
Крестьянка. Так вот: ты, Тони, стань у забора, а ты, Мари, выбеги на
лужок. Как кого увидишь, прибеги сказать.
Дети занимают посты. Крестьянин замешивает корм и, озираясь, несет его
в свинарник. Жена его тоже со страхом озирается.
Крестьянин (засыпая зерно в кормушку). Ну лопай, Лина, лопай! Хайль
Гитлер! Коли скотина голодает, разве это государство?
СТАРЫЙ БОЕЦ
Идут избиратели сбором
На стопроцентный кворум
Голосовать за кнут.
На них - ни кожи, ни рожи,
У них - ни жратвы, ни одежи,
Но Гитлера изберут!
Вюртемберг, 1938 год. Площадь маленького города. На заднем плане мясная
лавка. На переднем - молочная. Пасмурное зимнее утро. Мясная лавка еще не
открыта. Молочная уже освещена. У дверей ждут несколько покупателей.
Мужчина. Наверно, и сегодня масла не будет.
Первая женщина. Вот беда! А мне и нужно-то на грош. Не раскупишься на
то, что мой зарабатывает.
Юноша. Хватит вам брюзжать. Германии нужны пушки, а не масло. И это
вернее верного. Он же ясно сказал.
Первая женщина (покорно). Правильно.
Молчание.
Юноша. Разве масло помогло бы нам занять Рейнскую область? Когда
заняли, то все были довольны, а пойти на какую-нибудь жертву никому не
хочется.
Вторая женщина. Спокойней, молодой человек. Все мы идем на жертвы.
Юноша (подозрительно). Что вы хотите этим сказать?
Вторая женщина (первой). Разве, вы ничего не даете, когда производится
сбор пожертвований?
Первая женщина молча кивает головой.
Вот видите: она дает. И мы даем. Добровольно.
Юноша. Знаем мы вас. Дрожите за каждый пфенниг, когда фюреру для его
великих задач нужна, так сказать, поддержка. На Зимнюю помощь жертвуют
всякое тряпье. Охотнее всего отдали бы одну только моль. Фабрикант из
одиннадцатого номера пожертвовал пару дырявых сапог!
Мужчина. До чего люди неосторожны!
Из молочной выходит хозяйка молочной в белом переднике.
Хозяйка молочной. Сейчас откроем. (Второй женщине.) Доброе утро, фрау
Руль. Слышали, вчера вечером они увели молодого Летнера?
Вторая женщина. Мясника?
Хозяйка молочной. Да, сына.
Вторая женщина. Но он же штурмовик?
Хозяйка молочной. Ну и что? Старик с двадцать девятого года в партии.
Вчера его случайно не было, он поехал за товаром, а то бы они и его взяли.
Вторая женщина. В чем же их обвиняют?
Хозяйка молочной. В спекуляции. Последнее время у него совсем не было
товара, приходилось отказывать покупателям. И вот, говорят, он купил на
черном рынке. Чуть ли не у евреев.
Юноша. И, по-вашему, его не за что было взять?
Хозяйка молочной. Он был один из самых усердных. Ведь это он донес на
старика Цейслера из семнадцатого номера, что тот не подписался на "Фелькишер
беобахтер". Он старый боец.
Вторая женщина. То-то он вытаращит глаза, когда вернется.
Хозяйка молочной. Если вернется!
Мужчина. До чего люди неосторожны!
Вторая женщина. Должно быть, они сегодня не откроют лавку.
Хозяйка молочной. Оно и лучше. Уж если полиция куда заглянет, она
всегда что-нибудь да найдет. А товар-то нелегко теперь доставать. Мы-то
получаем все прямо из кооператива, там пока нет перебоев. (Громко.) Сливок
сегодня не будет.
Всеобщий ропот.
У Летнеров ведь и дом заложен. Они надеялись, что закладную аннулируют, или
что-то в этом роде.
Мужчина. Как же можно аннулировать закладные! Многого захотели.
Вторая женщина. Молодой Летнер был очень славный юноша.
Хозяйка молочной. Да. Вот старик - тот бешеный. Он ведь чуть не силой
загнал сына в штурмовики. А сыну бы только с девушкой погулять.
Юноша. Что значит - бешеный?
Хозяйка молочной. Разве я сказала бешеный? Ну да, я имела в виду, что
его раньше бесило всегда, когда кто-нибудь оспаривал идею. Он всегда говорил
про идею и осуждал людской эгоизм.
Мужчина. Они все-таки открывают лавку.
Вторая женщина. Жить-то им надо.
Из полуосвещенной мясной лавки выходит толстая женщина, жена мясника,
останавливается на тротуаре и всматривается в конец улицы. Потом обращается
к хозяйке молочной.
Жена мясника. Доброе утро, фрау Шлихтер. Вы не видели моего Рихарда?
Ему давно пора бы уже быть с товаром.
Хозяйка молочной не отвечает. Все молча смотрят на жену мясника. Она поняла,
в чем дело, и быстро скрывается в лавке.
Хозяйка молочной. Делает вид, что ничего не случилось. А ведь что там
было позавчера! Старик бушевал так, что на всю площадь было слышно. Это они
тоже записали ему в счет.
Вторая женщина. Я ничего не слышала об этом, фрау Шлихтер.
Хозяйка молочной. Да что вы? Он же отказался выставить в витрине
окорока из папье-маше, которые они ему принесли. А он их заказал - это они
потребовали, потому что целую неделю у него в витрине вообще ничего не было,
только прейскурант висел. Он им так и сказал: ничего для витрины у меня нет.
Когда они пришли с окороками из папье-маше - и телячья ножка там была,
здорово сделано, ну прямо не отличишь от настоящей, - он и начал рычать, что
не станет вывешивать никакой бутафории, и еще такое, что и повторить-то
нельзя. Все против правительства. А окорока из папье-маше выбросил на улицу.
Им и пришлось вытаскивать их из грязи.
Вторая женщина. Тсс, тсс, тсс.
Мужчина. До чего люди неосторожны!
Вторая женщина. И почему это люди так из себя выходят?
Хозяйка молочной. И как раз самые хитрые!
В мясной лавке зажигается вторая лампочка.
Глядите! (Показывает на полутемную витрину мясной.)
Вторая женщина. Там в витрине все-таки что-то есть!
Хозяйка молочной. Это же старик Летнер! И в пальто! Но на чем он стоит?
(Вдруг вскрикивает.) Фрау Летнер!
Жена мясника (выходя из лавки). Что такое?
Хозяйка молочной безмолвно показывает на витрину. Жена мясника смотрит туда,
вскрикивает и падает без чувств. Вторая женщина и хозяйка молочной подбегают
к витрине.
Вторая женщина (кричит через плечо). Он повесился в витрине!
Мужчина. У него на шее какой-то плакат.
Первая женщина. Это прейскурант. На нем что-то написано.
Вторая женщина. На нем написано: я голосовал за Гитлера.
НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ
Идут христиане, от катов
Христовы заветы припрятав,
Иначе - тюремный срок.
Нацисты хохочут над ними:
Он изгнан богами иными -
Их мирный еврейский бог!
Любек, 1937 год. Комната-кухня в семье рыбака. Рыбак при смерти. У его
постели жена и сын в форме штурмовика. Тут же пастор.
Умирающий. Скажите мне, там и вправду что-то есть?
Пастор. Неужто вас мучат сомнения?
Жена. Последние дни он все говорил: столько, мол, у нас болтают и сулят
всего, не знаешь, чему и верить. Не гневайтесь на него за это, господин
пастор.
Пастор. Там нас ждет жизнь вечная.
Умирающий. А она будет лучше?
Пастор. Разумеется.
Умирающий. Да и надо бы!
Жена. Очень уж он намаялся.
Пастор. Поверьте мне, господу это ведомо.
Умирающий. Правда? (Помолчав.) Может, там на небесах не будут тебе рот
затыкать? Как по-вашему?
Пастор (несколько смутившись). В писании сказано: вера горами двигает.
Веруйте. Это принесет вам облегчение.
Жена. Не думайте, господин пастор, что он неверующий. Он всегда ходил
причащаться. (Мужу, настойчиво.) Господин пастор думает - ты неверующий. А
ведь ты верующий, да?
Умирающий. Да...
Пауза.
Умирающий. Ведь кроме-то ничего нет.
Пастор. Что вы хотите этим сказать? Как это - ничего нет?
Умирающий. Ну вообще, больше ничего нет. А по-вашему как? Я хочу
сказать - будь хоть что-нибудь, кроме...
Пастор. Но что же должно быть?
Умирающий. Да что-нибудь.
Пастор. Но у вас была ведь и хорошая жена и сынок был.
Жена. Ведь мы-то у тебя были?
Умирающий. Да...
Пауза.
Я хочу сказать, если бы было что путное в жизни...
Пастор. Вероятно, я вас неправильно понял. Вы не то хотели сказать.
Неужели вы веруете лишь потому, что в вашей жизни ничего не было, кроме
тягот и трудов?
Умирающий (оглядываясь, словно ищет кого-то, наконец видит сына). А им
лучше будет?
Пастор. Вы хотите сказать - молодежи? Мы на это уповаем.
Умирающий. Вот будь у нас моторный катер...
Жена. Полно, не порти ты себе кровь!
Пастор. Вам не подобает помышлять сейчас о таких делах.
Умирающий. Приходится.
Жена. Как-нибудь пробьемся.
Умирающий. А вдруг будет война?
Жена. Перестань говорить про это. (Пастору.) Последнее время у них с
сыном только и разговору было что про войну. И ссорились же они!
Пастор бросает взгляд на сына.
Сын. Он не верит в возрождение.
Умирающий. Скажите, а он там, наверху, войну одобряет?
Пастор (запинаясь). В писании сказано: блаженны миротворцы.
Умирающий. Ну а как же, если будет война...
Сын. Фюрер не желает войны!
Умирающий (отмахивается от него). Значит, как же, если будет война...
Сын порывается что-то сказать.
Жена. Помолчи.
Умирающий (пастору, указывая на сына). Ему вот скажите про миротворцев!
Пастор. Не забудьте, что все мы в руке божьей.
Умирающий. Это вы ему говорите?
Жена. Брось ты, разве господин пастор может помешать войне! И
толковать-то про это нынче не годится. Правду я говорю, господин пастор?
Умирающий. Вы сами знаете, как они горазды врать. Мне не купить мотора
для лодки. Все моторы идут у них на самолеты. Для войны, для бойни. Мне вот
в непогоду никак не пристать к берегу, потому - мотора нет. А они все врут,
а сами собираются воевать! (В изнеможении падает на подушку.)
Жена (испуганно хватает миску с водой и полотенцем вытирает у него пот
со лба). Не слушайте его. Он уже и сам не помнит, что говорит.
Пастор. Успокойтесь, господин Клаазен.
Умирающий. А вы ему скажете про миротворцев?
Пастор (помолчав). Пусть сам прочтет. Это из Нагорной проповеди.
Умирающий. Он говорит - все это сказано евреем и ничего не стоит.
Жена. Ну вот, опять завел. Сам он так не думает. Это он от приятелей
слышал!
Умирающий. Да. (Пастору.) Так ничего не стоит?
Жена (опасливо покосившись на сына). Не подводи ты господина пастора
под беду, Ганнес. Не спрашивай его про это.
Сын. А почему бы и не спросить?
Умирающий. Стоит или не стоит?
Пастор (после долгого молчания, через силу). В писании сказано также:
отдавайте кесарево кесарю, а божье - богу.
Умирающий падает на подушку. Жена кладет ему на лоб мокрое полотенце.
ПРИЗЫВ
Мальчишек придурковатых
Учат: умри за богатых!..
Отдай им жизнь свою!..
Учители злы, словно черти,
И парни больше, чем смерти,
Боятся струсить в бою.
Хемниц, 1937 год. Помещение Гитлерюгенд. Группа подростков, большинство с
противогазами через плечо. Кучка ребят наблюдает за подростком без
противогаза, который сидит один на скамье и безостановочно шевелит губами,
видимо, что-то заучивая.
Первый подросток. Видишь, у него до сих пор нет.
Второй подросток. Мать ему не покупает.
Первый подросток. Что ж, она не знает, как ему за это всыплют?
Третий подросток. А если у нее купилок нет?
Первый подросток. Толстяк и без того к нему придирается.
Второй подросток. Смотри, опять зубрит призыв.
Четвертый подросток. Битый месяц зубрит, а там и всего-то два
четверостишия.
Третий подросток. Да он давно уже выучил.
Второй подросток. А запинается потому, что боится.
Четвертый подросток. Каждый раз со смеху умрешь, правда?
Первый подросток. Да уж, потеха. (Окликает сидящего.) Заучил, Пширер?
Пятый подросток растерянно поднимает глаза и, сообразив, кивает. Потом
снова принимается зубрить.
Второй подросток. Толстяк жучит его только за то, что у него
противогаза нет.
Третий подросток. А он говорит - за то, что он с ним, с толстяком, в
кино не пошел.
Четвертый подросток. Слышал я это. А вы верите?
Второй подросток. Очень может быть. Я бы тоже не пошел в кино с
толстяком. Но ко мне он не смеет сунуться. Мой предок задаст ему жару.
Первый подросток. Тише - толстяк!
Ребята выстраиваются в два ряда и стоят навытяжку. Входит дородный шарфюрер.
Гитлеровское приветствие.
Шарфюрер. По порядку номеров рассчитайсь!
Команда исполняется.
Противогазы надеть!
Ребята надевают противогазы. Те, у кого их нет, проделывают заученные
движения.
Начнем с призыва. Кто нам его прочтет наизусть? (Оглядывается как бы в
нерешимости, затем вдруг.) Пширер! У тебя это так хорошо получается.
Пятый подросток выходит и становится впереди. Он очень бледен.
Заучил, умная голова?
Пятый подросток. Так точно, господин шарфюрер!
Шарфюрер. Выкладывай! Первая строфа!
Пятый подросток.
Должен ты теперь учиться,
Смерть встречать бесстрашно впредь.
Тот, кто смерти не боится,
Может гордо умереть.
Шарфюрер. Смотри не напусти в штаны! Дальше! Вторая строфа!
Пятый подросток.
Бей, стреляй, круши с размаху,
Это всех...
(Запинается, повторяет последние слова.)
Некоторые из ребят еле удерживаются, чтобы не прыснуть.
Шарфюpep. Опять недоучил!
Пятый подросток. Так точно, господин шарфюрер!
Шарфюрер. Верно, дома ты чему-то другому учишься? (Рявкает.) Дальше!
Пятый подросток.
Это всех... побед залог.
Все отдай... умри без страха... умри
без страха...
Все отдай! Умри без страха...
Чтоб ты смелым... Чтоб ты смелым
зваться мог!
Шарфюрер. Подумаешь, что тут трудного!
В КАЗАРМАХ СТАЛО ИЗВЕСТНО О БОМБЕЖКЕ АЛЬМЕРИИ
Солдатам - суп и жаркое,
Чтоб шли на войну в покое,
Пока утроба полна,
Чтоб слепо за Гитлера драться,
Чтоб долго не разбираться,
На кой им дьявол война!
Берлин, февраль 1937 года. Коридор в казарме. Два пролетарских
мальчика-подростка, боязливо оглядываясь, несут что-то завернутое в
оберточную бумагу.
Первый мальчик. У них сегодня переполох, да?
Второй мальчик. Они говорят - это потому, что может начаться война.
Из-за Испании.
Первый мальчик. Сидят белые как мел.
Второй мальчик. Это потому, что мы бомбили Альмерию. Вчера вечером.
Первый мальчик. Где это?
Второй мальчик. Да там, в Испании. Гитлер заявил туда по телеграфу, что
немецкий военный корабль немедленно начнет бомбить Альмерию. В наказание.
Потому что там они все красные, а надо, чтобы красные наклали в штаны со
страху перед Третьей империей. Теперь может начаться война.
Первый мальчик. И теперь они сами в штаны наклали.
Второй мальчик. Да, наклали в штаны.
Первый мальчик. Так чего же они хорохорятся, если сами сидят белые как
мел и кладут в штаны со страху, что может начаться война?
Второй мальчик. Они хорохорятся только потому, что этого хочет Гитлер.
Первый мальчик. Но чего хочет Гитлер, того хотят и они. Все же за
Гитлера. Потому что он создал наш вермахт.
Второй мальчик. Факт!
Пауза.
Первый мальчик. Как ты думаешь, нам уже можно выйти?
Второй мальчик. Погоди. Еще напоремся на лейтенанта. Он у нас тогда все
отберет, и мы их всех завалим.
Первый мальчик. Какие они хорошие, что позволяют нам приходить сюда
каждый день.
Второй мальчик. Они ведь тоже не у миллионеров росли. Они сами хлебнули
горя. Моя мать получает только десять марок в неделю, а нас у нее трое.
Сидим на одной картошке.
Первый мальчик. А их тут здорово кормят. Сегодня были клецки.
Второй мальчик. Сколько тебе сегодня дали?
Первый мальчик. Ложку. Как всегда. А что?
Второй мальчик. Мне сегодня досталось две.
Первый мальчик. А ну, покажи. Мне дали одну.
Второй мальчик показывает.
Ты что-нибудь им сказал?
Второй мальчик. Нет. Доброе утро, как всегда.
Первый мальчик. Не понимаю. Я тоже сказал, как всегда, - хайль Гитлер.
Второй мальчик. Странно. Я получил две.
Первый мальчик. С чего бы это вдруг? Не понимаю.
Второй мальчик. И я не понимаю... Ну теперь можно - фюить!
Быстро убегают.
РАБОТОДАТЕЛИ
Шагают работорговцы,
Для них бедняки словно овцы,
Которых каждый дерет.
Танки и пушки готовя,
Реками пота и крови
Должен платиться народ.
Шпандау, 1937 год. Возвратясь домой, рабочий застает у себя соседку.
Соседка. Добрый вечер, господин Фенн. Я хотела занять у вашей жены
хлеба. Она вышла на минуту.
Рабочий. Пожалуйста, фрау Диц. Как вам нравится, какое место я получил?
Соседка. Да, теперь всем дают работу. Вы на новом авиазаводе?
Бомбардировщики делаете?
Рабочий. Без передышки.
Соседка. Это им в Испанию нужно.
Рабочий. Почему в Испанию?
Соседка. Говорят, чего они только туда не посылают. Стыд и срам!
Рабочий. Ну-ну! Попридержите язык!
Соседка. Вы что, тоже к ним перешли?
Рабочий. Никуда я не переходил. Я делаю свое дело. А где же Марта?
Соседка. Пожалуй, лучше вас предупредить: кажется, какая-то
неприятность. Когда я вошла, почтальон как раз принес письмо. Ваша жена
прочла и разволновалась. Я уже собралась идти за хлебом к Ширманам.
Рабочий. Да что вы? (Зовет.) Марта!
Входит его жена. Она в трауре.
Что с тобой? Кто умер?
Жена. Франц. Письмо пришло. (Дает ему письмо.)
Соседка. Господи! Что с ним случилось?
Рабочий. Авария.
Соседка (недоверчиво). Он ведь летчиком был, да?
Рабочий. Да.
Соседка. И у него случилась авария?
Рабочий. Да, в Штеттине. Ночью во время учебного полета в учебном
лагере, так здесь сказано.
Соседка. Какая там авария! Меня вы не проведете.
Рабочий. Я повторяю то, что здесь сказано. Письмо от лагерного
начальства.
Соседка. А он писал вам последнее время? Из Штеттина?
Рабочий. Не убивайся, Марта. Этим горю не поможешь.
Жена (рыдая). Я знаю.
Соседка. Славный был парень ваш брат. Не сварить ли вам кофе?
Рабочий. Будьте так добры, фрау Диц.
Соседка (ищет кастрюлю). Да, тяжелый удар.
Жена. Умойся, Герберт. Фрау Диц - свой человек.
Рабочий. Не к спеху.
Соседка. А из Штеттина он вам писал?
Рабочий. Письма все время приходили из Штеттина.
Соседка (многозначительно). Вот как! А сам он, верно, был южнее?
Рабочий. Как - южнее?
Соседка. На далеком юге, в прекрасной Испании.
Рабочий (жене, которая опять разрыдалась). Возьми себя в руки, Марта! А
вам не следует так говорить, фрау Диц.
Соседка. Мне бы только хотелось знать, что бы вам ответили в Штеттине,
если бы вы приехали за телом шурина?
Рабочий. Я не поеду в Штеттин.
Соседка. Они умеют прятать концы в воду. Даже за подвиг считают, что у
них все шито-крыто. Вот недавно в пивной один хвастал, как ловко они
маскируют свою войну. Когда сбивают бомбардировщик, те, что внутри, прыгают
с парашютом, а их с других машин тут же в воздухе расстреливают из пулемета.
Свои же расстреливают, чтобы они не рассказали красным, откуда их прислали.
Жена (ей дурно). Дай мне воды, Герберт, мне дурно.
Соседка. Конечно, не следует вас волновать, но уж очень они ловко
прячут концы. Они сами понимают, какое это преступление, какой позор - их
война. Вот и тут: авария во время учебного полета! А чему они учатся?
Воевать они учатся!
Рабочий. Говорите хоть потише. (Жене.) Лучше тебе?
Соседка. Вы тоже из тех, что на все глаза закрывают. Вот вас и
отблагодарили в этом письме!
Рабочий. Замолчите же наконец!
Жена. Герберт!
Соседка. Да, теперь "замолчите". Потому что вам дали место! Вашему
шурину тоже дали место! Он потерпел "аварию" как раз на такой штуке, какие
вы изготовляете на авиазаводе.
Рабочий. Ну это уж слишком, фрау Диц. Вы говорите - я изготовляю такие
штуки. А что делают другие? Что делает ваш муж? Лампочки, да? Это,
по-вашему, не для войны? Это только освещение! А на что нужно освещение? Что
они освещают? Может быть, танки? Или военные корабли? Или тоже такие штуки!
Ну да, он делает только лампочки. А что сейчас делают не для войны? Где же
искать работу не для войны? Или прикажете с голоду умирать?
Соседка (смутившись). Я же не говорю, чтобы вы умирали с голоду.
Конечно, вы должны работать. Я только об этих преступниках говорю. Хорошую
они дают работу!
Рабочий (строго, жене). Тебе нельзя ходить в черном. Им это не
нравится.
Соседка. Им не нравится, чтобы спрашивали, почему да отчего.
Жена (спокойно). По-твоему, мне надо снять черное?
Рабочий. Да, иначе меня сразу же прогонят с места.
Жена. А я не сниму.
Рабочий. То есть как?
Жена. Не сниму. Мой брат умер. Я буду носить траур.
Рабочий. Если бы Роза не купила черного платья после смерти матери, у
тебя бы его не было и ты бы его не носила.
Жена (кричит). Никто не запретит мне носить траур! Если уж они его
прикончили, так я имею право хоть поплакать вволю. Этого никогда не бывало!
Такого зверства мир не видел! Бандиты!
Рабочий онемел от ужаса.
Соседка. Что вы, фрау Фенн!
Рабочий (хрипло). Если ты будешь так говорить, мы не только лишимся
работы, с нами что-нибудь похуже стрясется.
Жена. Пускай меня заберут! Ведь у них есть женские концлагеря. Пускай
меня туда упрячут за то, что я не могу молчать, когда они убивают моего
брата! Какое ему было дело до Испании!
Рабочий. Не ори ты про Испанию!
Соседка. Вы доведете себя до беды, фрау Фенн!
Жена. Оттого, что они тебя с места прогонят, - мы должны молчать?
Оттого, что мы подохнем, если не будем делать им бомбардировщики? Все равно
скоро придется подыхать, как Францу. Ему они тоже дали место. На метр под
землей. Такое бы он и здесь получил!
Рабочий (пытается зажать ей рот). Замолчи! Это ничему не поможет!
Жена. А что поможет? Так делайте же то, что поможет!
ПЛЕБИСЦИТ
Так шли они страшным парадом,
А мы провожали их взглядом,
Крича: какого рожна
Вы молча шагаете к смерти
Во имя нацистов? Поверьте,
Ведь это не ваша война!
Берлин, 13 марта 1938 года. Пролетарская квартира. Двое рабочих и женщина. В
маленькой комнатушке тесно от высокого древка знамени. Из
радиорепродуктора вырывается неистовое ликование, колокольный звон и шум
авиамоторов. Раздается голос: "И вот фюрер въезжает в Вену".
Женщина. Точно море ревет.
Пожилой рабочий. Да, у него победа за победой.
Молодой рабочий. Его победы - наше поражение.
Женщина. Так оно и есть.
Молодой рабочий. Как они орут! Как будто им самим что-нибудь
достанется!
Пожилой рабочий. И достанется. Оккупационная армия.
Молодой рабочий. А потом "плебисцит". Единый народ, единый рейх, единый
фюрер! Хочешь ты этого, немец? А мы у себя, в рабочем городе Нейкельне, не
можем даже листовку выпустить к этому плебисциту.
Женщина. Как так - не можем?
Молодой рабочий. Очень уж опасно.
Пожилой рабочий. В особенности с тех пор как и Карла засадили. Где нам
адреса раздобыть?
Молодой рабочий. А где найти человека, чтобы текст написал?
Женщина (показывает на радио). У него для нападения сто тысяч нашлось,
а мы не можем сыскать одного человека. Нечего сказать. Если он только будет
находить что нужно, он и будет побеждать.
Молодой рабочий (сердито). Так, по-твоему, и без Карла можно обойтись?
Женщина. Чем так разговаривать, лучше отправиться по домам.
Пожилой рабочий. Товарищи, незачем нам притворяться друг перед другом.
Ведь мы же знаем, что выпускать листовки с каждым днем все труднее. Не можем
мы делать вид, будто до нас не долетает их победный вой. (Показывая на
радио, женщине.) Согласись сама, что каждый, кто это слышит, все больше
верит в их силу. Можно и в самом деле подумать, что это кричит единый народ.
Женщина. Это кричат двадцать тысяч пьянчуг, которых накачали пивом.
Молодой рабочий. А вдруг это мы только так думаем?
Женщина. Ну да. Мы и такие, как мы. (Расправляет смятую записку.)
Пожилой рабочий. Это что такое?
Женщина. Копия письма. Под этот гам нестрашно прочесть. (Читает.)
"Дорогой мой сын! Завтра меня не станет. Казнь обычно бывает в шесть утра. Я
пишу тебе напоследок, чтобы сказать тебе, что убеждения мои не изменились.
Не подавал я и прошения о помиловании, потому что не знаю за собой никакой
вины. Я только служил своему классу. Хотя и кажется, что я ничего не
добился, но это неверно. Каждый на своем посту - таков должен быть наш
лозунг! Задача наша очень трудна, но нет в мире выше задачи, чем
освобождение человечества от ярма угнетателей. Без этого жизнь не имеет
цены. Жить стоит только ради этого. Если у нас не будет этой цели, все
человечество одичает. Ты еще мал, но не мешает тебе всегда помнить, на чьей
ты стороне. Будь верен своему классу, чтобы отец твой недаром претерпел свою
горькую долю. Потому что мне сейчас нелегко. Заботься о матери, о братьях и
сестрах. Ты ведь старший. Будь умницей. Привет вам всем от любящего тебя
отца".
Пожилой рабочий. - Оказывается, не так уж нас мало.
Молодой рабочий. Что же нам писать в листовке к плебисциту?
Женщина. Лучше всего одно слово: "НЕТ!"
{* Примечания переведены А. Голембой.}
В основу "Страха и нищеты в Третьей империи" положены свидетельства
очевидцев и сообщения газет. Эти сцены были отпечатаны для издательства
"Малик Ферлаг" в Праге в 1938 г., но не получили распространения ввиду
нападения Гитлера.
Сценическая обработка для Америки была поставлена в Нью-Йорке и
Сан-Франциско под названием "The Private Life of the Master Race" ("Частная
жизнь расы господ"). В нее вошли:
в первой части сцены 2, 3, 4, 13 и 14,
во второй части сцены 8, 9, 6 и 10,
в третьей части сцены 15, 19, 17, 11, 18, 16, 20 и 24.
Центральный элемент декорации составляет обычный бронетранспортер
гитлеровской армии. Он появляется четырежды - в начале, между частями и в
конце. Между отдельными сценами слышен человеческий голос и лязг гусениц.
Этот лязг слышен и в сценах, показывающих гитлеровский террор, который
впоследствии втянет людей в машину войны.
Например:
Первая часть.
Из темноты под варварские звуки военного марша возникает огромный
дорожный столб с надписью: "На Польшу", и рядом - бронетранспортер. В
команде от двенадцати до шестнадцати солдат; они в стальных касках, с
винтовками между колен; лица иссиня-бледные.
Затем - хор:
Наш фюрер...
...железною рукой.
Снова темнеет. Глухое громыхание бронетранспортера слышно еще несколько
секунд. Потом сцена освещается, и видна лестничная клетка. Сверху
свешиваются большие черные буквы: Бреславль, Шустергассе, два. Затем - сцена
вторая.
Затем - голос:
Так предал сосед...
...на нашу боевую колесницу.
ХОР КОМАНДЫ БРОНЕТРАНСПОРТЕРА
Наш фюрер, учредив Порядок Новый
В Германии железною рукой,
Нам повелел с решимостью суровой
И в прочих странах ввесть режим такой.
И понеслись мы, повинуясь старшим,
Как молния, что блещет в вышине,
В сентябрьский день форсированным
маршем
На старый город в польской стороне.
И вскоре прокатились мы над Сеной
В крови. В крови над Волгою-рекой,
Ведь строгий фюрер в нас наш дух
отменный
Вколачивал железною рукой.
Враждебный стан давно объят
_Раздором_,
Он белым флагом машет неспроста,
И перед нашим бронетранспортером
Измена распахнула ворота.
На нивах Фландрии мы душим всходы
И датским бухтам свастику несем:
Уже хрипят строптивые народы
Под гитлеровским бронеколесом.
Нас, немцев, первых осчастливил фюрер,
Теперь он ублажит весь мир окрест:
Он утвердит на мира верхотуре
Порядка Нового крюкастый крест.
Наш транспортер построил Крупп фон Болен
И Тиссен, от усердия багров;
И три банкира тут входили в долю,
И дюжина проворных юнкеров.
На третью зиму (заревел, натужась,
Наш бронетранспортер - ни тпру ни ну!)
Застряли мы - и тут пробрал нас ужас:
Увидим ли родимую страну?
Мы на восток неутомимо перли.
Мерцал на лаврах фюреровых лед...
Впервые нефть зашлась в моторном горле
В чужом краю, зимой, на третий год.
Рабы, мы мир поработить хотели,
Шли, как чумные, всем грозя чумой, -
Теперь мы в смертной ледяной метели,
Нас бьет озноб, и долог путь домой.
ПОСЛЕ 2-й СЦЕНЫ
Так предал сосед соседа,
Так перессорились неприметные люди,
И вражда росла в домах и росла в городских
кварталах,
И мы уверенно вступали в города своего отечества.
И мы поднимали на наш бронетранспортер
Каждого, который не был убит, -
Весь этот народ, всех этих предателей и преданных
Взгромоздили мы на нашу боевую колесницу.
ПОСЛЕ 3-й СЦЕНЫ
На фабриках, и на кухнях, и на бирже труда
Набирали мы команду нашей боевой колесницы.
Бедняга приволакивал нам другого беднягу,
И для них обоих находилось место на нашей
колеснице.
С иудиным поцелуем мы поднимали бедняг
На нашу колесницу;
Дружески похлопывая их по плечу,
Мы зачисляли их в экипаж нашего
бронетранспортера.
ПОСЛЕ 4-й СЦЕНЫ
Раздоры в народе пошли нам на пользу.
Наши пленники дрались еще и в концлагерях.
Словом, они все-таки очутились в нашем
бронетранспортере.
Пленные влезли в наш бронетранспортер,
И стражники влезли в наш бронетранспортер,
Мученики и мучители,
Все поднялись на нашу боевую колесницу.
ПОСЛЕ 13-й СЦЕНЫ
Мы осыпали честного работягу восторгами,
И мы осыпали его угрозами.
Мы ставили в его цехе горшки с цветами
И эсэсовцев у проходной.
Под залпы рукоплесканий и винтовочные залпы
Мы взвалили его на нашу боевую колесницу.
ПЕРЕД 8-й СЦЕНОЙ
Прижимая к себе малых детей,
Стоят матери-бретонки
И, окаменелые, смотрят в небо:
Не появились ли уже в нем гениальные изобретения
наших ученых?
Ибо на нашей боевой колеснице есть и ученые
господа,
Ученики пресловутого Эйнштейна.
Конечно, наш фюрер взял их в ежовые рукавицы
И научил тому, что есть арийская наука.
ПЕРЕД 9-й СЦЕНОЙ
Есть и доктор на нашей боевой колеснице.
Доктор, который определяет,
Кто из жен польских горняков
Может быть направлен в краковские бордели.
И он проделывает это толково и отнюдь
не миндальничая,
Ибо ему памятно, как он утратил собственную жену.
Ведь она была еврейка, и ее услали прочь,
Поскольку представителей расы господ
следует разумно случать,
И сам фюрер, фюрер собственной персоной
определяет,
С кем надлежит совокупляться арийцу.
ПЕРЕД 6-й СЦЕНОЙ
Есть и судьи на нашей колеснице,
Судьи, лихо берущие заложников, выбирающие
сотни жертв,
Обвиненных в том, что они французы,
И изобличенных в любви к своему отечеству.
Ибо наши судьи собаку съели в германском праве
И превосходно знают - чего от них хотят.
ПЕРЕД 10-й СЦЕНОЙ
Есть и педагог на нашей колеснице.
Теперь он капитан в стальной каске.
Он теперь дает уроки
Рыбакам Норвегии и виноделам Шампани.
Ибо некий день ему особенно памятен и доселе.
Дело было семь лет назад, и день этот,
Пожалуй, несколько поблек в памяти, но
не забыт.
День, когда он, еще мальчишка,
В лоне семьи своей
Научился
Ненавидеть шпионов.
И, куда бы мы ни пришли,
Мы науськивали отца на сына
И друга на друга.
И мы бесчинствовали в чужих краях точь-в-точь
так же,
Как мы бесчинствовали в нашей стране.
ПЕРЕД 19-й СЦЕНОЙ
И не будет никакой иной торговли, кроме нашей.
И никто не ведает, как долго он будет с нами.
ПЕРЕД 17-й СЦЕНОЙ
И мы приходим, голодные, как саранча,
И мы пожираем за неделю целые страны,
Потому что мы получали пушки вместо масла,
И в хлеб наш насущный мы с недавних пор
Подмешиваем отруби.
ПЕРЕД 11-й СЦЕНОЙ
И там, куда мы приходим,
Матери больше не чувствуют себя в безопасности,
И дети тоже,
Ибо мы не пощадили
Наших собственных детей.
ПЕРЕД 18-й СЦЕНОЙ
И зерно не залежится в амбаре,
И скотина не застоится в хлеву,
Ибо наш собственный скот
У нас отняли.
ПЕРЕД 16-й СЦЕНОЙ
И мы отнимаем у них сыновей и дочерей,
И мы из милосердия
швыряем им картошку,
И заставляем их кричать "хайль Гитлер",
Как кричат наши собственные матери,
Словно их режут.
ПЕРЕД 20-й СЦЕНОЙ
И нет бога,
Кроме Адольфа Гитлера.
ПЕРЕД 24-й СЦЕНОЙ
И мы поработили чужие народы,
Как мы поработили свой собственный народ.
Переводы пьес сделаны по изданию: Bertolt Brecht, Stucke, Bande I-XII,
Berlin, Auibau-Verlag, 1955-1959.
Статьи и стихи о театре даются в основном по изданию: Bertolt Brecht.
Schriften zum Theater, Berlin u. Frankfurt a/M, Suhrkamp Verlag, 1957.
СТРАХ И НИЩЕТА В ТРЕТЬЕЙ ИМПЕРИИ
(Furent und Elend des III Reiches)
Сцены были написаны в 1934-1938 гг., впервые изданы в 1938 г. в Праге,
но весь тираж издания пропал в связи с немецко-фашистской оккупацией
Чехословакии. В первое издание входило двадцать семь сцен, во все
последующие - двадцать четыре: три сцены - "Выборы", "Новое платье" и "Что
помогает против газа?" - Брехт снял, а сцену "Интернационал" заменил
аналогичной ей по теме сценой "Болотные солдаты". Из снятых автором сцен
наибольший интерес представляла сцена "Что помогает против газа?" - диалог
женщины с братом. Женщина высказывала тревогу по поводу того, что детей в
школах заставляют носить противогазы. "Они все равно не помогают против
газа", - замечает брат. Женщина спрашивает: "Что же тогда помогает? Брат
(вполголоса). В 1917 году я был на Восточном фронте. Те, кто сидел в окопах
против нас, сделали такое, что помогает. Они прогнали свое правительство.
Это было единственное, что помогло, и это было сделано впервые в
истории...". Брехт отказался от этой сиены, видимо, потому, что ее
кульминационный пункт был разжиженным повторением финала сиены
"Работодатели" (см. стр. 266).
На русский язык сцены были переведены в 1941 г. и тогда же вышли
отдельным изданием. В это издание входило лишь четырнадцать сцен. Первый
полный перевод был напечатан в 1956 г. в однотомнике пьес Брехта (изд-во
"Искусство").
"В сценах "Страх и нищета в Третьей империи", - пишет В. Миттенцвай, -
Брехт показал, как фашизм вторгся во все области жизни, как он отравил и
разрушил самые интимные человеческие отношения" (W. Mittenzwei, Bertolt
Brecht, Berlin, 1962, S. 194). В этих двадцати четырех сценах дана панорама
политико-морального состояния всех общественных слоев Третьей империи -
интеллигенции и мелкой буржуазии, рабочего класса и крестьянства и т. д.,
находящихся под гнетом кровавого террора и порождаемого им страха. В рабочих
заметках, озаглавленных "Страх и нищета в Третьей империи", давая как бы
обобщенный вывод из своих сцен, Брехт писал: "Германия, наша родина, стала
народом, состоящим из двух миллионов шпионов и восьмидесяти миллионов
подвергаемых шпионской слежке... То, что отец говорит сыну, он говорит,
чтобы не быть арестованным. Священник листает свою Библию, ища слова,
которые он может произнести, не будучи арестованным. Учитель подыскивает для
какого-то деяния Карла Великого такую причину, которую он может преподать
ученикам без того, чтобы его за это арестовали. Подписывая свидетельство о
смерти, врач выбирает такую причину смерти, чтобы она не привела к его
аресту. Поэт ломает голову над рифмой, за которую его нельзя было бы
арестовать. И крестьянин решает не давать корма своей свинье, чтобы избежать
ареста" (Архив Брехта, 42/45-46).
Сохранились представляющие немалый интерес черновики, предварительные
наброски и ранние редакции некоторых сцен. В сцене "Правосудие" остались,
например, неиспользованными такие заготовки: "Ловко этот еврей устроился.
Лежит себе на своей красивой белой больничной койке, и моя хата с краю,
ничего не знаю".
Показания штурмовиков:
"Должен же простой штурмовик иметь возможность спокойно ходить по
улице! Мы хотели пойти пропустить по кружке пива и сыграть в кегли, а тут
вышел этот еврей и начал всякие гадости выкрикивать. Один из нас хотел было
свести дело к шутке, вот этот (выступает вперед великан), так еврей прямо с
кулаками накинулся на него. Нет, не должно быть такого деспотического
господства евреев на улице" (Архив Брехта, 415/42). Лишь обладая
неисчерпаемым остроумием и щедрой творческой выдумкой Брехта, можно было
себе позволить отказаться от таких превосходных заготовок ради строгости и
сосредоточенности сюжета и лапидарности диалога!
Первое представление состоялось в Париже 21 мая 1938 г. на немецком
языке. Режиссер - Златан Дудов. В ролях: Елена Вайгель, Эрнст Буш, Эрих
Шенланк, Штефи Шпира и другие. Спектакль назывался "99 процентов", в него
входило восемь сцен: "Меловой крест", "Зимняя помощь", "Шпион", "Жена
еврейка", "Два булочника", "Правосудие", "Крестьянин кормит свинью" и
"Работодатели". Постановка была организована парижской секцией Союза
немецких писателей. Весь сбор поступил в пользу Немецкого национального
комитета помощи республиканской Испании. Спектакль имел большой успех не
только чисто театральный, но и политический. Одна из газет антифашистской
эмиграции писала: "Так этот спектакль, на который собрались представители
всех кругов эмиграции, стал антифашистской демонстрацией в духе Народного
фронта. В этом, мы считаем, заключается настоящее и истинное значение
постановки сцен Брехта. Собравшиеся - мы уже давно не видели в Париже такого
сплочения сил самых различных группировок - были едины в своей позиции
против национал-социализма" ("Deutsche Volkszeitung", 1938, 29 мая).
Накануне и во время войны отдельные сцены исполнялись в странах
антифашистской коалиции и в нейтральных государствах. 12 мая 1939 г.
состоялась премьера нескольких сцен в Лондоне. Режиссер - Генрих Фишер, в
ролях - Пауль Демл, Эльсберт Варнхольц и другие. 29 апреля 1944 г.
"Правосудие" было поставлено в Стокгольме, в роли следователя выступал
эмигрант Герман Грайд, бывший актер театра в Дюссельдорфе.
В июне 1945 г. в Нью-Йорке и затем в Сан-Франциско было поставлено
семнадцать сцен под общим названием "Частная жизнь расы господ" (см.
примечания Брехта).
30 января 1948 г. - премьера в Берлине, в "Немецком театре". Режиссер -
Вольфганг Лангхоф, композитор - Борис Блахер. Художник Вернер Цинзер создал
скупое, "намекающее" оформление. Например, дощатая рама на фоне темного
задника обозначала дверь и т. п. В ролях: Эми Бессель - женщина-работница в
"Плебисците" и жена еврейка, Вернер Хинц - ее муж, рабочий в "Меловом
кресте" и учитель в "Шпионе", Герхард Бинерт - штурмовик в "Меловом кресте",
Ангелика Хурвиц - жена в "Шпионе", и другие. Кате Кюль читала стихотворный
пролог и эпиграфы к сценам. В композицию было включено семь сцен.
В 1948 г. - постановка в Дортмунде. Режиссер - Герберт Юнкерс, художник
- Гарри Бройер. Действие разыгрывалось на слегка возвышавшихся подмостках,
расположенных по диагонали сцены, обитой черным. Вдоль подмостков в два ряда
тянулись резные из дерева фигуры штурмовиков, как своего рода немой хор.
8 февраля 1957 г. - премьера в театре Брехта "Берлинский ансамбль".
Композиция включала десять сцен, поставленных молодыми режиссерами,
учениками Брехта Карлом М. Вебером, Лотаром Беллагом, Конрадом Свинарским,
Петером Паличем и Кетой Рюлике. В ролях: Елена Вайгель - жена еврейка и
женщина-работница в "Плебисците", Норберт Кристиан - рабочий в "Меловом
кресте" и прокурор в "Правосудии", Мартин Флерхингер - следователь в
"Правосудии" и учитель в "Шпионе", Ганс Хамахер - офицер-эсэсовец в
"Народном единстве" и судья в "Правосудии", Агнес Крауз - жена в
"Работодателях", и другие. Стихотворный пролог и эпиграфы к сценам звучали в
зале через динамики в звукозаписи в исполнении Елены Вайгель. Одновременно
на экран проецировались фотодокументы фашистских зверств, показывались
кинокадры из документальных фильмов - заседание фашистского Народного
трибунала, речь Гитлера к молодежи и т. п. Спектакль "Берлинского ансамбля"
имел колоссальный успех, с 1957 г. по сей день он не сходит со сцены.
В ГДР с 1948 г. сцены были поставлены в пятидесяти двух
профессиональных и самодеятельных театрах. В Дрездене, на Камерной сцене
Государственного театра, спектакль идет с 1958 г. по настоящее время. В
Галле, где премьера состоялась в июне 1958 г., в постановку были
вмонтированы сонги - текст Рольфа Тиме, музыка Эриха Клей. В Гальберштадте,
в спектакле Народного театра (премьера 3 ноября 1957), художник Эдмунд
Брандин применил оригинальное "фрагментарное" оформление - стена, оклеенная
обоями, или окно, подвешенное на шнурах, обозначают комнату, рисунок стены,
отделанной кафелем, указывает, что действие происходит на кухне, и т. д.
В ФРГ сцены ставились в Бремене, Франкфурте-на-Майне, Мюнхене,
Брауншвейге и др. Дюссельдорфский Камерный театр в апреле 1961 г,
гастролировал со спектаклем "Страх и нищета" в Голландии.
Из многочисленных зарубежных постановок следует упомянуть следующие:
Лион, театр Комедии - 7 апреля 1956 г., режиссер - Роже Планшон; Лилль,
Народный театр Фландрии - 5 мая 1956 г., режиссер - Сирил Робише; Париж,
театр "Пти Мариньи" - январь 1957 г., режиссер - Жак Руссильон; Познань,
театр Сатиры - ноябрь 1959 г., режиссер - Ян Пери, в ролях: Мария
Радловская, Мариан Погащ и другие; Варшава, Государственный еврейский театр
- 16 июля 1960 г., режиссер - Конрад Свинарский, в ролях: Мариан Мельман,
Самуил Реттиг, Рут и Ида Каминские и другие; Мехико, театр "Ориентасион" -
11 марта 1960 г., режиссер - Гектор Мендоса, в ролях: Антонио Меделин, Марио
Охеа и другие; Лондон, Центральная школа речи и драмы - 18 декабря 1960 г.,
режиссер - Джон Блетчли.
Стр. 171. Кровавые флаги повсюду, на каждом - рабочему люду крюкастый
крест. - Фашистский флаг представлял собой красное поле, белый круг и в нем
черная свастика.
...во имя "его борьбы". - "Моя борьба" - название книги Гитлера.
Стр. 175. Рейникендорф, Руммельсбург, Лихтерфельд - районы Берлина.
Стр. 183. Доктор Лей отправился... пропагандировать "Силу через
радость"... - Лей - главарь фашистской псевдопрофсоюзной организации
"Рабочий фронт". "Сила через радость" - название фашистской "культурной"
организации, насаждавшей среди трудящихся идеи "народного единства".
Стр. 184. ..народное единство, включая самого Тиссена? - Тиссен - один
из крупнейших немецких капиталистов. ...масла не будет, не угодно ли пушку?
- Насмешливый намек на пропагандистский лозунг, сформулированный Герингом:
"пушки вместо масла".
Стр. 185. ...загляну тут в одно место на Александерплаце. - На
Александерплаце в Берлине находилось здание полицайпрезидиума.
Стр. 192. ...крейсер вы принесли Гитлеру в приданое. - Незадолго до
прихода Гитлера к власти социал-демократы голосовали в рейхстаге за
ассигнование средств на строительство "броненосца А".
Сто. 226. У них в Коричневом доме... - Коричневый дом - резиденция
Гитлера и помещение Центрального правления нацистской партии в Мюнхене.
Стр. 231. ...в тридцать втором еще читали "Форвертс", а в мае тридцать
третьего вывесили черно-бело-красный флаг! - "Форвертс" - центральный орган
социал-демократической партии. Черный, белый и красный - цвета германского
республиканского флага.
Стр. 251. Старый боец - так именовались члены нацисткой партии,
вступившие в нее еще до прихода Гитлера к власти.
Стр. 261 В казармах стало известно о бомбежке Альмерии - Бомбежка
Альмерии, испанского портового города, была актом открытого вооруженного
вмешательства фашистской Германии в гражданскую войну в Испании.
И. Фрадкин
Популярность: 4, Last-modified: Fri, 30 Apr 2004 15:29:40 GmT