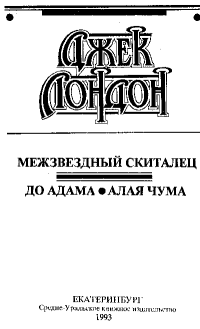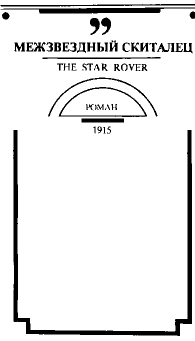---------------------------------------------------------------
Роман. 1915 г
ПСС: В 24 т.-- М.; Л.: Земля и фабрика, 1928-1929.-- Т.12.
OCR: Борис Мих
---------------------------------------------------------------

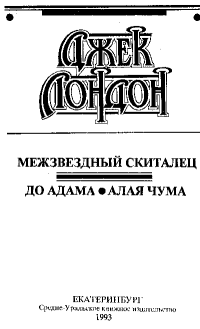
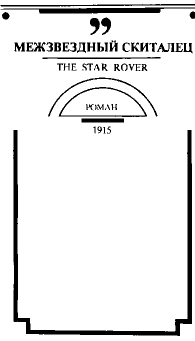 С раннего детства во мне жило сознание бытия иных мест и времен. Я
чувствовал присутствие в себе иного "я". И верьте мне, мой грядущий
читатель, это бывало и с вами! Оглянитесь на свое детство -- и ощущение
инобытия, о котором я говорю, вспомнится вам как опыт вашего детства. Вы
тогда еще не определились, не выкристаллизовались, вы были пластичны, вы
были -- душа в движении, сознание и тождество в процессе формирования, --
да, формирования и... забывания.
Вы многое забыли, читатель; но все же, читая эти строки, вы смутно
припомните туманные перспективы иных времен и мест, в которые заглядывал ваш
детский глаз. Теперь они вам кажутся грезами, снами. Но если это были сны,
привидевшиеся вам в ту пору, -- откуда, в таком случае, их вещественность?
Наши грезы уродливо складываются из вещей, знакомых нам. Материал самых
бесспорных наших снов -- это материал нашего опыта. Ребенком, совсем
крохотным ребенком, вы в грезах падали с громадных высот; вам снилось, что
вы летаете по воздуху, вас пугали ползающие пауки и слизистые многоножки, вы
слышали иные голоса, видели иные лица, ныне кошмарно знакомые вам, и
любовались восходами и закатами солнц иных, чем известные вам ныне.
Так вот, эти детские грезы принадлежат иному миру, иной жизни,
относятся к вещам, которых вы никогда не видели в нынешнем вашем мире и в
нынешней вашей жизни. Но где же? В другой жизни? В других мирах?
Когда вы прочтете все, что я здесь описываю, вы, может быть, получите
ответ на недоуменные вопросы, которые я перед вами поставил и которые вы
сами ставили себе еще до того, как читали эту книгу.
Вордсворт знал эту тайну. Он был не ясновидящий, не пророк, а самый
обыкновенный человек, как вы, как всякий другой. То, что знал он, знаете вы,
знает всякий. Но он необычайно талантливо выразил это в своей фразе,
начинающейся словами: "Не в полной наготе, не в полноте забвенья..."
Поистине тени тюрьмы окружают нас, новорожденных, и слишком скоро мы
забываем! И все же, едва родившись, мы вспоминали иные времена и иные места.
Беспомощными младенцами, на руках старших, или ползая на четвереньках по
полу, мы вновь переживали во сне свои воздушные полеты. Да, мы познавали
муки и пытку кошмарного страха перед чем-то смутным, но чудовищным. Мы,
новорожденные младенцы без опыта, рождались со страхом, с воспоминанием
страха, а в о с п о м и н а н и е е с т ь о п ы т.
Что касается меня, то я, еще не начав говорить, в столь нежном
возрасте, что потребность пищи и сна я мог выражать только звуками, -- уже в
ту пору я знал, что я был мечтателем, скитальцем среди звезд. Да, я, чьи
уста не произносили слова "король", знал, что некогда я был сыном короля.
Мало того -- я помнил, что некогда я был рабом и сыном раба и носил железный
ошейник.
Это не все. Когда мне было три, и четыре, и пять лет, "я" не был еще
"я". Я еще только с т а н о в и л с я; я был расплавленный дух, еще не
застывший и не отвердевший в форме нынешнего моего тела, нынешнего моего
времени и места. В этот период во мне бродило, шевелилось все, чем я был в
десятках тысяч прежних существований, это все мутило мое расплавленное "я",
стремившееся воплотиться во м н е и стать м н о ю.
Глупо это все, не правда ли? Но вспомните, читатель, -- которого
надеюсь увлечь за собою в скитания по безднам времени и пространства, --
сообразите, читатель, прошу вас, что я много думал об этих вещах, что в
кровавые ночи и в холодном поту мрака, длившегося долгими годами, я был один
на один со своими многоразличными "я" и мог совещаться с ними и созерцать
их. Я пережил ад всех существований, чтобы поведать вам тайны, которые вы
разделите со мной, склонясь в час досуга над моей книгой.
Итак, я повторяю: в три, и в четыре, и в пять лет "я" не был еще "я"! Я
только с т а н о в и л с я, з а с т ы в а л в форме моего тела, и все
могучее, неразрушимое прошлое бродило в смеси моего "я", определяя, какую
форму это "я" примет. Это не мой голос, полный страха, кричал по ночам о
вещах, которых я, несомненно, не знал и не мог знать.
Также и мой детский гнев, мои привязанности, мой смех. Иные голоса
прорывались сквозь мой голос, -- голоса людей прошлых веков, голоса туманных
полчищ прародителей. Мой капризный плач смешивался с ревом зверей более
древних, чем горы, и истерические вопли моего детства, когда я багровел от
бешеного гнева, были настроены в лад бессмысленным, глупым крикам зверей,
живших раньше Адама, иных биологических эпох.
Я раскрыл свою тайну. Багровый гнев! Он погубил меня в этой нынешней
моей жизни. По его милости меня через несколько быстролетных недель поведут
из камеры на высокое место с шатким помостом, увенчанное очень прочной
веревкой; здесь меня повесят за шею и будут дожидаться моего издыхания.
Багровый гнев всегда губил меня во всех моих жизнях; ибо багровый гнев --
мое злосчастное, катастрофическое наследие от эпохи комков живой слизи, --
эпохи, предначальной миру.
Но пора мне отрекомендоваться. Я не идиот и не помешанный. Вы должны
это знать, иначе вы не поверите тому, что я вам расскажу. Меня зовут Дэррель
Стэндинг. Кое-кто из тех, кто прочтет эти строки, тотчас же вспомнит меня.
Но большинству читателей -- лицам, меня не знающим, -- я должен
представиться.
Восемь лет назад я был профессором агрономии в сельскохозяйственном
колледже Калифорнийского университета. Восемь лет назад сонный
университетский город Берклей был взволнован убийством профессора Гаскелля в
одной из лабораторий горнозаводского отделения. Убийцей был Дэррель
Стэндинг.
Я -- Дэррель Стэндинг. Меня поймали на месте преступления. Я не стану
обсуждать теперь, кто был прав и кто виноват в деле профессора Гаскелля. Это
было чисто личное дело. Главная суть в том, что в припадке ярости, одержимый
катастрофическим багровым гневом, который был моим проклятием во все века, я
убил своего товарищапрофессора. Протокол судебного следствия показал, что я
убил; и я, не колеблясь, признаю правильность судебного протокола.
Нет, меня повесят не за это убийство. Меня приговорили к пожизненному
заключению. В ту пору мне было тридцать шесть лет, теперь сорок четыре. Эти
восемь лет я провел в государственной Калифорнийской тюрьме СанКвэнтина.
Пять лет из этих восьми я провел в темноте -- это называется одиночным
заключением. Люди, которым приходилось переживать одиночное заключение,
называют его погребением заживо. Но за эти пять лет пребывания в могиле я
успел достигнуть свободы, знакомой лишь очень немногим людям. Самый одинокий
из узников, я победил не только мир -- я победил и время. Те, кто замуровали
меня на несколько лет, дали мне, сами того не зная, простор столетий.
Поистине благодаря Эду Моррелю я испытал пять лет межзвездных скитаний.
Впрочем, Эд Моррель -- это уже из другой области. Я вам расскажу о нем
после. Мне так много нужно рассказать вам, что я, право, не знаю, с чего
начать!
Итак, начнем. Я родился в штате Миннесота. Мать мою -- дочь
эмигрировавшего в Америку шведа -- звали Гильда Тоннесон. Отец мой, Чанси
Стэндинг, принадлежал к старинной американской фамилии. Он вел свою
родословную от Альфреда Стэндинга, по письменному контракту закабалившегося
в слуги или, если вам угодно, в рабы и перевезенного из Англии на плантации
Виргинии в те дни, когда молодой Вашингтон работал землемером в пустынях
Пенсильвании.
Сын Альфреда Стэндинга сражался в войну Революции; внук -- в войну 1812
года. С тех пор не случалось войны, в которой Стэндинги не принимали бы
участия. Я, последний из Стэндингов, которому скоро предстоит умереть, не
оставив потомков, сражался простым солдатом на Филиппинах в последней войне
Америки; для этого я отказался в самом начале карьеры от профессорской
кафедры в университете Небраски. Подумайте! Когда я уходил, меня прочили в
деканы сельскохозяйственного отделения этого университета, -- меня,
мечтателя, сангвинического авантюриста, бродягу, Каина столетий,
воинственного жреца отдаленных времен, мечтающего при луне, как поэт забытых
веков, доныне не занесенный в историю человека, писаную человеческой рукой.
И вот я сижу в государственной тюрьме Фольсома, в Коридоре Убийц, и
ожидаю дня, назначенного государственной машиной, -- дня, в который слуги
государства уведут меня туда, где, по их твердому убеждению, царит мрак, --
мрак, которого они страшатся, -- мрак, который рождает в них трусливые и
суеверные фантазии, который гонит этих слюнявых и хнычущих людишек к алтарям
божков, созданных их страхом и ими очеловеченных.
Нет, не быть мне никогда деканом агрономического отделения! А ведь я
знал агрономию. Это моя специальность. Я родился для земледелия,
воспитывался на сельском хозяйстве, обучался сельскому хозяйству и изучил
сельское хозяйство. В нем я был гениален. Я на глаз берусь определить, какая
корова дает самое жирное молоко, -- и пусть специальным прибором проверяют
меня! Довольно мне взглянуть не то что на землю, а хотя бы на пейзаж -- и я
перечислю вам все достоинства и недостатки почвы. Мне не нужна лакмусовая
бумажка, чтобы определить, щелочна или кислотна данная почва. Повторяю:
сельское хозяйство, в высшем научном значении слова, было моим призванием и
остается моим призванием; в нем я гениален. А вот государство, включающее в
себя всех граждан государства, полагает, что оно может при помощи веревки,
затянутой вокруг моей шеи, и толчка, выбивающего табуретку из-под ног,
загнать в последнюю тьму все эти мои знания, всю ту мудрость, которая
накоплялась во мне тысячелетиями и была зрелой еще до того, как поля Трои
покрылись стадами кочующих пастухов.
Зерно? Кто же знает зерно, как не я? Познакомьтесь с моими
показательными опытами в Уистаре, при помощи которых я повысил ценность
годового урожая зерна в каждом графстве Айовы на полмиллиона долларов. Это
исторический факт. Многие фермеры, разъезжающие сейчас в собственных
автомобилях, знают, кто дал им возможность кататься на автомобиле.
Пышногрудые девушки и яснолицые юноши, склонившиеся над университетскими
учебниками, не подозревают, что это я, моими прекрасными опытами в Уистаре,
дал им возможность получать высшее образование.
А управление фермой? Я знаю вред лишних движений, не изучая
кинематографических снимков; знаю, годится ли данная земля для обработки,
знаю стоимость стройки и стоимость рабочих рук. Познакомьтесь с моим
руководством и с моими таблицами по этому вопросу. Без всякого хвастовства
скажу, что в этот самый момент сотня тысяч фермеров сидит и морщит лоб над
развернутыми страницами этого учебника, перед тем как выколотить последнюю
трубку и лечь спать. Но мои знания были настолько выше моих таблиц, что мне
достаточно было взглянуть на человека, чтобы определить его наклонности, его
координации и коэффициент его лишних движений.
Я кончаю первую главу моего повествования. Уже девять часов, а в
Коридоре Убийц это значит, что надо тушить огонь. Я уже слышу глухое
шлепанье резиновых подошв надзирателя, спешащего накрыть меня за горящей
керосиновой лампой и изругать -- словно бранью можно обидеть осужденного на
смерть!.
Итак, я -- Дэррель Стэндинг. Скоро меня выведут из тюрьмы и повесят.
Пока что я скажу свое слово и буду писать на этих страницах об иных временах
и об иных местах.
После приговора меня отправили доживать жизнь в Сан-Квэнтинскую тюрьму.
Я оказался "неисправимым". А "неисправимый" -- это ужасный человек, по
крайней мере такова характеристика "неисправимых" в тюремной психологии. Я
стал "неисправимым" потому, что ненавидел лишние движения. Тюрьма, как и все
тюрьмы, была сплошной провокацией лишних движений. Меня приставили к
прядению джута. Преступная бесцельная растрата сил возмущала меня. Да и как
могло быть иначе? Борьба с нецелесообразными движениями была ведь моей
специальностью. До изобретения пара или паровых станков, три тысячи лет
назад, я гнил в тюрьме Древнего Вавилона; и, поверьте мне, я говорю правду,
утверждая, что в те древние времена мы, узники, гораздо продуктивнее
работали на ручных станках, чем работают арестанты на паровых станках
Сан-Квэнтина.
Бессмысленный труд стал мне нестерпим. Я взбунтовался. Я попробовал
было показать надзирателям десятокдругой более продуктивных приемов. На меня
донесли. Меня посадили в карцер и лишили света и пищи. Я вышел и опять
попробовал работать в хаотической бессмыслице станков. Опять взбунтовался,
опять -- карцер и вдобавок смирительная рубашка. Меня распинали, связывали и
тайком поколачивали грубые надзиратели, у которых ума хватало только на то,
чтобы чувствовать, что я не похож на них и не так глуп, как они.
Два года длилось это бессмысленное преследование. Тяжко и страшно
человеку быть связанным и отданным на растерзание крысам. Грубые сторожа
были этими крысами; они грызли мою душу, выгрызали тончайшие волокна моего
сознания. А я, в моей прежней жизни отважнейший боец, в этой нынешней жизни
совсем не был бойцом. Я был земледельцем-агрономом, кабинетным профессором,
рабом лаборатории, интересующимся только почвой и повышением ее
производительности.
Я дрался на Филиппинах потому, что у Стэндингов была традиция драться.
У меня не было дарований воина. Как нелепо это введение разрывных инородных
тел в тела маленьких черных людей. Смешно было видеть, как наука
проституирует мощь своих достижений и ум своих изобретателей в целях
насильственного введения инородных тел в организмы черных людей.
Как я уже говорил, я пошел на войну, только повинуясь традиции
Стэндингов, и убедился, что у меня нет воинских дарований. К такому
убеждению пришли и мои начальники, ибо они сделали меня писарем
квартирмейстера, и в этом чине писаря, за конторкой, я и проделал всю
испано-американскую войну.
И не как боец, а как мыслитель возмущался я бессмысленной тратой усилий
на тюремных станках. За это и стали меня преследовать надзиратели, и я
превратился в "неисправимого". Мозг мой работал, и за его работу я был
наказан. Когда моя "неисправимость" стала настолько явной, что смотритель
Этертон нашел нужным постращать меня в своем кабинете, я сказал ему:
-- Нелепо думать, дорогой смотритель, будто эти крысы-надзиратели в
состоянии вытравить из моей головы вещи, которые так ясно и определенно
рисуются в моем мозгу! Вся организация этой тюрьмы бессмысленна. Вы --
политический деятель. Вы умеете плести политические сети для улавливания
болтунов в кабаках Сан-Франциско, но вы не умеете прясть джут. Ваши станки
отстали по крайней мере на пятьдесят лет...
Но стоит ли продолжать эту тираду? Я доказал ему, как он был глуп,
после чего он решил, что я безнадежно неисправим.
"Дайте псу худую кличку..." Вы знаете эту поговорку! Ну, что ж!
Смотритель Этертон дал последнюю санкцию моей дурной репутации. Я стал
предметом общих преследований. Все грехи каторжников сваливали на меня, и за
них мне приходилось расплачиваться заключением в карцер на хлеб и воду, или
же меня подвешивали за большие пальцы рук и держали в таком положении на
цыпочках целые часы; каждый такой час казался мне длиннее всей жизни,
прожитой до этого.
Умные люди бывают жестоки; глупые люди -- чудовищно жестоки. Сторожа и
другие мои начальники, начиная со смотрителя, были тупые чудовища.
Послушайте, что они со мной сделали! Был в тюрьме поэт-каторжник с маленьким
подбородком и широким лбом, -- поэт --дегенерат. Лгун, трус, доносчик, шпик.
Изящные слова, не правда ли, в устах профессора агрономии? Но и профессор
агрономии может научиться дурным словам, если запереть его в тюрьму на всю
жизнь.
Этого поэта -- мазурика звали Сесиль Винвуд. Его уже не раз присуждали
к каторге, но так как он был предатель и доносчик, то в последний раз его
приговорили всего лишь к семи годам. "Хорошее поведение" могло значительно
сократить и этот срок. Мой же срок заключения был -- до самой смерти! И
этот-то жалкий дегенерат, чтобы сократить свое заключение на несколько лет,
вздумал добавить целую вечность к моему пожизненному сроку!
Я расскажу вам, как это случилось. Я сам узнал правду лишь через
много-много лет. Этот Сесиль Винвуд, чтобы выслужиться перед начальником
тюремного двора, смотрителем, директорами тюрьмы, комитетом помилований и
губернатором Калифорнии, сочинил побег из тюрьмы. Теперь заметьте себе:
во-первых, прочие каторжники так ненавидели Сесиля Винвуда, что не позволили
бы ему даже поставить четвертушки табаку на тараканьих гонках (тараканьи
гонки -- любимое развлечение каторжников); во-вторых, я был псом с худой
кличкой; в-третьих, для своих махинаций Сесиль Винвуд нуждался в псах с
худыми кличками -- в пожизненно заключенных, в отчаянных, в "неисправимых".
Но пожизненно заключенные (или "вечники") тоже презирали Сесиля
Винвуда, и, когда он подъехал к ним с планом общего побега, его высмеяли и
прогнали с бранью, как того заслуживает провокатор. И все же он их одурачил,
этих сорок хитрейших молодцов. Он не оставлял их в покое. Он хвастался, что
пользуется влиянием в тюрьме, как "доверенный" конторы смотрителя, а также
благодаря тому, что работает в тюремной аптеке.
Был среди каторжников Долговязый Билль Ходж, горец, осужденный за
грабеж в поезде и целые годы живший одной мечтой: как бы убежать и убить
своего товарища по ограблению, который выдал его. Этот-то Долговязый Билль
Ходж и сказал Винвуду: "Докажи мне!"
Сесиль Винвуд принял вызов. Он утверждал, что опоит сторожа в ночь
побега.
-- Рассказывай! -- говорил Долговязый Билль Ходж. -- Нам нужно дело.
Опои кого-нибудь из сторожей в э т у же ночь. Вот, например, Барнума, -- он
дрянь-человек. Вчера он исколотил помешанного Чинка в Аллее Беггауза, да еще
не в свое дежурство. В эту ночь он дежурит. Усыпи его, и пусть его выгонят.
Докажи, что ты это можешь, и тогда пойдет разговор о деле!
Все это Билль Ходж рассказывал мне в карцере спустя много времени.
Сесиль Винвуд противился немедленной пробе сил. По его словам, нужно было
время, чтобы выкрасть снотворное средство из аптеки. Ему дали срок, и через
неделю он объявил, что все готово. Сорок дюжих вечников ждали, как это
сторож Барнум заснет на своем дежурстве. И Барнум заснул! Его застали и
уволили.
Разумеется, это убедило вечников. Но оставалось еще убедить начальника
тюремного двора. Ему Сесиль Винвуд каждый день докладывал, как
подготовляется побег, который целиком был им выдуман. Начальник тюремного
двора также потребовал доказательств. Винвуд представил их -- и я только
через несколько лет узнал все подробности этой махинации: так медленно
раскрываются тайны тюремных интриг.
Винвуд донес, что сорок человек, готовящихся к побегу, к которым он
вкрался в доверие, забрали такую силу в тюрьме, что собираются получить
контрабандой револьверы при помощи подкупленного ими сторожа.
-- Докажи мне это! -- потребовал, вероятно, начальник тюремного двора.
И мазурик-поэт доказал!
В пекарне работали по ночам. Один из каторжников, пекарь, был в первой
ночной смене. Он был сыщиком начальника двора, и Винвуд знал это.
-- Нынче ночью, -- объявил он начальнику, -- Сэммерфорс пронесет дюжину
револьверов калибра 44, В следующее дежурство он пронесет патроны. Нынче же
он передаст револьверы в пекарне мне. Там у вас есть хороший сыщик -- он
сделает вам доклад завтра.
Сэммерфорс представлял собой любопытную фигуру буколического сторожа из
графства Гумбольдт. Это был простодушный, ласковый олух, не упускавший
случая честно заработать доллар контрабандной доставкой табаку
заключенным... В этот вечер, вернувшись из поездки в Сан-Франциско, он
принес с собой пятнадцать фунтов легкого табаку для папирос. Это было уже не
в первый раз, и всякий раз он передавал табак Сесилю Винвуду. Так и в эту
ночь, ничего не подозревая, он передал Винвуду в пекарне табак -- большую
пачку самого невинного табаку, завернутого в бумагу. Шпион-пекарь из
укромного места видел, как Винвуду передали пакет, о чем и доложил
начальнику тюремного двора.
Тем временем не в меру ретивое воображение поэтадоносчика усиленно
работало. Он задумал штуку, которая принесла мне пять лет одиночного
заключения и привела меня в эту проклятую камеру, где я сейчас пишу. И все
эти пять лет я ничего не подозревал. Я ничего не знал даже о побеге, к
которому он подговорил сорок вечников. Я не знал ничего, абсолютно ничего!
Не больше меня знали и другие. Вечники не знали, как он их обошел. Начальник
тюремного двора не знал, что и его обманули. Неповинней всех был Сэммерфорс.
В худшем случае совесть могла упрекнуть его в том, что он пронес
контрабандой немного безобидного табаку.
Но вернемся к глупой, безумной и вместе с тем мелодраматической
махинации Сесиля Винвуда. Когда он утром встретил начальника двора, вид у
него был торжествующий. Воображение его расскакалось без удержу.
-- Да, груз пронесли, совершенно так, как ты сказал, -- заметил
начальник двора.
-- Его хватило бы, чтобы взорвать на воздух половину тюрьмы, --
подхватил Винвуд.
-- Хватило чего? -- спросил начальник.
-- Динамита и фитилей, -- продолжал глупец. -- Тридцать пять фунтов.
Ваш сыщик видел, как Сэммерфорс передал его мне.
Должно быть, начальник двора чуть не умер на месте. Я, право,
сочувствую ему в этом случае -- подумайте только, тридцать пять фунтов
динамита в тюрьме!
Рассказывают, что капитан Джэми -- таково было прозвище начальника
тюремного двора -- так и сел на месте и схватился руками за голову.
-- Где же он теперь? -- завопил он. -- Давай его сюда! Сию минуту давай
его сюда!
Тут только Сесиль Винвуд заметил свой промах.
-- Я зарыл его, -- солгал он. Он должен был солгать, потому что табак,
упакованный в мелкие пачки, давно уже разошелся по рукам заключенных.
-- Ну ладно, -- проговорил капитан Джэми, -- веди меня сейчас к этому
месту!
Но, конечно, вести было некуда. Никаких взрывчатых веществ в тюрьме не
имелось. Они существовали только в воображении негодяя Винвуда.
В большой тюрьме, как Сан-Квэнтинская, всегда найдется местечко, куда
можно спрятать вещи. Ведя за собой капитана Джэми, Сесиль Винвуд поневоле
должен был быстро соображать.
Как свидетельствовал перед комитетом директоров капитан Джэми (а также
и Винвуд), на пути к тайнику Винвуд рассказал, что я вместе с ним зарывал
динамит.
И я, только что пробывший пять дней в карцере и восемьдесят часов в
смирительной рубашке, -- я, полное бессилие которого было известно даже
тупым сторожам, -- я, которому дали день на отдых от нечеловечески страшного
наказания, -- я был назван соучастником в сокрытии несуществующих тридцати
пяти фунтов сильновзрывчатого вещества.
Винвуд повел капитана Джэми к мнимому тайнику. Разумеется, они не нашли
никакого динамита.
-- Боже мой! -- продолжал лгать Винвуд. -- Стэндинг надул меня. Он
откопал динамит и спрятал его в другом месте.
Начальник двора употребил более выразительные слова, чем "боже мой".
В ту же секунду, не теряя хладнокровия, он повел Винвуда в свой частный
кабинет, запер дверь и страшно избил его -- как это впоследствии выяснилось
перед комитетом директоров. Получив трепку, Винвуд, однако, продолжал
клясться, что он сказал правду.
Что оставалось делать капитану Джэми? Он убежден был, что тридцать пять
фунтов динамита спрятаны в тюрьме и что сорок отчаянных вечников
приготовились совершить побег. Он вызвал на очную ставку Сэммерфорса;
Сэммерфорс твердил, что в пакете был табак, но Винвуд клялся, что это был
динамит, и ему вполне поверили.
В этой стадии дела я и вступил в него или, вернее, выступил, так как
меня лишили солнечных лучей и дневного света и снова отвели в карцер, в
одиночное заключение, где я в темноте гнил целых пять лет.
Я совершенно был сбит с толку. Меня только что выпустили из карцера; я
лежал, изнывая от боли, в своей прежней камере, как вдруг меня схватили и
снова бросили в карцер.
Теперь, -- говорил Винвуд капитану Джэми, -- динамит в безопасном
месте, хотя мы и не знаем, где он. Стэндинг -- единственный человек, знающий
это, а из карцера он никому не сможет сообщить, где динамит. Каторжники
готовы к побегу. Мы можем накрыть их на месте преступления. От меня зависит
назначить момент. Я им назначу два часа ночи и скажу, что, когда стража
уснет, я отопру камеры и раздам им револьверы. Если в два часа ночи вы не
застанете сорок человек, которых я назову поименно, совершенно одетыми и
бодрствующими, тогда, капитан, можете запереть меня в одиночную камеру на
весь остаток моего срока! А когда мы запрем в карцер Стэндинга и тех сорок
молодцов, у нас довольно будет времени разыскать динамит.
-- Даже если бы для этого пришлось не оставить камня на камне, --
храбро ответил капитан Джэми.
Это происходило шесть лет назад. За все это время они не нашли
несуществующего динамита, хотя тысячу раз перевернули тюрьму вверх дном,
разыскивая его. Тем не менее до последнего момента своей службы смотритель
Этертон верил в существование динамита. Капитан Джэми, все еще состоящий
начальником тюремного двора, и сейчас убежден, что в тюрьме спрятан динамит.
Не далее как вчера он приехал из Сан-Квэнтина в Фольсом, чтобы сделать еще
одну попытку узнать место, где спрятан динамит. Я знаю, что он свободно
вздохнет, когда меня повесят.
Весь этот день я пролежал в карцере, ломая себе голову над причиной
обрушившейся на меня новой и необъяснимой кары. Я додумался только до
одного: какойнибудь шпик, подмазываясь к сторожам, донес, что я нарушаю
тюремные правила.
В то время как капитан Джэми волновался, дожидаясь ночи, Винвуд передал
сорока заговорщикам, чтобы они готовились к побегу. В два часа пополуночи
вся тюремная стража была на ногах, не исключая дневной смены, которой
полагалось спать в это время. Когда пробило два часа, они бросились в
камеры, занятые сорока заговорщиками. Все камеры отворились в один и тот же
момент, и все лица, названные Винвудом, оказались на ногах, совершенно
одетые; они прятались за дверями. Разумеется, это подтвердило в глазах
капитана Джэми все измышления Винвуда. Сорок вечников были пойманы врасплох
на приготовлениях к побегу. Что из того, что они все впоследствии
единогласно утверждали, что побег был задуман Винвудом? Комитет тюремных
директоров, от первого до последнего человека, был убежден, что эти сорок
каторжников лгут, выгораживая себя. Комитет помилований был того же мнения,
ибо не прошло и трех месяцев, как Сесиль Винвуд, поэт и мазурик,
презреннейший из людей, получил полное помилование и был освобожден из
тюрьмы.
Тюрьма -- превосходная школа философии. Ни один обитатель ее не может
прожить в ней годы без того, чтобы не отрешиться от самых дорогих своих
иллюзий, без того, чтобы не лопнули самые радужные его метафизические
пузыри. Нас учат, что правда светлее солнца и что преступление всегда
раскрывается. Но вот вам доказательство, что не всегда так бывает! Начальник
тюремного двора, смотритель Этертон, комитет тюремных директоров -- все они
до единого и сейчас верят в существование динамита, который никогда не
существовал, а был только изобретен лживым мозгом дегенерата сыщика и поэта
Сесиля Винвуда. И Сесиль Винвуд жив, а я, невиннейший из всех привлеченных к
этому делу людей, через несколько недель пойду на виселицу.
Теперь я опишу вам, как сорок вечников ворвались в тюремную тишину. Я
спал, когда наружная дверь коридора карцера с треском распахнулась и
разбудила меня. "Какой-нибудь горемыка", -- была моя первая мысль; а
следующей моей мыслью было, что он, наверное, получил трепку, -- до меня
доносилось шарканье ног, глухие звуки ударов по телу, внезапные крики боли,
мерзкие ругательства и шум влекомого тела.
Двери карцеров раскрывались одна за другой, и тела одного за другим
бросались или втаскивались туда сторожами. Новые и новые группы сторожей
приходили с избитыми каторжниками, которых они продолжали бить, и дверь за
дверью распахивались, чтобы поглотить окровавленные туши людей, виновных в
том, что они стосковались по свободе.
Да, когда теперь оглядываешься назад, то видишь: нужно быть большим
философом, чтобы выносить все эти зверства год за годом. Я -- такой философ.
Восемь лет терпел я эту пытку, пока наконец, отчаявшись избавиться от меня
всеми другими способами, они не призвали государственную машину, чтобы
накинуть мне на шею веревку и остановить мое дыхание тяжестью моего тела. О,
я знаю, эксперты дают ученые заключения, что при повешении, когда вышибают
табуретку из-под ног, ломается позвоночник жертвы. А жертвы никогда не
возвращаются, чтобы опровергнуть это. Но нам, пережившим тюрьму, известны
замалчиваемые тюремщиками случаи, когда шея жертвы оставалась целой.
Забавная вещь -- повешение! Я сам не видел, как вешают, но очевидцы
рассказывали мне подробности доброй дюжины таких казней, и я знаю, что будет
со мной.
Поставив меня на табуретку, сковав меня по рукам и ногам, накинув мне
на шею петлю, а на голову черный чехол, они столкнут меня так, что тело мое
своим весом натянет веревку. Затем врачи обступят меня и один за другим
будут становиться на табуретку, обхватывать меня руками, чтобы я не качался,
как маятник, и прижиматься ухом к моей груди, считая биения сердца. Иногда
проходит двадцать минут с того момента, как уберут табуретку, и до момента,
как перестанет биться сердце. О, поверьте, они по всем правилам науки
стараются убедиться, что человек умер, после того как они повесили его на
веревке.
Я уклонюсь немного в сторону от моего повествования, чтобы задать
один-два вопроса современному обществу. Я имею право отклоняться и ставить
вопросы, ибо в скором времени меня выведут из тюрьмы и сделают со мной все
описанное выше. Если позвоночник жертвы ломается от упомянутого хитроумного
приспособления и хитроумного расчета веса тела и длины его, то зачем же они
в таком случае связывают жертве руки? Общество в целом не в состоянии
ответить на этот вопрос. Но я знаю почему. И это знает любитель, когда-либо
участвовавший в линчевании и видевший, как жертва взмахивает руками,
хватается за веревку и ослабляет петлю вокруг шеи, силясь перевести дух.
Еще один вопрос задам я нарядному члену общества, душа которого никогда
не блуждала в кровавом аду, как моя: зачем они напяливают черный чехол на
лицо жертвы перед тем, как выбить из-под ее ног табуретку?
Не забывайте, что в скором времени они набросят этот черный чехол на
мою голову, -- поэтому я вправе задавать вопросы. Не потому ли, о нарядный
гражданин, твои вешатели так поступают, что боятся увидеть на лице ужас,
который они творят над нами по твоему желанию? Не забывайте, что я задаю
этот вопрос не в двенадцатом веке по Рождестве Христове, и не во времена
Христа, и не в двенадцатом веке до Рождества. Я, которого повесят в тысяча
девятьсот тринадцатом году по Рождестве Христове, задаю эти вопросы вам,
предполагаемым последователям Христа, -- вам, чьи вешатели выведут меня и
закроют мое лицо черной тканью, не смея, пока я еще жив, взглянуть на ужас,
творимый надо мною.
Но возвращусь к моей тюрьме. Когда удалился последний сторож и наружная
дверь заперлась, все сорок избитых и озадаченных людей заговорили, засыпали
друг друга вопросами. Но почти в ту же минуту заревел, как бык, Скайсель
Джек, огромного роста матрос; он потребовал молчания, чтобы сделать
перекличку. Камеры были полны, и камера за камерой по порядку выкрикивала
имена своих обитателей. Таким образом выяснилось, что в каждой камере
находятся надежные каторжники, среди которых не могло оказаться шпика.
Только на мой счет каторжники остались в сомнении, ибо я был
единственный узник, не принимавший участия в заговоре. Меня подвергли
основательному допросу. Я мог только сказать им, что не далее как этим утром
вышел из карцера и смирительной рубашки и без всякой причины, насколько я
мог понять, был через несколько часов вновь брошен туда. Моя репутация
"неисправимого" говорила в мою пользу, и они решились открыть прения.
Лежа и прислушиваясь, я впервые узнал о том, что готовился побег. "Кто
сфискалил?" -- был их единственный вопрос. Всю ночь этот вопрос повторялся.
Поиски Сесиля Винвуда оказались напрасными, и общее подозрение пало на него.
-- Остается только одно, ребята, -- промолвил наконец Скайсель Джек. --
Скоро утро. Они нас выведут и устроят нам кровавую баню. Мы были пойманы
наготове, в одежде. Винвуд надул нас и донес. Они будут выводить нас по
одному и избивать. Нас сорок человек; нужно раскрыть ложь. Пусть каждый,
сколько бы его ни били, говорит только правду, сущую правду, и да поможет
ему Господь!
И в этой мрачной юдоли человеческой бесчеловечности, от камеры к
камере, прижавшись устами к решетке, сорок вечников торжественно поклялись
говорить правду.
Мало хорошего принесла им эта правда! В девять часов утра сторожа,
наемные убийцы чистеньких граждан, составляющих государство, лоснящиеся от
еды и сна, накинулись на нас. Нам не только не дали завтрака -- нам не дали
даже воды, а избитых людей, как известно, всегда лихорадит.
Не знаю, читатель, представляете ли вы себе хотя бы приблизительно, что
значит быть "избитым"? Не стану объяснять вам это. Довольно вам знать, что
эти избитые, лихорадящие люди семь часов оставались без воды.
В девять часов пришли сторожа; их было немного. В большом числе не было
и надобности, потому что они открывали только по одной камере зараз. Они
были вооружены короткими заостренными палками -- удобное орудие для
"дисциплинирования" беспомощных людей. Открывая камеру за камерой, они били
и истязали вечников. Их нельзя было упрекнуть в лицеприятии: я получил такую
же порцию, как и другие. И это было только начало, это было как бы
предисловие к пытке, которую каждому из нас пришлось испытать один на один в
присутствии оплачиваемых государством зверей. Это был как бы намек каждому
на то, что ожидает его в инквизиционном застенке.
Я в своей жизни изведал много тюремных ужасов, но кромешный ад дней,
последовавших за описанными событиями, был хуже даже, чем то, что они
собираются учинить надо мной в близком будущем.
Долговязый Билль Ходж, ко многому привыкший горец, должен был первым
подвергнуться допросу. Он вернулся через два часа -- вернее, его приволокли
и бросили на каменный пол карцера. Затем они избили Луиджи Полаццо из
Сан-Франциско, американца первого поколения от родителей итальянцев, который
глумился и издевался над ними и довел их до белого каления.
Не скоро удалось Долговязому Биллю побороть боль настолько, чтобы быть
в состоянии произнести несколько связных слов.
-- Что с динамитом? -- спросил он. -- Кто знает чтонибудь о динамите?
Разумеется, никто не знал, -- а это был главный вопрос, поставленный
ему мучителями.
Почти через два часа вернулся Луиджи Полаццо; но это был не он, это
была какая-то развалина, бормотавшая что-то бредовое и не умевшая дать
ответа на вопросы, гулко раздававшиеся в длинном коридоре карцеров, --
вопросы, которыми осыпали его люди, ждавшие своей очереди и нетерпеливо
желавшие знать, что с ним сделали и какому допросу его подвергли.
В ближайшие сорок восемь часов Луиджи два раза водили на допрос. После
этого уже не человеком, а какимто бормочущим идиотом его отправили на житье
в Аллею Беггауза. У него крепкое телосложение, широкие плечи, широкие
ноздри, крепкая грудь и чистая кровь; в Аллее Беггауза он еще долго будет
бормотать околесицу после того, как я буду вздернут на веревку и избавлюсь
таким образом навсегда от ужасов исправительных тюрем в Калифорнии.
Заключенных выводили из камер поодиночке, одного за другим, и приводили
обратно какие-то развалины, обломки людей, бросая их, окровавленных, в
темноту, где им предоставлялось сколько угодно рычать и выть. И когда я
лежал, прислушиваясь к стонам и воплям и к безумным фантазиям свихнувшихся
от мучений людей, во мне смутно просыпались воспоминания, что где-то,
когда-то и я сидел на высоком месте, свирепый и гордый, прислушиваясь к
такому же хору стонов и воплей. Впоследствии, как вы в свое время узнаете, я
осознал это воспоминание и понял, что стоны и вопли исходили от рабов,
прикованных к своим скамьям, и что я слушал их сверху, с кормы, в качестве
воина-пассажира на галере Древнего Рима. Я тогда плыл в Александрию
начальником воинов, на пути в Иерусалим. Но об этом я вам расскажу
впоследствии... а покуда...
Покуда в темнице царил ужас, начавшийся вслед за открытием
приготовлений к побегу. И ни на секунду в эти вечные часы ожидания меня не
оставляло сознание, что и мне придется последовать за этими каторжниками,
претерпеть инквизиционные пытки, какие они претерпели, и вернуться обратно
развалиной, которую бросят на каменный пол моей каменной, с чугунной дверью,
темницы.
Вот они явились за мной. Грубо и безжалостно, осыпая меня ударами и
бранью, они увели меня -- и я очутился перед капитаном Джэми и смотрителем
Этертоном, окруженными полдюжиной подкупленных на выколоченные налогами
деньги зверей, носящих название сторожей и готовых исполнить любой приказ
начальства. Но их услуги не понадобились.
-- Садись! -- сказал мне смотритель Этертон, указав на огромный
деревянный стул.
И вот я, избитый, окровавленный, не получивший глотка воды за долгую
ночь и день, полумертвый от голода, от побоев, последовавших за пятью днями
карцера и восемьюдесятью часами смирительной рубашки, подавленный сознанием
бедственности человеческого удела, охваченный страхом, что со мной
произойдет то же, что произошло с остальными, -- я, шатающийся обломок
человека и бывший профессор агрономии, -- я отказался принять приглашение
сесть.
Смотритель Этертон был крупный и очень сильный мужчина. Рука его
молниеносно упала на мое плечо. В его руках я был соломинкой. Он поднял меня
с полу и швырнул на стул.
-- А теперь, -- промолвил он, пока я задыхался и душил в себе крики
боли, -- расскажи мне всю правду, Стэндинг. Выплюнь всю правду -- всю, как
есть, иначе... ты знаешь, что с тобой будет!
-- Я ничего не знаю о том, что случилось... -- начал я.
Только это я и успел вымолвить. С рычанием он бросился на меня одним
скачком. Опять он поднял меня в воздух и с треском обрушил на стул.
-- Не дури, Стэндинг! -- пригрозил он. -- Сознайся во всем. Где
динамит?
-- Я ничего не знаю ни о каком динамите, -- возражал я.
Я пережил в своей жизни самые разнообразные муки, но когда я о них
размышляю сейчас, в покое моих последних дней, то убеждаюсь, что никакая
пытка не сравнится с этой пыткой стулом, Своим телом я превратил стул в
уродливую пародию мебели. Принесли другой, но скоро и он оказался
разломанным. Приносили все новые стулья, и допрос о динамите продолжался все
в той же неизменной форме.
Когда смотритель Этертон утомился, его сменил капитан Джэми, а затем
сторож Моноган сменил капитана Джэми и тоже начал бросать меня на стул. И
все это время только и слышалось: "Динамит! Динамит! Где динамит?.." А
динамита никакого и не было. Я под конец готов был отдать чуть не всю свою
бессмертную душу за несколько фунтов динамита, которые мог бы показать.
Не смогу сказать, сколько стульев было разломано моим телом. Я лишался
чувств бесчисленное множество раз. Наконец все слилось в один сплошной
кошмар. Меня полунесли, полупихали, полутащили в мою темную камеру. Здесь,
очнувшись, я увидел шпика. Это был бледный маленький арестант короткого
срока, готовый на все за глоток водки. Как только я узнал его, я подполз к
решетке и крикнул на весь коридор:
-- Со мною шпик, товарищи, Игнатий Ирвин! Держите язык за зубами!
Прозвучавший хор проклятий поколебал бы мужество и более храброго
человека, чем Игнатий Ирвин. Жалок он был в своем страхе, когда окружавшие
его, истерзанные болью вечники, рыча, как звери, говорили, какие ужасы они
ему готовят на предстоящие годы.
Существуй в действительности какая-нибудь тайна, присутствие сыщика в
карцере заставило бы каторжников сдерживаться. Но так как все они поклялись
говорить правду, то не стеснялись перед Игнатием Ирвиным. Их больше всего
озадачивал динамит, о котором они так же мало знали, как и я. Они обращались
ко мне, умоляли сказать, если я что-нибудь знаю о динамите, и спасти их от
дальнейших бедствий. И я мог им сказать только правду -- что я ничего не
знаю ни о каком динамите.
Уводя сыщика, сторож проронил одну фразу, которая показала мне, как
серьезно обстоит дело с динамитом. Разумеется, я об этом передал товарищам,
и в результате ни одно колесо не вертелось в этот день на тюремных станках.
Тысячи каторжников оставались запертыми в своих камерах, и ясно было, что ни
одна из многочисленных тюремных фабрик не будет действовать до тех пор, пока
не отыщется динамит, спрятанный кем-то в тюрьме.
Следствие продолжалось. Каторжников по одному вытаскивали из камер и
втаскивали обратно; как они передавали, смотритель Этертон и капитан Джэми,
выбиваясь из сил, сменяли друг друга каждые два часа. Пока один спал, другой
вел допрос. И спали они не раздеваясь, в той самой комнате, в которой один
силач за другим лишались последних своих сил.
Час за часом во мраке темницы продолжалось безумие нашей пытки. О,
поверьте мне, повешение пустяк в сравнении с тем, как из живых людей
выколачивают остатки жизни, -- а они все еще продолжают жить. Я, как и все
прочие, страдал от боли и жажды, но мои страдания отягощались еще сознанием
страданий других. Я уже два года считался в числе неисправимых, и мои нервы
и мозг стали бесчувственны к страданию. Но страшное зрелище -- надломленный
силач! Вокруг меня сорок силачей одновременно превратились в развалины.
Крики, мольбы о воде не прекращались ни на минуту, люди сходили с ума от
воя, плача, бормотанья и безумного бреда.
Понимаете ли вы? Наша правда, истинная правда, которую мы говорили,
была нам уликой!
Раз сорок человек утверждали одно и то же с таким единодушием,
смотритель Этертон и капитан Джэми могли заключить, что их свидетельство --
заученная ложь, которую каждый из сорока твердит, как попугай.
Перед властями их положение было столь же отчаянное, как и наше. Как я
впоследствии узнал, по телеграфу был созван комитет тюремных директоров, и в
тюрьму прислали две роты государственной милиции. Стояла зима, а морозы
порой подносят сюрпризы даже в Калифорнии. В карцерах не было одеял.
Представьте себе, как приятно лежать израненным телом на ледяных камнях! В
конце концов нам дали воды. Глумясь и ругаясь, сторожа вбежали к нам, одетые
в непромокаемые штаны пожарных, и стали окачивать нас из кишки час за часом,
пока израненные тела не оказались вновь расшибленными ударами струй, пока мы
не очутились по колено в воде, бурлившей вокруг нас и от которой мы теперь
мучительно желали избавиться.
Не буду больше распространяться о том, что делалось в карцерах. Скажу
только мимоходом, что ни один из этих сорока вечников не пришел в свое
прежнее состояние. Луиджи Полаццо навсегда лишился рассудка. Долговязый
Билль Ходж медленно терял рассудок, и год спустя его тоже отправили на
жительство в Аллею Беггауза. За Ходжем и Полаццо последовали другие; иные,
надломленные физически, пали жертвою тюремного туберкулеза. Ровно четвертая
часть этих сорока сошла в могилу в ближайшие шесть лет.
Когда, после пяти лет одиночного заключения, меня вывели из
Сан-Квэнтина на суд, я увидел Скайселя Джека. Видел я, собственно, мало, ибо
после пяти лет, проведенных в потемках, я только жмурился да хлопал глазами,
как летучая мышь. Но и то, что я увидел, заставило больно сжаться мое
сердце. Я встретил Скайселя Джека, когда шел через тюремный двор. Волосы его
были белы как снег. Он преждевременно одряхлел, грудь его глубоко впала,
равно как и щеки. Руки болтались как парализованные, на ходу он шатался. Его
глаза тоже наполнились слезами, когда он узнал меня, ибо я представлял собою
жалкий обломок того, что когда-то называлось человеком. Я весил восемьдесят
семь фунтов. Волосы мои, с густой проседью, невероятно отросли за пять лет,
так же, как борода и усы. И я шатался на ходу, так что сторож поддерживал
меня, когда я проходил залитый солнцем угол двора. Но мы с Джеком Скайселем
все же узнали друг друга.
Люди вроде Джека пользуются привилегиями даже в тюрьме, так что он
позволил себе нарушить тюремные правила, обратившись ко мне надломленным,
дрожащим голосом:
-- Ты славный парень, Стэндинг, -- прохрипел он. -- Ты никогда не
фискалил.
-- Но ведь я ничего не знал, Джек! -- прошептал я в ответ. Я шептал
непроизвольно: за пять лет вынужденного молчания я почти совершенно потерял
голос, -- Я думаю, никакого динамита и не было.
-- Ладно, ладно, -- хрипел он, с детским упрямством качая головой. --
Береги тайну, не выдавай им! Ты молодец! Снимаю перед тобой шапку, Стэндинг:
ты не фискал!
Сторож увел меня прочь, и я больше не видал Скайселя Джека. Ясно было,
что даже он поверил в сказку о динамите.
Меня два раза приводили пред лицо комитета директоров в полном его
составе. Меня то истязали, то уговаривали. Мне предложили такую
альтернативу: если я отдам динамит, меня подвергнут номинальному наказанию
-- тридцать дней карцера, а затем сделают сторожем тюремной библиотеки; если
же я буду упрямиться и не отдам динамита -- меня посадят в одиночку на весь
срок наказания. А так как я был пожизненно заключенный, то это значило --
меня заключат в одиночку на всю жизнь.
О нет, Калифорния -- цивилизованная страна! В ее уголовном уложении нет
такого закона! Это жестокая, невероятная кара, и ни одно современное
государство не повинно в издании такого закона. Тем не менее в истории
Калифорнии я -- третий присужденный к пожизненной одиночке. Другие два --
Джек Оппенгеймер и Эд Моррель. Я скоро расскажу вам о них, ибо гнил вместе с
ними целые годы в камерах безмолвия.
Добавлю к этому следующее. Скоро меня выведут и повесят -- не за то,
что я убил профессора Гаскелля. За это меня присудили к пожизненной тюрьме.
Меня повесят потому, что я признан виновным в нападении на сторожа и в
драке. А это уже нарушение тюремной дисциплины. Это закон, который можно
найти в уголовном уложении.
Кажется, я разбил человеку нос в кровь. Я не видел, чтобы из его носа
шла кровь, -- но так говорили свидетели. Его звали Серстон. Он был сторожем
в Сан-Квэнтине. В нем было сто семьдесят фунтов весу, он цвел здоровьем. Я
весил меньше девяноста фунтов, был слеп, как нетопырь, от долгого пребывания
во мраке и настолько отвык от открытых пространств, что у меня закружилась
голова при выходе из камеры. У меня, без сомнения, начиналась агорафобия, в
чем я убедился в тот самый день, когда вышел из одиночки и расквасил сторожу
Серстону нос.
Я раскровянил ему нос, когда он преградил мне дорогу и хотел схватить.
И за это меня повесят. В законах штата Калифорнии написано, что вечник,
вроде меня, подлежит смертной казни, если ударит тюремного сторожа, вроде
Серстона. Разбитый нос вряд ли беспокоил его больше получаса, и все же меня
за это повесят...
Видите ли, этот закон является в данном случае законом ex post facto,
законом, имеющим обратную силу. Он не был законом в то время, когда я убил
профессора Гаскелля. Он был издан после того, как меня приговорили к
пожизненному заключению. И в этом вся штука: мое пожизненное заключение
подвело меня под закон, еще не записанный в книге. И только благодаря своему
званию пожизненного арестанта я буду повешен за побои, нанесенные сторожу
Серстону. Закон явно ex post facto и поэтому неконституционен.
Но что конституция для конституционных юристов, когда они желают
избавиться от известного профессора Дэрреля Стэндинга! Моя казнь не
устанавливает даже прецедента. Год назад, как известно всякому читавшему
газеты, они повесили Джека Оппенгеймера здесь, в Фольсоме, совершенно за
такой же проступок... Но только он провинился не в том, что разбил нос
сторожу, -- он нечаянно зарезал каторжника хлебным ножом.
Как они странны -- путаные законы людей, путаные тропки жизни! Я пишу
эти строки в той самой камере Коридора Убийц, которую занимал Джек
Оппенгеймер перед тем, как его увели и сделали с ним то, что собираются
проделать надо мною...
Я предупреждал вас, что мне придется писать очень много. Возвращаюсь
теперь к своему повествованию. Комитет тюремных директоров предоставил мне
на выбор: пост тюремного надзирателя и избавление от джутовых станков, если
я выдам несуществующий динамит; пожизненное заключение в одиночке -- если я
откажусь его выдать.
На размышление мне дали двадцать четыре часа, заключив на этот срок в
смирительную рубашку. Потом меня привели в комитет. Что мне было делать? Я
не мог указать им динамит, которого не существовало. Я и сказал им это; а
они назвали меня лжецом. Они объявили меня неисправимым, опасным человеком,
нравственным дегенератом и "злейшим преступником нашего времени". Они
наговорили еще много других приятных вещей и заперли меня в одиночную
камеру. Меня поместили в камеру No 1. В No 5 лежал Эд Моррель, в No 12 --
Джек Оппенгеймер. Здесь он жил уже десятый год, а Эд Моррель жил в своей
камере всего первый год. Он отбывал п я т и д ес я т и л е т н и й срок
заключения! Джек Оппенгеймер был вечник, как и я. Казалось, нам троим
предстояло долго томиться здесь. И вот прошло только шесть лет -- и никого
из нас нет в одиночке. Джека Оппенгеймера вздернули на веревку, Эда Морреля
сделали главным надзирателем в Сан-Квэнтине, а затем он получил помилование.
А я в Фольсоме дожидаюсь дня, назначенного судьею Морганом, -- дня, который
будет моим последним днем.
Глупцы! Разве они могут удушить мое бессмертие своим неуклюжим
изобретением -- веревкой и виселицей? Не один раз, а бесчисленное множество
раз буду я ходить по этой прекрасной земле! Я буду ходить во плоти, буду
принцем и крестьянином, ученым и шутом, буду сидеть на высоком месте и
стонать под колесами.
Первые дни мне было жутко в одиночке, и часы тянулись нестерпимо долго.
Время отмечалось правильною сменою сторожей и чередованием дня и ночи. День
давал очень мало света, но все же это было лучше, чем непроглядная тьма
ночи. В одиночке день был как светлая слизь, просачивающаяся из светлого
внешнего мира.
Света было слишком мало, чтобы читать. Вдобавок и читать было нечего.
Можно было только лежать и думать, думать без конца. Я был пожизненно
заключенный, и ясно было, что если я не сотворю чуда, не создам из ничего
тридцати пяти фунтов динамита, весь остаток моей жизни протечет в этом
безмолвном мраке.
Постелью мне служил тонкий, прогнивший соломенный тюфяк, брошенный на
пол камеры. Покровом служило тонкое и грязное одеяло. Я всегда спал очень
мало, всегда мозг мой много работал. Но в одиночке устаешь от дум, и
единственное спасение от них -- сон. Теперь я культивировал сон, я сделал из
него науку. Я научился спать по десять часов, потом по двенадцать и,
наконец, по четырнадцать и пятнадцать часов в сутки; но дальше этого дело не
пошло, и я поневоле вынужден был лежать без сна и думать, думать... Для
деятельного ума это значит постепенно лишаться рассудка.
Я изыскивал способы механически убивать часы бодрствования. Я возводил
в квадрат и в куб длинные ряды цифр, сосредоточивал на этом все свое
внимание и волю, я выводил самые изумительные геометрические прогрессии. Я
даже отважился на квадратуру круга... И даже поверил в то, что эта
невозможность может быть осуществлена. Наконец, убедившись, что я схожу с
ума, я оставил квадратуру круга, хотя, уверяю вас, это для меня была большая
жертва: умственные упражнения, связанные с квадратурой круга, отлично
помогали мне убивать время.
Путем одного воображения, закрыв глаза, я создавал шахматную доску и
разыгрывал длинные партии сам с собой. Но когда я усовершенствовался в этой
искусственной игре памяти, упражнения начали утомлять меня. Это были только
упражнения, так как между сторонами в игре, которую ведет один и тот же
игрок, не может быть настоящего состязания. Я многократно и тщательно
пытался расколоть свое "я" на две отдельные личности и противопоставить одну
другой, но оставался единственным игроком, и не было ни одной хитрости и
стратагемы на одной стороне, которую другая сторона тотчас же не раскрывала
бы.
Время давило меня, время длилось бесконечно долго. Я затеял игру с
мухами, которые попадали ко мне в камеру, подобно просачивающемуся в нее из
внешнего мира тусклому серому свету, и убедился, что они одарены чувством
игры. Так, например, лежа на полу камеры, я проводил произвольную
воображаемую линию на стене, в расстоянии трех футов от пола. Когда мухи
сидели на стене выше этой линии, я их оставлял в покое. Как только они
спускались по стене ниже ее, я старался поймать их. Я всячески старался при
этом не помять муху, и по прошествии некоторого времени они знали так же
хорошо, как и я, где проходит воображаемая линия. Когда им хотелось
поиграть, они спускались ниже этой линии, и часто одна какая-нибудь муха
целый час занималась этой игрой. Утомившись, она садилась отдыхать в
безопасном районе.
Из дюжины или более мух, живших со мной, только одна не любила игры.
Она упорно отказывалась играть и, узнав, какая кара ждет ее за переход
запретной межи, старательно избегала опасной территории. Эта муха была
угрюмое, разочарованное существо. Как выразились бы каторжники, у нее "был
зуб" против мира. Она никогда не играла и с другими мухами! Это была
сильная, здоровая муха, -- я достаточно долго изучал ее, чтобы в этом
убедиться. И ее нерасположение к игре было делом темперамента, а не
физического состояния.
Поверьте, я знал всех своих мух! Поразительно, какую массу отличий я в
них открыл. Каждая муха являла собой вполне определенную индивидуальность --
не только по размерам и приметам, по силе и быстроте полета, по характеру
игры, по манере уверток, бегства, возвращения и шныряния по запрещенной зоне
на стене. Они сильно отличались одна от другой еще и тончайшими нюансами
темперамента и душевного склада.
Среди них были нервические особы, были и флегматики. Так, одна муха,
поменьше товарок ростом, приходила в настоящий восторг, когда играла со мной
или подругами. Видели ли вы когда-нибудь, как жеребенок или теленок скачет
по лугу, задрав хвост в необузданном восторге? И вот эта муха -- мимоходом
сказать, лучший игрок среди прочих, -- бывало, спустившись раза три-четыре
подряд в запрещенную зону и всякий раз избежав бархатных тисков моей руки,
приходила в такое возбуждение и восторг, что начинала носиться вокруг моей
головы с бешеной быстротой, кувыркаясь, лавируя и вертясь и все время
держась в пределах узкого круга, в котором она могла торжествовать надо
мной.
Я так хорошо изучил мух, что мог заранее сказать, когда той или другой
мухе захочется играть со мной. В одной этой области были тысячи деталей,
которыми я не стану докучать вам, хотя эти детали помогали мне убивать время
в первый период моего одиночества.
Расскажу вам только случай, когда муха "с зубом", никогда не игравшая,
в минуту рассеянности села на запрещенную территорию и тотчас же была
поймана мною. Верите ли, она целый час после этого дулась на меня!..
Часы тянулись в одиночке безумно долго. Я не мог спать беспрерывно, как
не мог все время убивать на игру с мухами, при всем их уме. Муха, в конце
концов. не более как муха, а я был человек, с человеческим мозгом; мозг мой
привык к деятельности, был начинен "культурой" и знаниями и всегда
напряженно работал. А делать мне было совершенно нечего, и мысль бесплодно
замирала в пустых умозрениях. Так, я вспомнил о своем определении
присутствия пентозы и метилпентозы в виноградной лозе -- анализ, которому я
посвятил последние летние каникулы, проведенные в виноградниках Асти. Я
почти довел до конца этот ряд опытов, и теперь меня страшно интересовало,
продолжает ли их кто-нибудь, и если продолжает, то с каким успехом.
Ведь мир умер для меня. Никакие вести извне не просачивались ко мне.
Развитие науки быстро идет вперед, и меня интересовали тысячи тем. Так,
например, я создал теорию гидролиза казеина трипсинолом, который профессор
Уолтерс выполнил в своей лаборатории. Профессор Шлеймер работал вместе со
мной над обнаружением фитостерина в смесях животных и растительных жиров.
Работа, без сомнения, продолжается: каковы результаты? Одна только мысль о
работе, ведущейся за тюремными стенами, в которой я не мог принять участие,
о которой мне не придется даже услышать, сводила меня с ума. Мой удел был --
лежать на полу камеры и играть с мухами.
Нельзя сказать, чтобы в одиночке царило абсолютное безмолвие. Еще в
самом начале своего заключения я часто слышал через определенные промежутки
времени слабые, глухие перестукивания. Позднее мне слышались слабые и глухие
удары. Эти постукивания неизменно прерывались злым ревом сторожей. Однажды,
когда постукивания приняли слишком настойчивый характер, были вызваны
сторожа на подмогу, и по шуму я догадался, что некоторых узников заключили в
смирительные рубашки. Объяснить этот инцидент было нетрудно. Я, как всякий
узник Сан-Квэнтина, знал, что в одиночке сидят еще двое -- Эд Моррель и Джек
Оппенгеймер. Я знал, что эти двое переговаривались посредством стуков и за
это были подвергнуты наказанию.
Я не сомневался, что ключ, которым они пользовались, в высшей степени
прост. Однако мне пришлось потратить много часов труда, пока я открыл его.
Каким несложным оказался он, когда я изучил его! А всего проще показалась
мне уловка, которая больше всего и сбивала меня с толку. Заключенные не
только каждый день меняли букву алфавита, с которой начинался ключ, но и
меняли ее в каждом разговоре, даже среди разговора.
Так, однажды я угадал начальную букву ключа и разобрал две фразы; в
следующий же раз, когда они заговорили, я не понял ни единого слова.
Первые фразы, понятые мною, были следующие:
-- Скажи -- Эд -- что -- ты -- дал -- бы -- сейчас -- за -- оберточную
-- бумагу -- и -- пачку -- табаку? -- спрашивал один выстукивавший.
Я чуть не закричал от восторга. Вот способ сношения! Вот мне компания!
Я внимательно прислушивался и разобрал следующий ответ, исходивший,
по-видимому, от Эда Морреля.
-- Я -- принял -- бы -- двенадцать -- часов -- смирительной -- рубашки
-- за -- пятицентовую -- пачку...
Но тут послышался грозный рев сторожа:
-- Прекрати эту музыку, Моррель!
Профану может показаться, что с людьми, осужденными на пожизненное
одиночное заключение, уже сделано самое худшее, и поэтому какой-нибудь
сторож не имеет способов заставить выполнить свой приказ -- прекратить
перестукивание. Но ведь есть еще смирительная рубашка, остается голодная
смерть, остается жажда, остается рукоприкладство! Поистине беспомощен
человек, запертый в тесную клетку!
Перестукивание прекратилось. Но в тот же вечер, когда оно вновь
началось, я опять превратился в слух. Для каждого разговора
перестукивающиеся меняли начальную букву ключа. Но я отгадывал ее, а через
несколько дней опять попадался в тот же ключ. Я не стал дожидаться
формального представления.
-- Алло! -- выстукал я.
-- Алло, незнакомец! -- простучал в ответ Моррель, а Оппенгеймер
простучал: -- Добро пожаловать в наш огород!
Они полюбопытствовали, кто я такой, давно ли присужден к одиночке, за
что присужден.
Но все это я отложил до тех пор, пока не изучу их системы перемены
ключа. После того как я ею овладел, мы начали беседу. Это был великий день,
ибо вместо двух одиночников стало трое -- хотя они приняли меня в свою
компанию только после испытания. Много позже они мне рассказали, что
боялись, не провокатор ли я, посаженный, чтобы впутать их в какую-нибудь
историю. С Оппенгеймером уже такой казус однажды случился, и он дорого
заплатил за доверие, которое оказал приспешнику смотрителя Этертона.
К моему изумлению -- вернее сказать, к моему восторгу, -- оба мои
товарища по несчастью знали меня благодаря моей репутации "неисправимого"!
Даже в могилу для живых, в которой Оппенгеймер обитал уже десятый год,
проникла моя слава или, вернее, известность...
Мне пришлось немало рассказать им о событиях в тюрьме и о внешнем мире.
Заговор сорока вечников с целью побега, поиски воображаемого динамита и вся
вероломная махинация Сесиля Винвуда оказались для них совершенной новостью.
По их словам, вести до них доходили через сторожей, но вот уже два месяца,
как они ни от кого не слыхали ни слова. Теперешние сторожа при одиночках
оказались особенно злой и мстительной бандой.
Сторожа, все без исключения, ругательски ругали нас за перестукивание;
но мы не могли отказаться от него. Из двух живых мертвецов стало трое; нам
так много нужно было сказать друг другу, а способ сообщения был безумно
медленным, и я не так был искушен в выстукивании, как мои товарищи.
-- Погоди, нынче вечером придет Пестролицый -- он спит почти всю свою
смену, и нам можно будет наговориться всласть.
И говорили же мы в эту ночь! Сон бежал от моих глаз! Пестролицый Джонс
был подлою и злою тварью, несмотря на свою тучность. Но мы благословляли его
тучность, ибо она побуждала его дремать при первой возможности. Однако наши
постоянные перестукивания нарушали его сон и раздражали его до такой
степени, что он клял и бранил нас без конца. Так же бранились и другие
ночные сторожа. Утром все они доложили, что ночью было много стука, и нам
пришлось поплатиться за наш маленький праздник: в девять часов явился
капитан Джэми с несколькими сторожами, чтобы запрятать нас в смирительную
рубашку. До девяти часов утра следующего дня, ровно двадцать четыре часа
подряд, мы беспомощно лежали на полу без пищи и воды и этим расплатились за
нашу беседу.
О, что за звери были наши сторожа! Нам самим пришлось превратиться в
зверей, чтобы выжить. От грубой работы у человека делаются мозолистые руки.
Жестокая стража ожесточает узников. Мы продолжали переговариваться и время
от времени расплачивались смирительной рубашкой. Самой лучшей порой была
ночь, и нередко, когда на стражу ставили временных караульных, нам удавалось
беседовать целую смену.
Для нас, живших во мраке, день и ночь сливались в одно. Спать мы могли
в любое время, а перестукиваться только при случае. Мы рассказали друг другу
историю своей жизни; бывало, долгие часы мы с Моррелем лежали, прислушиваясь
к слабым, отдаленным выстукиваниям Оппенгеймера, который медленно
рассказывал нам свою жизненную повесть, начиная с детства в трущобах
Сан-Франциско, до школы наук в шайке мошенников, до знакомства со всем, что
есть в мире порочного. Четырнадцатилетним мальчишкой он служил ночным
вестовым в пожарной команде и через ряд краж и грабежей дошел до убийства в
стенах тюрьмы.
Джека Оппенгеймера называли "тигром в человеке" Юркий репортеришка
изобрел это прозвище, и кличке суждено было надолго пережить человека,
которому она принадлежала. Но я нашел в Джеке Оппенгеймере все основные
черты человечности. Он был верный, преданный товарищ. Я знаю, что он не раз
предпочел наказание доносу на товарищей. Он был мужествен, был терпелив. Он
был способен к самопожертвованию, -- я мог бы рассказать вам о подобном
случае, но не стану отнимать у вас времени. Справедливость же была его
страстью. Убийство, совершенное им в тюрьме, вызвано было исключительно его
утрированным чувством справедливости. У него был недюжинный ум. Жизнь,
проведенная в тюрьме, и десятилетняя одиночка не помрачили его рассудка.
У Морреля, столь же превосходного товарища, также был блестящий ум. Я,
которому предстоит умереть, имею право сказать без риска получить упрек в
нескромности, что тремя лучшими умами Сан-Квэнтина из всех его обитателей,
начиная от смотрителя, были три каторжника, гнившие в одиночках. Теперь, на
закате дней моих, обозревая все, что дала мне жизнь, я прихожу к заключению,
что сильные умы никогда не бывают послушными. Глупые люди, трусливые люди,
не наделенные страстным духом справедливости и бесстрашия в борьбе, -- такие
люди дают примерных узников. Благодарю всех богов, что ни Джек Оппенгеймер,
ни Моррель, ни я не были примерными узниками.
Дети определяют память как нечто такое, ч е м люди забывают, -- и в
этом определении, мне думается, немало правды. Быть умственно здоровым --
значит быть способным забывать. Вечно же помнить -- значит быть помешанным,
одержимым. И в одиночке, где воспоминания осаждали меня беспрестанно, я
старался решить главным образом одну задачу -- задачу забвения. Когда я
играл с мухами, или с самим собой в шахматы, или перестукивался с
товарищами, я отчасти забывался. Но мне хотелось забыться вполне.
Во мне жили детские воспоминания иных времен и иных мест --
"разметанные облака славы", по выражению Вордсворта. Если у ребенка имелись
такие воспоминания, то почему же они безвозвратно исчезли, когда он вырос и
возмужал? Могла ли эта часть детской души совершенно стереться?
Или же эти воспоминания об иных местах и днях все еще существуют,
дремлют, замурованные в мозговых клетках, наподобие того, как я замурован в
камере Сан-Квэнтина.
Бывали случаи, когда люди, осужденные на вечное заключение в одиночке,
выходили на свободу и вновь видели солнце. Почему же в таком случае не могли
бы воскреснуть и детские воспоминания об ином мире?
Но как? Мне думается -- путем достижения полного забвения настоящего.
Но все же -- каким образом? Этим должен был заняться гипноз. Если
посредством гипноза удастся усыпить сознательный дух и пробудить дух
подсознательный, то дело будет сделано -- все двери темницы мозга будут
разбиты, и узники выйдут на солнечный свет.
Так я рассуждал, а с каким результатом -- вы скоро узнаете. Но прежде я
хочу рассказать вам о воспоминаниях иного мира, которые я переживал еще
мальчиком. И я "сиял в облаках славы", влекшихся из глубины вечности. Как
всякого мальчика, меня преследовали образы существований, которые я
переживал в иные времена. Все это происходило во мне в процессе моего
становления, прежде чем расплавленная масса того, чем я некогда был,
затвердела в форме личности, которую люди в течение последних лет называют
Дэррель Стэндинг.
Я расскажу вам один такой случай. Это было в Миннесоте, на старой
ферме. Я тогда еще не достиг полных шести лет. В нашем доме остановился
переночевать миссионер, вернувшийся в Соединенные Штаты из Китая и
присланный Миссионерским Бюро собирать взносы у фермеров, Дело происходило в
кухне, тотчас после ужина, когда мать помогала мне раздеться на ночь, а
миссионер показывал нам фотографии видов Святой Земли.
Я давным-давно забыл бы то, что собираюсь вам рассказать, если бы в
моем детстве отец не рассказывал так часто этой истории своим изумленным
слушателям.
При виде одной из фотографий я вскрикнул и впился в нее взглядом --
сперва с интересом, а потом с разочарованием. Она вдруг показалась мне
ужасно знакомой, -- ну, словно я на фотографии увидел бы вдруг отцовскую
ригу! Потом она мне показалась совсем незнакомою. Но когда я стал опять
разглядывать ее, неотвязное чувство знакомости вновь появилось в моем
сознании.
-- Это башня Давида, -- говорил миссионер моей матери.
-- Нет! -- воскликнул я тоном глубокого убеждения.
-- Ты хочешь сказать, что она не так называется? -- спросил миссионер,
Я кивнул головой.
-- Как же она называется, мальчик?
-- Она называется... -- начал я и затем смущенно добавил: -- Я забыл!
-- У нее теперь другой вид, -- продолжал я после недолгого молчания. --
Прежде дома строились иначе.
Тогда миссионер протянул мне и матери другую фотографию, которую
разыскал в пачке.
-- Здесь я был шесть месяцев назад, миссис Стэндинг, -- и он ткнул
пальцем. -- Вот это Яффские ворота, куда я входил. Они ведут прямо к башне
Давида, -- на картинке, куда показывает мой палец. Почти все авторитеты
согласны в этом пункте. Эль-Куллах, как ее называли...
Но тут я опять вмешался, указал на кучи мусора и осыпавшегося камня в
левом углу фотографии.
-- Вот где-то здесь, -- говорил я. -- Евреи называли ее тем самым
именем, которое вы произнесли. Но мы называли ее иначе; мы называли ее... я
забыл как.
-- Вы только послушайте малыша! -- засмеялся отец. -- Можно подумать,
что он был там.
Я кивнул головой, ибо в ту минуту з н а л, что бывал там, хотя теперь
все мне представляется совершенно иначе. Отец захохотал еще громче,
миссионер же решил, что я потешаюсь над ним. Он подал мне другую фотографию.
Это был угрюмый, пустынный ландшафт без деревьев и всякой растительности --
какой-то мелкий овраг с пологими стенами из щебня. Приблизительно в середине
его виднелась куча жалких лачуг с плоскими крышами.
-- Ну-ка, мальчик, что это такое? -- иронически спросил миссионер.
И вдруг я вспомнил название.
-- Самария! -- в ту же секунду проговорил я.
Отец мой в восхищении захлопал в ладоши, мать была озадачена моим
поведением; миссионеру же, по-видимому, было досадно.
-- Мальчик прав! -- объявил он. -- Это деревушка в Самарии. Я был в
ней, почему и купил фотографию. Без сомнения, мальчик уже видел такие
фотографии раньше!
Но отец и мать единодушно отрицали это.
-- Но на картинке совсем не так! -- говорил я, мысленно восстанавливая
в памяти ландшафт. Общий характер ландшафта и линия отдаленных холмов
остались без изменения. Перемены же, которые я нашел, я называл вслух и
указывал пальцем.
-- Дом стоял вот тут, правее, а здесь было больше деревьев, много
травы, много коз. Я как сейчас вижу их перед собой, и двух мальчиков,
которые пасут их. А здесь, направо, кучка людей идет за одним человеком. А
здесь... -- я указал на то место, где находилась моя деревня, -- здесь толпа
бродяг. На них нет ничего, кроме рубища. Они больные. Их лица, и руки, и
ноги -- все в болячках.
-- Он слышал эту историю в церкви или еще гденибудь -- помните,
исцеление прокаженных в Евангелии от Луки? -- проговорил миссионер с
довольной улыбкой. -- Сколько же там было больных бродяг, мальчик?
Уже в пять лет я умел считать до ста. Теперь я напряженно пересчитал
людей и объявил:
-- Десять. Все они машут руками и кричат другим людям.
-- Но почему же они не приближаются к ним? -- был вопрос.
Я покачал головой:
-- Они стоят на местах и воют, как будто случилась беда.
-- Продолжай, -- ободрял меня миссионер. -- Что ты еще видишь? Что
делает другой человек, который, как говоришь ты, шел впереди другой толпы?
-- Они все остановились, и он что-то говорит больным; и даже мальчишки
с козами остановились посмотреть; все на них внимательно смотрят.
-- А еще что?
-- Это все. Больные люди направляются к домам. Они уже не воют, и у них
не больной вид. А я все сижу на своей лошади и смотрю...
Тут трое моих слушателей залились смехом.
-- И я взрослый человек! -- сердито воскликнул я. И подо мною большое
седло.
-- Десятерых прокаженных исцелил Христос перед тем, как прошел Иерихон
на пути в Иерусалим, -- пояснил миссионер моим родителям. -- Мальчик видел
снимки знаменитых картин в волшебном фонаре...
Но ни отец, ни мать не могли припомнить, чтобы я когда-нибудь видел
волшебный фонарь.
-- Попробуйте показать ему другую картинку, -- предложил отец.
-- Тут все не так, -- говорил я, рассматривая другую фотографию,
протянутую мне миссионером. -- Ничего не осталось, кроме горы и других гор.
Здесь должна быть проселочная дорога. А здесь должны быть сады, и деревья, и
дома за большими каменными стенами. А здесь, по ту сторону, в каменных
пещерах они хоронили покойников. Видите это место? Здесь они бросали в людей
камни, пока не забивали их до смерти. Я сам этого не видел, но мне
рассказывали.
-- А гора? -- спросил миссионер, указывая на середину фотографии. -- Не
можешь ли ты нам сказать название этой горы?
Я покачал головой:
-- У нее не было названия. Здесь убивали людей. Я видел ее не раз.
-- На этот раз то, что он говорит, подтверждается крупными
авторитетами, -- объявил миссионер с видом полного удовлетворения. -- Это
гора Голгофа, Гора Черепов, называемая так потому, что она похожа на череп.
Заметьте сходство! Здесь они распяли... -- Он умолк и обратился ко мне. --
Кого они здесь распяли, молодой ученый? Расскажи нам, что ты видишь еще?
О, я видел, -- по словам отца, я так таращил глаза, -- но упрямо качал
головой и говорил:
-- Я не стану вам рассказывать -- вы смеетесь надо мной. Я видел, как
здесь убивали многих, очень многих людей. Их прибивали гвоздями, и на это
уходило очень много времени. Я видел... но я вам не расскажу. Я никогда не
лгу. Спросите папу и маму -- лгу ли я! Они побили бы меня, если бы я лгал.
Спросите их!
Больше миссионер не мог вытянуть из меня ни одного слова, хотя и
соблазнял меня такими фотографиями, что у меня голова закружилась от
нахлынувших воспоминаний и язык так и чесался заговорить, но я упрямо
противился и выдержал характер.
-- Из него выйдет большой знаток Библии, -- говорил миссионер отцу и
матери, после того как я поцеловал их на сон грядущий и улегся спать. -- Или
же, с таким воображением, он сделается превосходным беллетристом!
Этому пророчеству не суждено было исполниться. Я сижу теперь в Коридоре
Убийц и пишу эти строки в мои последние дни -- вернее, в последние дни
Дэрреля Стэндинга, которого скоро выведут и швырнут в темноту на конце
веревки; я пишу и улыбаюсь про себя. Я не сделался ни знатоком Библии, ни
романистом. Напротив, до того как меня заперли в эту камеру молчания на
целую половину десятилетия, я был как раз всем чем угодно, но только не тем,
что предсказал миссионер, -- экспертом по сельскому хозяйству, профессором
агрономии, специалистом по науке уничтожения излишних движений, мастером
практического земледелия, лабораторным ученым в области знания, где точность
и учет самых микроскопических фактов составляют непременное требование.
И вот я сижу в жаркое предвечерье в Коридоре Убийц, отрываясь время от
времени от писания своих мемуаров, чтобы прислушиваться к ласковому жужжанию
мух в дремотном воздухе и ловить отдельные фразы тихой беседы, которую ведут
между собой негр Джозеф Джексон, убийца, по правую мою руку, и итальянец
Бамбеччио, убийца, по левую руку. Из одной решетчатой двери в другую
решетчатую дверь, мимо моей решетчатой двери, перебрасываются они
рассуждениями об антисептических и других превосходных достоинствах
жевательного табаку, как средства врачевания телесных ран.
А я держу в своей поднятой руке вечное перо с резервуаром и вспоминаю.
что в давно минувшие, стародавние времена другие мои руки держали кисточку
для туши, гусиное перо и стилос; мысленно я задаю себе вопрос: а что этот
миссионер, в бытность маленьким мальчиком, тоже носился по облакам света и
сиял блеском межзвездных скитаний?
Вернемся, однако, в мою одиночку, к моменту, когда я, изучив искусство
перестукиваться, все же убедился, что часы сознания бесконечно, нестерпимо
долги. Путем самогипноза, которым я научился искусно управлять, я получил
возможность усыплять свое сознательное, бодрственное "я" и будить, выпускать
на свободу мое подсознательное "я". Но это последнее "я" было существом, не
желавшим знать никаких законов и дисциплины. Оно бессвязно, без смысла
скиталось по кошмарам безумия; и лица, и события -- все носило отрывочный,
разрозненный характер.
Мой метод механического самовнушения был весьма прост. Скрестив ноги
по-турецки на моем соломенном тюфяке, я устремлял неподвижный взор на
кусочек блестящей соломинки, которую перед тем прикрепил к стене моей
камеры, в том месте у дверей, где падало больше всего света. Приблизив к ней
глаза, я смотрел на блестящую точку, пока глаза не уставали глядеть.
Одновременно с этим я сосредоточивал всю свою волю и отдавался во власть
чувству головокружения, всегда овладевавшего мною под конец сеанса.
Откидываясь навзничь, я закрывал глаза и без сознания падал на тюфяк. После
этого, в течение получаса, или десяти минут, или часа, скажем, я
беспорядочно и бестолково скитался по громадам воспоминаний о моих былых, то
и дело возникавших существованиях на земле. Но места и эпохи сменялись при
этом с невероятной быстротой. Впоследствии, просыпаясь, я понимал, что это
я, Дэррель Стэндинг, был связующим звеном, той личностью, которая соединяла
в одно все эти причудливые и уродливые моменты. Но и только. Мне ни разу не
удалось вполне запомнить одно целое переживание, объединенное сознанием во
времени и пространстве. Мои сны, если их можно назвать снами, были
бессмысленны и нестройны.
Вот образец моих грезовых скитаний. В течение пятнадцати минут
подсознательного бытия я ползал и мычал в тине первобытного мира, потом
сидел рядом с Гаазом, рассекая воздух двадцатого века на моноплане с газовым
двигателем. Проснувшись, я вспомнил, что я, Дэррель Стэндинг во плоти, за
год до моего заточения в СанКвэнтин летал с Гаазом над Тихим океаном у
СантаМоники. Проснувшись, я не вспомнил о том, что ползал и мычал в древнем
иле. Тем не менее после пробуждения я соображал, что каким-то образом мне
все же припомнилось это далекое бытие в первобытной тине, что это
действительно было мое существование в ту пору, когда я был не Дэррелем
Стэндингом, а кем-то другим, ползавшим и мычавшим. Просто -- одно
переживание было древнее другого. Оба переживания были равно реальны, --
иначе как бы я мог помнить их?
О, что это было за непрерывное мелькание светлых образов и движений! На
протяжении нескольких минут освобожденного подсознательного бытия я сидел в
царских палатах на верхнем конце стола и на нижнем его конце, был шутом и
монахом, писцом и солдатом, был владыкой над всеми и сидел на почетном месте
-- мне принадлежала светская власть по праву меча, толстых стен замка и
численности моих бойцов; мне же принадлежала и духовная власть, ибо
раболепные патеры и тучные аббаты сидели ниже меня, лакали мое вино и жрали
мои яства.
В холодных странах я носил, помнится, железный ошейник раба; я любил
принцесс королевского дома в ароматные тропические ночи: чернокожие рабы
освежали застоявшийся знойный воздух опахалами из павлиньих перьев, а
издали, из-за пальм и фонтанов, доносилось рычание львов и вопли шакалов. И
еще -- я сидел на корточках в холодной пустыне, грея руки над костром из
верблюжьего помета, или лежал в редкой тени сожженного солнцем кустарника у
пересохшего родника, сгорая от жажды, а вокруг, разбросанные по солончаку,
валялись кости людей и животных, уже погибших от жажды.
В разное время я был морским пиратом и "браво" -- наемным убийцей;
ученым и отшельником. То я корпел над рукописными страницами огромных
заплесневевших томов в схоластической тишине и полумраке прилепившегося к
высокому утесу монастыря; а внизу, при свете угасающего дня, крестьяне
трудились над виноградными лозами и оливами и пастухи гнали с пастбища
блеющих коз и мычащих коров. То я предводительствовал ревущими толпами на
изрытых ухабами и колеями улицах древних забытых городов. Торжественным
голосом, холодным как могила, я оглашал закон, устанавливал степень вины и
приговаривал к смерти людей, нарушивших закон, как ныне приговорили Дэрреля
Стэндинга в Фольсомской тюрьме.
С головокружительной высоты мачт, качавшихся над палубами судов, я
обозревал сверкавшую на солнце поверхность моря, радужные переливы
коралловых рифов, поднимавшихся из бирюзовой пучины, и направлял корабли в
спасительную гладь зеркальных лагун, где приходилось бросать якорь чуть ли
не у корней пальм, растущих на самом берегу. И я же дрался на забытых полях
сражений более древней эпохи, когда солнце закатилось над битвой, которая не
прекратилась, а продолжалась в ночные часы при мерцании звезд и
пронзительном, холодном ветре, тянувшем со снеговых вершин, -- но и этой
стуже не удалось охладить пыл бойцов; потом я опять видел себя маленьким
Дэррелем Стэндингом, босоножкой, бегающим по весенней траве фермы в
Миннесоте. В морозные утра, задавая корм скотине в дымящихся животным паром
стойлах, я отмораживал себе пальцы, а по воскресеньям со страхом и
благоговением слушал проповеди о Новом Иерусалиме и муках адского пламени.
Вот что грезилось мне, когда в одиночной камере No 1 Сан-Квэнтинской
тюрьмы я доводил себя до потери сознания созерцанием блестящего кусочка
соломы. Как мне могло привидеться все это? Уж конечно, я не мог построить
своих видений из чего-либо, находящегося в стенах моей темницы, как не мог
создать из ничего тридцать пять фунтов динамита, который так безжалостно
требовали от меня капитан Джэми, смотритель Этертон и комитет тюремных
директоров.
Я -- Дэррель Стэндинг, родившийся и воспитанный на участке земли в
Миннесоте, бывший профессор агрономии, неисправимый узник Сан-Квэнтина, а в
данный момент -- приговоренный к смерти узник Фольсома. Из опыта Дэрреля
Стэндинга я не знаю вещей, о которых пишу и которые откопал в подвалах моего
подсознания. Я -- Дэррель Стэндинг, рожденный в Миннесоте и которому вскоре
придется умереть на веревке в Калифорнии, -- конечно, никогда не любил
царских дочерей в царских чертогах, не дрался кортиком на зыбких палубах
кораблей, не тонул в спиртных кладовых судов, лакая водку под пьяные крики и
песни матросов, в то время как корабль с треском напарывался на черные зубцы
утесов и вода булькала и пузырилась сверху, снизу, с боков, отовсюду. Это
все -- не из опыта Дэрреля Стэндинга на этом свете. И все же я, Дэррель
Стэндинг, отыскал все это в своем "я", в одиночке Сан-Квэнтина, при помощи
самогипноза. Столь же незначительное отношение к опыту Дэрреля Стэндинга
имело и слово Самария, сорвавшееся с моих детских уст при виде фотографии!..
Из ничего выйдет только ничто! В одиночной камере я не мог создать
тридцать пять фунтов динамита. И в одиночке, из опыта Дэрреля Стэндинга, я
не мог создать эти широкие и далекие видения времени и пространства. Все они
находились в моей душе, и я только что начал в ней разбираться...
Вот каково было мое положение: я знал, что во мне зарыта целая Голконда
воспоминаний о других жизнях, но мог только с бешеной скоростью промчаться
сквозь эти воспоминания. У меня была Голконда -- но я не мог ее
разрабатывать.
Вспоминался мне, например, Стэнтон Мозес, священник, воплощавший в себе
личность св. Ипполита, Плотина, Афинодора и друга Эразма, которого звали
Гроцином. Размышляя об опытах полковника де Рочаса, которыми я зачитывался с
увлечением новичка в прежней, трудовой моей жизни, -- я начинал убеждаться,
что Стэнтон Мозес в своих предыдущих жизнях и был теми самыми лицами,
которыми он в разное время впоследствии был одержим. В сущности это были
звенья цепи его воспоминаний.
Но с особенным вниманием я останавливался на экспериментах полковника
де Рочаса. Он утверждал, что при помощи медиумов ему удалось вернуться
назад, в глубину времен, к предкам этих медиумов. Вот, например, случай с
Жозефиной, описываемый им. Это была восемнадцатилетняя девушка, проживавшая
в Вуароне, в департаменте Изера. Гипнотизируя ее, полковник де Рочас
заставил ее пережить в обратном порядке период ее созревания, ее девичества,
детства, состояние грудного младенца, безмолвный мрак материнского чрева и
еще дальше -- мрак и безмолвие периода, когда она еще даже не родилась,
вплоть до жизни, предшествовавшей ее бытию, когда она жила в образе весьма
сварливого, подозрительного и злобного старикашки, некоего Жан-Клода
Бурдона, который служил в свое время в Седьмом Артиллерийском полку в
Безансоне и скончался в возрасте семидесяти лет, после долгой болезни. Мало
того, полковник де Рочас загипнотизировал и эту тень Жан-Клода Бурдона и
провел ее назад, через детство, рождение и тьму нерожденного состояния, пока
она не ожила в образе злой старухи Филомены Картерон.
Но сколько я ни гипнотизировал себя блестящей соломинкой в моей
одиночке, мне не удалось с такою же определенностью воскресить свои
предшествующие "я". Неудача моих опытов убедила меня в том, что только при
помощи смерти я мог бы отчетливо и связно воскресить воспоминания о моих
бывших "я".
Между тем жизнь бурно предъявляла свои права. Я, Дэррель Стэндинг, до
того не хотел умирать, что не давал смотрителю Этертону и капитану Джэми
убить меня. Я так страстно, всем существом своим хотел жить, что иногда мне
думается -- только по этой причине я еще жив, ем, сплю, размышляю и грежу,
пишу это повествование о моих многоразличных "я", ожидая неизбежной веревки,
которая положит конец непрочному периоду моего существования.
И вот пришла эта смерть при жизни! Я научился проделывать эту штуку.
Как вы увидите, научил меня ей Эд Моррель. Начало всему положили смотритель
Этертон и капитан Джэми. Должно быть, ими овладел новый приступ безумного
страха при мысли о динамите, якобы где-то спрятанном. Они ворвались в мою
темную камеру с угрозами "запеленать" меня до смерти, если я не признаюсь,
где спрятан динамит. И уверяли меня, что сделают это по долгу службы, без
малейшего вреда для своего служебного положения. Мою смерть припишут
естественным причинам.
О, дорогой, закутанный в довольство, точно в вату, гражданин! Поверьте
мне, когда я говорю, что и сейчас людей убивают в тюрьмах, как их убивали
всегда -- с той поры, как люди построили первые тюрьмы!
Я хорошо изведал смертельные муки и опасности "смирительной куртки". О,
эти люди, павшие духом после смирительной куртки! Я их видел. Я видел людей,
на всю жизнь искалеченных курткой. Я видел крепких мужчин, -- таких крепких,
что их организм победоносно сопротивлялся тюремной чахотке; после длительной
порции смирительной куртки сопротивление оказывалось сломленным и они в
каких-нибудь шесть месяцев умирали от туберкулеза. Вот, например, Вильсон
Косоглазый, со слабым сердцем, который скончался в смирительной куртке в
первый же час, в то время как ничего не подозревавший тюремный доктор
смотрел на него и улыбался. Я был свидетелем того, как человек, проведя
полчаса в "куртке", признался и в правде, и в таких вымыслах, которые на
много лет определили его репутацию.
Я сам все это пережил. В настоящий момент добрых полтысячи рубцов
исполосовывают мое тело. Они пойдут со мной на виселицу. Проживи я еще сто
лет, эти рубцы пошли бы со мной в могилу. Дорогой гражданин, разрешающий все
эти мерзости, оплачивающий своих палачей, которые за него стягивают
смирительную куртку, -- может быть, вы незнакомы с этой курткой, или
рубашкой? Позвольте же мне описать ее, чтобы вы поняли, каким способом мне
удавалось осуществить смерть при жизни, делаться временным хозяином времени
и пространства и уноситься за тюремные стены для скитаний меж звездами.
Видели ли вы когда-нибудь брезентовые или резиновые покрывала с медными
петлями, проделанными вдоль краев? В таком случае вообразите себе брезент,
этак в четыре с половиной фута длины, с большими, тяжелыми медными петлями
по обоим краям. Ширина этого брезента никогда не соответствует полному
объему человеческого тела, которое он должен охватить. Ширина к тому же
неодинаковая -- шире всего у плечей, затем у бедер, уже всего в талии.
Куртку расстилают на полу. Человек, которого нужно наказать или предать
пыткам, для того чтобы он сознался, ложится, по приказу, ничком на
разостланный брезент. Если он отказывается это сделать, его избивают. После
этого он уже ложится "добровольно", то есть по воле своих палачей, то есть
-- по вашей воле, дорогой гражданин, прикармливающий и оплачивающий палачей,
чтобы они это делали за вас!
Человек ложится ничком, лицом вниз. Края куртки сближаются возможно
больше посередине спины. Затем в петли пропускается, на манер шнурка от
башмаков, веревка, и человека, по тому же принципу шнурка от башмаков,
стягивают в этом брезенте, но только стягивают куда сильнее, чем башмаки. На
тюремном языке это называется "пеленать". Иногда, если попадаются
мстительные и злые сторожа или же на это отдан приказ свыше, сторож, чтобы
усилить муки, упирается ногой в спину человека, стягивая куртку. Случалось
ли вам когда-нибудь чересчур стянуть башмак и через полчаса ощутить
мучительную боль в подъеме ноги от затрудненного кровообращения? Помните ли
вы, что после немногих минут такой боли вы абсолютно не в состоянии были
сделать шагу и спешили распустить шнурок и уменьшить давление башмака? Так
вот представьте себе, что этаким манером стянуто все ваше тело, но только
неизмеримо туже, и что давление приходится не на подъем одной ноги, но и на
все ваше туловище, что стиснуты чуть ли не до смерти ваше сердце, ваши
легкие, все ваши органы!
Хорошо помню первый раз, когда меня упрятали в карцер и в куртку. Это
было в самом начале моей "неисправимости", вскоре после того, как я поступил
в тюрьму; в это время я отрабатывал свой урок тканья (сто ярдов в сутки) на
джутовой фабрике и оканчивал работу на два часа раньше, чем полагалось.
Вдобавок моя джутовая ткань была много выше того среднего качества, которое
требовалось от арестантов. В первый же раз меня "затянули" в куртку, как
сказано было в тюремной книге, за "прорывы" и "пробелы" в моей ткани, --
короче говоря, потому, что моя работа оказалась с браком. Разумеется, это
вздор. В действительности меня затянули в куртку потому, что я, новый
арестант, знаток производительности труда, искусный эксперт по части
устранения излишних движений в работе, вздумал сказать главному ткачу
несколько истин о его специальности, о которой он не имел понятия; главный
ткач в присутствии капитана Джэми позвал меня к столу, где мне показали
безобразную ткань, которая никоим образом не могла выйти из моего станка.
Три раза меня вызывали к столу таким манером. Третий раз влечет за собой
наказание, по правилам ткацкой. Мне назначили куртку на двадцать четыре
часа.
Меня повели в карцер. Мне приказали лечь ничком на брезент,
разостланный на полу. Я отказался. Один из сторожей, Моррисон, сдавил мне
пальцами горло. Тюремный староста Мобинс, сам каторжник, несколько раз
ударил меня кулаком. В конце концов я лег, как мне приказали, И так как я
разозлил палачей своим сопротивлением, то они стянули меня особенно туго,
потом перевернули на спину, как какое-нибудь бревно.
Поначалу мое положение показалось мне не слишком плохим. Когда они с
шумом и грохотом захлопнули дверь, накинув на нее болт, и оставили меня в
полной темноте, было одиннадцать часов утра. В первую минуту я только ощущал
неудобное давление, которое уменьшится, думал я, когда я привыкну к нему. Но
мое сердце, напротив, колотилось все учащеннее, а легкие уже не в состоянии
были вобрать достаточное количество воздуха. Это чувство удушья вселяло
непобедимый ужас, каждое биение сердца, казалось, грозило разорвать легкие.
После того как прошли часы, -- теперь, после бесчисленных опытов с
курткой, я могу с уверенностью сказать, что на самом деле прошло не более
получаса, -- я начал кричать, вопить, завывать, реветь с безумным
смертельным страхом. К этому меня побуждала неимоверная боль в сердце. Это
была острая, колющая боль, похожая на боль от плеврита, с той лишь разницей,
что она пронизывала самое сердце.
Умереть нетрудно, но умирать таким медленным и страшным образом --
жутко. Как дикий зверь, попавший в западню, я терзался безумными приступами
страха, ревел, завывал, пока не убедился, что от криков у меня только еще
сильнее болит сердце, и притом они уменьшают количество воздуха в моих
легких. Я смирился и долго лежал спокойно -- целую вечность, хотя теперь я
уверен, что прошло не более четверти часа. У меня голова кружилась, я почти
задыхался, сердце колотилось так, что казалось -- вот-вот разорвет брезент,
стягивающий меня. Я вновь потерял самообладание и громко заревел о помощи.
Тут я услышал голос, доносившийся из соседнего карцера.
-- Замолчи! -- кричал кто-то, хотя звуки еле-еле пробивались ко мне. --
Замолчи! Ты мне надоел!
-- Я умираю! -- вопил я.
-- Ударься ухом об пол и забудь! -- был ответ.
-- Но ведь я умираю! -- твердил я.
-- В таком случае из-за чего шуметь? -- отвечал голос. -- Скоро ты
умрешь, и дело с концом. Издыхай, но не шуми. Ты мне портишь мой славный
сон.
Меня так взбесило это бессердечие, что я взял себя в руки и только чуть
слышно стонал. Это длилось бесконечно долго -- вероятно, минут десять, --
затем какое-то щекочущее онемение стало распространяться по всему моему
телу. Ощущение было такое, словно меня кололи иголками и булавками, и пока
длилась эта боль, я оставался спокойным. Но когда прекратились эти уколы
бесчисленных дротиков и осталось одно онемение, с каждой минутой
усиливавшееся, на меня снова напал ужас.
-- Дашь ты мне, наконец, поспать? -- возмутился мой сосед. -- Я в таком
же положении, как и ты! Моя куртка так же крепко стянута, как и твоя, я хочу
уснуть и забыться!
-- А ты давно тут? -- спросил я, полагая, что это новичок, не имеющий
понятия о столетней пытке, пережитой мною.
-- С позавчерашнего дня, -- был ответ.
-- Я хочу сказать -- в куртке, -- поправил я его.
-- С позавчерашнего дня, братец!
-- Боже мой! -- воскликнул я.
-- Да, братец, ровно пятьдесят часов! И смотри, ведь я не кричу! Меня
пеленали, упираясь ногой в мою спину. Меня очень туго стянули, поверь мне!
Ты не один попал в беду. Ты и часу еще не пролежал здесь.
-- Нет, я лежу уже много часов! -- протестовал я.
-- Может быть, тебе так кажется, но это неверно. Говорят тебе, ты здесь
не больше часу. Я слышал, как тебя связывали.
Невероятно! Меньше чем в час я умирал уже тысячу раз! А этот сосед,
такой уравновешенный и равнодушный, со спокойным, почти благодушным голосом,
несмотря на резкость первых своих замечаний, пролежал в смирительной куртке
пятьдесят часов.
-- Сколь ко еще времени тебя продержат? -- спросил я.
-- Одному Богу известно. Капитан Джэми здорово обозлился на меня и
скоро не выпустит, разве что начну подыхать. А теперь, братец, я дам тебе
такой совет: замолчать и забыться! Вытье и крики тебе не помогут.
Единственный способ -- забыться, -- во что бы то ни стало забыться. Начни,
например, вспоминать всех женщин, которых ты знал. Это отнимет у тебя много
часов. Может быть, у тебя голова закружится -- пускай. Нет ничего лучше
этого, чтобы убить время. А когда женщин не хватит, начни думать о парнях, с
которыми они сходились; о том, что бы ты сделал с ними, если бы мог, и что
ты с ними сделаешь, когда доберешься до них.
Этот человек был разбойник из Филадельфии, по прозвищу Красный. Он
отбывал пятьдесят лет за грабеж на улицах Аламеды. В тот момент, когда он со
мной заговорил, он отбыл лет двенадцать своего срока, а это было семь лет
назад. Он был один из сорока вечников, которых выдал Сесиль Винвуд. За это
он был лишен своей "досрочной выслуги". Теперь он пожилой человек и все еще
сидит в Сан-Квэнтине. Если он доживет до момента, когда его выпустят, он к
тому времени будет стариком.
Я выжил свои двадцать четыре часа и стал совершенно другим человеком.
О, не физически, хотя на другое утро, когда меня развязали, я был наполовину
парализован и в таком состоянии изнеможения, что только пинками сторожам
удалось заставить меня встать на ноги. Но я изменился духовно, морально.
Грубая физическая пытка нанесла страшный удар, унизила, оскорбила мою душу и
мое чувство справедливости. Из этой первой "пеленки" я вышел с озлоблением и
ненавистью, которые только росли в последующие годы. Боже, что эти люди
сделали со мной! Двадцать четыре часа в смирительной куртке! В то утро,
когда меня пинками подняли на ноги, я не думал, что наступит время, когда
двадцать четыре часа пребывания в куртке поистине будут пустяком. Что и
после ста часов, проведенных в куртке, меня будут заставать улыбающимся, и
что после д в у х с о т с о р о к а часов в куртке та же улыбка будет играть
на моих губах!
Да, двести сорок часов, дорогой нарядный гражданин, закутанный в свое
благополучие, как в вату! Знаете ли вы, что это значит? Это значит -- десять
дней и десять ночей в смирительной куртке. Разумеется, таких вещей не делают
в христианском мире через тысячу девятьсот лет после Рождества Христова. Я
не прошу вас верить мне. Я сам этому не верю! Я только з н а ю, что со мной
это было сделано в Сан-Квэнтине и что я научился смеяться над палачами и
заставил их послать меня на виселицу за то, что я раскровянил нос сторожу.
Я пишу эти строки в тысяча девятьсот тринадцатом году после Рождества
Христова, и в этот день, в тысяча девятьсот тринадцатом году после Рождества
Христова, люди лежат в смирительных куртках в карцерах СанКвэнтина.
Сколько я ни буду жить, сколько жизней мне ни суждено в грядущем,
никогда мне не забыть моего расставания с разбойником из Филадельфии в то
утро. До этой минуты он провел семьдесят два часа в куртке.
Что, братец, ты еще жив и брыкаешься? -- окликнул он меня, когда меня
потащили из моего карцера в коридор.
-- Замолчи! -- зарычал на него капрал.
-- Об этом забудь, -- был ответ.
-- Я еще доберусь до тебя, Красный, -- пригрозил капрал.
-- Ты так думаешь? -- спросил Красный ласковым тоном, в котором
послышались нотки ярости. -- Ты, старый бродяга, ничего от меня не
добьешься. Ты не мог бы раздобыть себе даже куска хлеба, а не то что
должности, которую ты занимаешь, если бы не беда твоего ближнего. Но мы все
хорошо знаем, как воняет то место, от которого пошла беда твоих ближних!
Это было великолепно -- присутствие духа в человеке, доходящее до
крайнего бесстрашия, несмотря на все страдания и пытки, соединенные с этой
зверской системой.
-- Прощай, братец, -- обратился он ко мне. -- Веди себя хорошо и люби
смотрителей. Скажи им, что ты меня видел, но что я не сдрейфил!
Капрал побагровел от гнева, и мне за шутку Красного досталось несколько
пинков и тумаков.
В одиночной камере No 1 смотритель Этертон и капитан Джэми продолжали
пытать меня. Смотритель Этертон говорил мне:
-- Стэндинг, ты признаешься насчет этого динамита, или я уморю тебя в
смирительной куртке. Куда более строптивые малые признавались прежде, чем я
разделывался с ними окончательно. Вот тебе на выбор -- динамит или
"пеленки".
-- Пусть будут "пеленки", -- отвечал я. -- Я ничего не знаю ни о каком
динамите.
Это до такой степени взбесило смотрителя, что он ощутил потребность в
немедленных действиях.
-- Ложись, -- скомандовал он.
Я повиновался, ибо отлично знал, что было бы безумием сопротивляться
трем или четырем здоровым мужчинам. Меня крепко скрутили и оставили на сто
часов. Три раза в сутки мне давали глоток воды. Есть мне не хотелось, да мне
и не предлагали еды. К концу ста часов тюремный врач Джексон несколько раз
выслушивал и выстукивал меня.
Но я так привык к смирительной рубашке за время моей "неисправимости",
что одна порция "пеленок" не могла уже причинить мне серьезного вреда!
Разумеется, "пеленки" ослабляли меня, выгоняли из меня жизнь; но я научился
кое-каким мускульным фокусам, которые позволяли "уворовать" немножко
пространства, когда меня связывали. По истечении первой порции в сто часов я
был измотан, измучен -- но и только.
Мне отпустили новую порцию такой же продолжительности, дав передохнуть
день и ночь. Затем меня связали на сто пятьдесят часов.
Значительную часть этого времени я пролежал в оцепенении и в бреду.
Кроме того, усилием воли я заставил себя проспать довольно много часов.
После этого смотритель Этертон внес в пытку некоторое разнообразие. Он
чередовал "пеленки" и отдых неправильными промежутками времени. Я никогда не
знал наперед, когда меня стянут "пеленками". Так, мне давали отдохнуть
десять часов и на двадцать часов затягивали в рубашку; или же давали только
четыре часа отдыха. В самые неожиданные часы ночи дверь моя с грохотом
распахивалась, и дежурные сторожа связывали меня. Иногда в этом наблюдался
своеобразный ритм. Так, в течение трех дней и ночей я получал попеременно
восемь часов куртки и восемь часов отдыха. Как только я привык к этому
ритму, его внезапно переменили и связали меня на двое суток. И вечно мне
ставился один и тот же вопрос: "Где динамит?" Иногда смотритель Этертон
положительно выходил из себя. Однажды, когда я только что перенес необычайно
суровую пытку в "пеленках", он чуть ли не умолял меня признаться; а раз он
обещал мне три месяца больницы в полном покое и на отличном питании, а затем
место хранителя библиотеки.
Доктор Джексон -- плюгавое создание с самыми поверхностными
медицинскими познаниями -- был настроен скептически. Он настаивал, что
смирительная куртка, сколько меня в ней ни держать, не может убить меня. И
это побуждало смотрителя продолжать свои пытки.
-- Эти тощие университетские молодчики способны надуть самого сатану!
-- ворчал он. -- Они крепче сыромятной кожи! Однако мы его сломим. Стэндинг,
выслушай меня! То, что ты получал до сих пор, даже не намек на то, что ты
получишь! Лучше сознайся сейчас и избавь себя от хлопот. Я -- господин
своего слова. Ты слышал, что я тебе сказал -- динамит или "пеленки". Так оно
и будет. Выбирай!
-- Неужели вы думаете, что я терплю такие муки потому, что мне это
нравится? -- сказал я, внезапно охнув, ибо в это мгновение Пестролицый Джон
уперся в мою спину ногой, чтобы потуже стянуть, а я всячески старался
уворовать у него хоть кусочек пространства, отчаянно работая мускулами. --
Признаваться мне не в чем. Да я дал бы отрезать сейчас свою правую руку,
чтобы иметь возможность показать вам какой-нибудь динамит!
-- Знаем мы вас, образованных, -- оскалился насмешливо смотритель. --
Уж если вы заберете себе что-нибудь в голову, то никаким чертом не
выколотишь. Норовисты, как лошадь... Потуже, Джонс, -- ты и наполовину не
стянул его... Стэндинг, если не признаешься, будут "пеленки". Мое слово
крепко!
Я сделал одно утешительное открытие: по мере того как человек
ослабевает, он становится менее чувствительным к страданиям. Боль
уменьшается, потому что почти нечему болеть. А человек, однажды ослабев,
затем ослабевает уже медленнее. Вещь общеизвестная, что очень крепкие люди
сильнее страдают от обыкновенных болезней, чем женщины или слабые мужчины.
По мере того как истощаются запасы сил, меньше остается терять. После того
как излишняя плоть сойдет с человека, остается жилистый и неподатливый
материал. Так было со мной -- я представлял собой какой-то организм из жил,
настойчиво продолжавший жить.
Моррель и Оппенгеймер жалели меня и выстукивали свое сочувствие и
советы. Оппенгеймер уверял меня, что сам прошел через это и даже худшее, а
вот же остался жив...
-- Не давай им извести себя! -- выстукивал он мне. -- Не давай им убить
себя, это будет им на руку! А главное, не проболтайся о складе динамита.
-- Да ведь нет никакого склада, -- выстукивал я в ответ краем подошвы
моего башмака о решетку. Я все время лежал в смирительной куртке и мог
разговаривать только ногами. -- Я ничего не знаю об этом проклятом динамите!
-- Ладно! -- одобрительно заметил Оппенгеймер. -- Он из настоящего
теста, не правда ли, Эд?
Из этого видно, как мало было шансов убедить смотрителя Этертона в
своем полном незнании чего бы то ни было о динамите. Его настойчивость в
вопросах убедила даже такого человека, как Джек Оппенгеймер, который только
восхищался мужеством, с каким я держал язык за зубами!
В этот первый период пытки смирительной рубашки я умудрялся много
спать. Сны были замечательны. Разумеется, они все носили очень живой и
реальный характер, как почти все сны. Но замечательна была их связность и
непрерывность. Часто я читал доклады в собраниях ученых на отвлеченные темы,
читал тщательно разработанные статьи о моих исследованиях или о выводах из
исследований и экспериментов других ученых. Просыпаясь, я еще слышал свой
голос, а глаза мои отчетливо видели напечатанные на белой бумаге фразы и
абзацы, которые я неоднократно перечитывал и которым дивился, пока видение
не исчезало. Между прочим, должен отметить свое наблюдение, что во время
своих речей во сне я пользовался исключительно дедуктивным методом
рассуждения.
Затем мне снились огромные земледельческие районы, тянувшиеся на север
и юг на много сотен миль в одном из умеренных поясов, по климату, флоре и
фауне сильно походившем на Калифорнию. Не раз и не два, но тысячи раз я
странствовал во сне по этим областям. Я хочу подчеркнуть, что это всегда
были одни и те же места. В этих снах ни разу не менялись их существенные
черты. Я помню, что всегда совершал восьмичасовую поездку на тележке,
запряженной горными конями, с лугов, поросших альфой, где паслись коровы
джерсейской породы, к деревне, разбросанной у большого пересохшего ручья,
где я садился в маленький поезд узкоколейки. Каждая межа, каждая
возвышенность, попадавшаяся мне во время восьмичасовой поездки в горной
тележке, каждое дерево, каждая горка, каждый кряж и горный склон были всегда
одни и те же.
В этой связной картине моих бредовых снов детали менялись в зависимости
от времени года и труда людей. Так, на горном пастбище за моими лугами альфы
я разводил стада ангорских коз. Здесь с каждым новым посещением во сне я
замечал перемены -- и эти перемены соответствовали времени, протекшему между
этими посещениями.
О, эти заросшие кустарником склоны! Я их вижу теперь так же живо, как в
тот день, когда я впервые гнал сюда коз. И как хорошо я помню последующие
перемены -- как постепенно образовывались тропинки, по мере того как козы
буквально выедали себе дорогу в густых чащах; как исчезал молодой мелкий
кустарник, как во всех направлениях в старых, высоких кустарниках
образовывались просеки благодаря тому, что козы объедали деревья до самого
верху, становясь на задние ноги. Да, непрерывность этих снов составляла их
главную прелесть... Помню день, когда люди с топорами посрубали все высокие
кусты, чтобы дать козам доступ к листьям, почкам и коре. Помню зимний день,
когда обнаженный скелет этих кустов был собран в кучу и сожжен. Помню день,
когда я погнал моих коз на другой, поросший непроницаемым кустарником,
горный склон, а следом за нами шел крупный скот по колено в сочной траве,
выросшей на том месте, где раньше рос один лишь кустарник. Помню день, когда
я гнал скот, а мои пахари ходили взад и вперед по горному склону, взрывая
жирную плодородную почву и бросая в нее семена.
Сколько раз в своих снах я выходил из маленького вагона узкоколейки,
брел к деревушке, разбросанной у большого пересохшего ручья, садился в
тележку, запряженную горными конями, и час за часом ехал мимо старых
знакомых отметин, по моим лугам альфы, все выше, на горные пастбища,
попеременно засеянные маисом, ячменем и клевером, уже поспевшими для жатвы.
Я наблюдал за работниками, убиравшими хлеб, а дальше паслись мои козы,
забираясь все выше и выше и превращая поросший кустарником склон в
расчищенные и возделанные поля.
Но это были сны -- только сны! Воображаемые приключения
подсознательного ума. Совершенно непохожи на них были, как вы увидите,
другие мои приключения, когда я заживо прошел врата смерти и вновь пережил
жизнь, бывшую моим уделом когда-то далеко в прошлом.
В долгие часы бодрствования в смирительной куртке я не раз думал о
Сесиле Винвуде, поэте-доносчике, который легкомысленно навлек на меня все
эти муки, а сам в этот момент находился на свободе, на вольном свете. Нет, я
не ненавидел его. Это слишком слабое слово. Нет слов в человеческом языке,
которые могли бы выразить мои чувства! Могу только сказать, что я познал
грызущую тоску о мщении -- эта тоска невероятно мучительная и не поддается
никакому описанию. Не стану рассказывать вам о том, как я целыми часами
строил планы пыток для Винвуда, о сатанинских приемах пытки, какие я
изобретал для него. Приведу только один пример. Я облюбовал старинную пытку,
заключавшуюся в том, что железную чашку с крысой прижимают к телу человека.
Крыса только одним путем может выйти на волю -- с к в о з ь человека.
Повторю, я был в л ю б л е н в эту идею -- пока не сообразил, что это была
бы слишком скорая смерть, после чего стал подолгу и любовно останавливаться
мыслью на мавританской пытке... но нет, я ведь обещал не распространиться об
этом предмете. Довольно будет сказать, что безумно-мучительные часы моего
бодрствования в значительной мере были посвящены мечтам о мщении Сесилю
Винвуду.
За долгие тягостные часы моего бодрствования я узнал одну очень ценную
вещь, именно -- познакомился с властью души над телом. Я научился страдать
пассивно, -- чему, вероятно, научились и все люди, проходившие
послеуниверситетский курс смирительной рубашки. О, не так легко, как вы
думаете, поддерживать мозг в таком ясном спокойствии, чтобы он совершенно
забывал о неустанной, отчаянной жалобе пытаемых нервов!
И эта власть духа над плотью, приобретенная мною, дала мне возможность
без труда проделать над собой опыт, которым Эд Моррель поделился со мной.
-- Ты, надо полагать, в "пеленках"? -- простучал мне как-то ночью Эд
Моррель.
Меня только что развязали после сточасовой порции, и на этот раз я
ослабел больше, чем когда бы то ни было прежде. Я был так слаб, что, хотя
все мое тело представляло сплошную массу ссадин и кровоподтеков, я едва
сознавал, что у меня есть тело.
-- Похоже на "пеленки", -- простучал я в ответ. -- Они меня доконают,
если будут продолжать в этом роде.
-- Не поддавайся, -- советовал он. -- Есть способ! Я научился этому в
карцере, когда мы с Масси получили полную порцию. Я выдержал, а Масси
скапутился. Не научись я этому фокусу, я окочурился бы вместе с ним. Прежде
чем попробовать э т о, ты должен хорошо ослабеть. Если ты попытаешься, не
ослабев совсем, то срежешься, и это испортит тебе музыку навсегда. Я сделал
оплошность с Джеком. Он попробовал эту штуку, когда был еще в силе.
Разумеется, он потерпел неудачу, а когда это ему понадобилось, то было уже
поздно: первая неудача все испортила. Теперь он не верит этому, он думает,
что я его морочу. Не правда ли, Джек?
И Джек простучал в ответ из камеры No 13:
-- Не слушай его, Дэррель! Это просто сказки!
-- Продолжай рассказывать, -- простучал я Моррелю.
-- Вот почему я ждал, пока ты как следует ослабнешь, -- продолжал
Моррель, -- теперь это тебе нужно, я расскажу. Так вот, если у тебя есть
сила воли, ты это сделаешь; я проделал три раза и знаю, что это возможно.
-- В чем же дело? -- нетерпеливо выстукивал я.
-- Штука заключается в том, чтобы умереть в "пеленках", з а х о т е т ь
умереть! Я знаю, ты еще не понимаешь, но погоди. Ведь тебе случалось онеметь
в "пеленках" -- засыпает, например, рука или нога. Бороться с этим ты не
можешь, ты ухватись за это и усовершенствуй. Ты не жди, пока у тебя заснут
ноги или что-нибудь другое. Ты лежи на спине как можно спокойнее и начинай
упражнять свою волю. Думай об этом непрерывно, все время, и все время ты
должен верить тому, о чем будешь думать. Если не веришь -- ничего не
добьешься. А думать и верить ты должен вот во что: тело твое -- одно, а душа
-- совсем другое! Ты -- это ты, а тело -- нечто другое, не стоящее гроша.
Тело твое в счет не идет. Ты -- хозяин! Ты не нуждаешься в теле. Думая об
этом и веруя, ты докажешь это напряжением своей воли. Ты заставишь свое тело
умереть.
-- Начинаешь ты с пальцев ноги, по одному в раз. Ты заставляешь умереть
свои пальцы. Ты х о ч е ш ь, чтобы они умерли. И если у тебя есть вера и
воля, то пальцы умрут. В этом самое главное -- н а ч а т ь умирание. Раз ты
умертвил первые пальцы, остальное дается легко, и верить тебе уже не нужно
-- ты з н а е ш ь. Затем ты вкладываешь всю свою волю в желание умертвить
остальное тело. Говорят тебе, Дэррель, я знаю это наверное! Я сам проделывал
это целых три раза.
-- И раз ты начал умирание, дальше пойдет как по маслу. И всего
забавнее, что все это время ты тут же присутствуешь! То, что твои пальцы
мертвы, нисколько не делает тебя мертвым. Понемногу твои ноги умирают до
колен, затем ляжки -- а ты все время тут! Тело твое уходит из жизни по
кусочкам, а ты -- это ты, каким был перед тем, как начал.
-- А что же дальше? -- допытывался я.
-- И вот когда твое тело совсем умрет, а ты еще тут, ты просто-напросто
выходишь из своего тела, покидаешь его. А раз ты покинул тело. ты покинешь и
камеру. Каменные стены и железная дверь сделаны для того, чтобы удержать
тело, но они не могут удержать душу. Ты -- дух вне своего тела. Ты можешь
взглянуть на свое тело со стороны. Говорят тебе, я это з н а ю, ибо
проделывал три раза, смотрел на свое тело, лежащее где-то в стороне от меня.
-- Ха-ха-ха! -- застучал Джек Оппенгеймер, лежащий в тринадцатой камере
от нас.
-- Видишь ли, вся беда Джека в том, -- продолжал Моррель, -- что он не
может поверить. В тот единственный раз, когда он попробовал, он был еще
слишком крепок, и ему не удалось. И теперь он думает, что я шучу.
-- Когда ты умираешь, ты мертв; а мертвые люди и остаются мертвыми, --
возразил Оппенгеймер.
-- Говорят тебе -- я умирал трижды, -- настаивал Моррель.
-- И дожил до того, что рассказываешь нам об этом? -- издевался
Оппенгеймер.
-- Но ты вот чего не забывай, Дэррель, -- продолжал выстукивать Моррель
по моему адресу. -- Это дело щекотливое, у тебя все время такое чувство,
словно ты играешь с огнем. Не могу тебе объяснить хорошенько, но мне всегда
кажется, что если я буду отсутствовать в тот момент, когда придут и выпустят
мое тело из "пеленок", то не смогу попасть в него обратно. Я хочу сказать:
мое тело умрет навсегда. А мне не хотелось бы умереть, мне не хотелось бы
доставить капитану Джэми это удовольствие. Но говорю тебе, Дэррель, если ты
научишься этой штуке, ты можешь плюнуть на смотрителя. Раз ты заставишь свое
тело умереть, тебе уже все равно, будут ли тебя держать в "пеленках" хоть
целый месяц подряд. Ты нисколько не страдаешь. И тело твое не болит. Знаешь,
бывают случаи, когда люди спят целый год сряду. Так вот это самое будет
происходить с тобой, когда твое тело умрет. Оно просто остается в "пеленках"
и ждет твоего возвращения. Ты попробуй, я тебе даю дельный совет.
-- А если он не вернется? -- спросил Оппенгеймер.
-- Тогда над ним посмеются, пожалуй, -- отвечал Моррель, -- а может
быть, посмеются над нами, что мы тянем старую лямку, когда легко могли бы
избавиться от нее.
На этом разговор закончился, ибо Пестролицый Джонс очнулся от своей
дремоты и пригрозил Моррелю и Оппенгеймеру, что утром пожалуется на них, а
это значило, что их "спеленают"; мне он не грозил, ибо знал, что я все равно
обречен "пеленкам". Долго лежал я в молчании, забыв о физических муках, и
все думал о предложении, сделанном Моррелем. Как я уже говорил, посредством
самогипноза я пытался проникнуть в прошлое, в свое предыдущее существование.
Я знал, что отчасти мне это удалось; но то, что я переживал, носило характер
бессвязных видений.
Предлагаемый же Моррелем метод настолько не походил на мой метод
самогипноза, что просто очаровал меня. По моему способу, первым от меня
уходило сознание; по его же способу -- сознание исчезало последним, и когда
мое сознание уйдет, оно должно будет перейти в такую стадию, что покинет
тело, покинет Сан-Квэнтинскую тюрьму, будет странствовать в далеких
просторах -- и притом оставаться сознанием.
Попытаться, во всяком случае, стоило. Так я решил, и несмотря на
привычный мне скептицизм ученого -- я поверил. Я не сомневался, что смогу
проделать то, что Моррель проделывал трижды. Может быть, я так легко поверил
потому, что страшно изнемог физически. Может быть, во мне не оставалось уже
сил для скептицизма. Такую именно гипотезу и развивал ведь Моррель.
Это был чисто эмпирический вывод, и, как вы увидите ниже, я доказал его
эмпирически.
В довершение всего на следующее утро смотритель Этертон ворвался в мою
камеру с явным намерением убить меня. С ним были капитан Джэми, доктор
Джексон, Пестролицый Джонс и Эль Гетчинс. Эль Гетчинс отбывал сорокалетний
срок заключения и надеялся на помилование. Вот уже четыре года, как он был
главным "старостой" арестантов Сан-Квэнтина. Вы поймете, какой это был
важный пост, если я вам скажу, что одни взятки главному старосте исчислялись
в три тысячи долларов в год. Вследствие этого Эль Гетчинс, обладавший
десятью или двенадцатью тысячами долларов капитала и обещанием помилования,
слепо повиновался смотрителю, который мог смело на него рассчитывать. Я
только что сказал, что смотритель Этертон вошел в мою камеру с намерением
убить меня. Последнее было написано на его лице, и он доказал это своими
действиями.
-- Исследуйте его! -- приказал он доктору Джексону.
Это жалкое подобие человека стащило с меня заскорузлую от грязи
рубашку, которую я носил с момента поступления в одиночку, и обнаружил мое
жалкое тело -- кожа сморщилась бурыми пергаментными складками над ребрами и
была сплошь в ссадинах от стягивания курткой. Медицинский осмотр был
произведен бесстыдно поверхностно.
-- Выдержит? -- спросил смотритель
-- Да, -- ответил доктор Джексон.
-- А как сердце?
-- Великолепно!
-- Вы думаете, он выдержит, доктор?
-- Без сомнения.
-- Я не верю этому, -- свирепо огрызнулся смотритель, -- но мы все же
попробуем. Ложись, Стэндинг! -- Я повиновался и лег ничком на разостланный
брезент. Смотритель с минуту, казалось, колебался. -- Перевернись! --
скомандовал он.
Я несколько раз пытался это сделать, но слишком ослабел и мог только
беспомощно ерзать по полу.
-- Притворяется, -- объяснил Джексон.
-- Ну, он забудет притворяться, когда я с ним разделаюсь по-свойски, --
заметил смотритель. -- Помогите ему: я не могу тратить на него много
времени!
Меня положили на спину, и я увидел прямо над собой лицо смотрителя
Этертона.
-- Стэндинг, -- медленно заговорил он. -- Я устал, мне надоело твое
упрямство, терпение мое истощилось. Доктор Джексон говорит, что ты в
состоянии провести десяток суток в куртке. Взвесь свои силы. Теперь я даю
тебе последний шанс. Признайся насчет динамита. В ту же минуту, как он будет
в моих руках, я выпущу тебя отсюда. Ты сможешь принять ванну, побриться,
одеться в чистое платье. Я дам тебе бездельничать шесть месяцев на
больничном пайке, а затем сделаю тебя хранителем библиотеки. Ты не можешь
требовать от меня большего! Кроме того, ты ведь ни на кого не доносишь. Ты
-- единственный человек в Сан-Квэнтине, знающий, где находится динамит. Ты
никому не повредишь, уступив мне, и тебе будет хорошо с той минуты, как ты
признаешься. Если же ты откажешься...
Он помолчал, многозначительно пожав плечами.
-- Что ж, если ты откажешься, так лучше тебе сейчас начинать свои
десять дней!
Перспектива была чудовищная. Я так ослабел, что был уверен не меньше
смотрителя, что новая порция куртки означает для меня верную смерть. И тут я
вспомнил о фокусе Морреля. Вот когда он нужен был мне; вот когда время
испытать свою веру в этот прием! Я усмехнулся прямо в лицо Этертону. Я
вложил веру в эту улыбку, вложил веру в предложение, которое сделал ему.
-- Смотритель, -- начал я, -- видите: я улыбаюсь. Так вот, если через
десять дней, когда вы меня развяжете, я улыбнусь таким же манером, дадите ли
вы пачку табаку и книжку папиросной бумаги Моррелю и Оппенгеймеру?
-- Ну, не сумасшедшие ли они, эти университетские парни? -- прохрипел
капитан Джэми.
Смотритель Этертон был человек холерического темперамента. Он принял
мое предложение как оскорбительную браваду.
-- За это ты получишь лишнюю затяжку! -- объявил он мне.
-- Я сделал вам хорошее предложение, смотритель, -- возразил я. --
Можете стягивать меня, как вам будет угодно, но если через десять дней я
буду улыбаться, дадите вы табаку Моррелю и Оппенгеймеру?
-- Как ты уверен в себе!
-- Оттого я и делаю это предложение.
-- Верующий, а? -- насмешливо спросил он.
-- Нет, -- ответил я, -- просто случилось так, что во мне больше жизни,
чем вы можете отнять у меня! Стяните меня хоть на сто дней, и через сто дней
я буду так же улыбаться.
-- Я думаю, десяти дней будет более чем достаточно, Стэндинг!
-- Так вы полагаете? -- отвечал я. -- Вы в это верите? Если верите, то
вы не потеряете даже стоимости этих двух пятицентовых пачек табаку. В конце
концов, чего вы боитесь?
-- За два цента я сворочу тебе физиономию! -- прорычал он.
-- Не пугайте! -- с вежливой наглостью продолжал я. -- Бейте меня
сколько хотите, а на лице у меня останется довольно места для улыбки. Но раз
вы колеблетесь -- примите мое первоначальное предложение!
Нужно было сильно ослабеть или находиться в полном отчаянии, чтобы в
одиночной камере говорить таким тоном со смотрителем. Но я верил и
действовал по моей вере. Я верил тому, что Моррель рассказал мне. Я верил в
господство духа над телом. Я верил, что даже сто дней, проведенных в куртке,
не убьют меня!
Должно быть, капитан Джэми почувствовал эту веру, ибо он промолвил:
-- Я помню, лет двадцать назад сошел с ума один швед. Это было еще до
вашего поступления сюда, смотритель. Он убил человека в ссоре из-за двадцати
пяти центов. Его приговорили к пожизненному заключению. Он был повар и
верующий человек. Он объявил вдруг, что к нему спускается колесница, чтобы
унести его на небо, сел на раскаленную докрасна плиту и распевал гимны и
осанны, поджариваясь на ней! Его стащили с плиты и через два дня он умер в
больнице. Он прожарился до костей и до конца продолжал клясться, что даже не
почувствовал огня! У него ни разу не вырвалось стона!
-- Мы заставим стонать Стэндинга! -- проговорил смотритель.
-- Раз вы так уверены в этом, почему бы вам не принять моего
предложения? -- вызывающе спросил я.
Смотритель пришел в такую ярость, что я захохотал бы, если бы не мое
бедственное положение. Лицо его судорожно исказилось, он стиснул кулаки, и
мне казалось, что вот он кинется на меня и изобьет. Но он, сделав усилие,
овладел собой.
-- Ладно, Стэндинг, -- пробурчал он. -- Я согласен. Но знай, тебе
придется много вынести до того, как улыбнуться через десять дней!
Переверните его, ребята, и стягивайте, пока у него ребра не затрещат.
Гетчинс, покажи ему, что ты знаком с этим делом!
Меня перевернули и стянули так крепко, как ни разу еще не стягивали.
Без сомнения, главный староста показывал свое усердие! Я старался украсть
кусочек пространства. Оно было очень невелико, ибо я давно уже потерял жир и
мясо, и мускулы мои превратились в какие-то веревочки. Мне удалось уворовать
самую крошечку места, и то ценой невероятного напряжения сил. Но и этого
места меня лишил Гетчинс, который в свое время, до того как он сделался
старостой, имел богатый опыт по части смирительной куртки.
Видите ли, Гетчинс был собакой в душе, хотя когда-то был человеком. Он
обладал десятью или двенадцатью тысячами долларов, и его ждала свобода при
условии беспрекословного исполнения приказаний. Позднее я узнал, что его
ждала преданная ему девушка. Женщина многое объясняет в поступках людей!
Если когда-либо человек совершил предумышленное убийство, то такое
убийство совершил в это утро в одиночной камере Гетчинс по приказу
смотрителя. Он лишил меня ничтожного пространства, которое я себе отвоевал!
И, лишив меня его, при полной моей беспомощности, он уперся ногой мне в
спину и так крепко стянул, как никому еще не удавалось до него. Мне
казалось, что я сейчас умру; но чудо веры оставалось со мной. Я не верил,
что я умру! Я знал, -- да, повторяю, знал, что не умру. В голове у меня
шумело, сердце яростно колотилось, и толчки отдавались во всем моем теле от
конца пальцев на ногах до корней волос на голове.
-- Довольно туго, -- неохотно заметил капитан Джэми.
-- Черта с два! -- возразил Джексон. -- Говорят вам, на него ничто не
действует. Он колдун! Ему давно пора быть на том свете!
С невероятными усилиями смотритель Этертон протиснул указательный палец
между шнуровкой и моей спиной. Он поставил на меня ногу и налег всем телом,
но не мог прощупать ни крохи свободного пространства.
-- Снимаю перед тобой шапку, Гетчинс! Ты знаешь свое дело. Теперь
переверни, и мы полюбуемся им!
Меня перевернули на спину. Я уставился на смотрителя выкатившимися
глазами. Одно я знаю наверное: если бы меня так же крепко спеленали в первый
раз, я, конечно, скончался бы в первые же десять минут. Но теперь я был
вытренирован. За мной была тысяча часов лежания в смирительной куртке; мало
того, со мной была вера, которую вселил в меня Моррель.
-- Теперь смейся, проклятый, смейся! -- говорил смотритель. --
Показывай же улыбку, которой ты похвалялся!
И хотя мои легкие задыхались от недостатка воздуха и сердце, казалось,
вот-вот разорвется, хотя в голове мутилось, -- тем не менее я усмехнулся
прямо в рожу смотрителю Этертону!
Хлопнула дверь, оставив самую узкую полоску света. Я остался лежать на
спине в одиночестве. При помощи уловки, к которой я давно приспособился,
находясь в смирительной куртке, я, извиваясь, подобрался, по дюйму в один
прием, до двери, пока краем подошвы моего правого башмака не коснулся ее. Я
испытал при этом неимоверное облегчение. Я был теперь не совсем одинок! В
случае необходимости я мог перестукнуться с Моррелем.
Но, должно быть, смотритель Этертон отдал строгие приказания сторожам;
ибо хотя мне и удалось вызвать Морреля и сообщить ему, что я намерен
произвести известный ему опыт, сторожа не дали ему ответить. Меня они могли
только ругать; пока я находился в смирительной куртке, я мог не бояться
никаких угроз.
Должен заметить, что все это время мой дух хранил полную ясность.
Обычная боль терзала меня, но дух мой сделался настолько пассивен, что я так
же мало замечал эту боль, как пол под собой или стены вокруг. Трудно было
придумать более подходящее умственное и душевное состояние для задуманного
эксперимента. Разумеется, все это обусловливалось моей крайней слабостью. И
не только этим. Я давно уже чувствовал себя готовым на все. Я не испытывал
ни сомнений, ни страха. Все содержание моей души превратилось в абсолютную
веру в господство разума. Эта пассивность была похожа на грезу и доходила
положительно до экзальтации.
Я начал сосредоточивать свою волю. Тело мое находилось в онемении,
вследствие нарушенного кровообращения у меня было такое чувство, словно меня
кололи тысячами иголок. Я сосредоточил свою волю на мизинце правой ноги и
приказал ему перестать существовать в моем сознании. Я хотел, чтобы этот
мизинец умер, -- умер, поскольку дело касалось меня, его владыки --
существа, от него совершенно отличного. Это была тяжелая борьба. Моррель
предупредил меня, что так и будет. Но я не сомневался. Я знал, что этот
палец умрет, и заметил, что он умер. Сустав за суставом умирали под
действием моей воли.
Дальше дело пошло легче, но медленно. Сустав за суставом, палец за
пальцем -- все пальцы обеих моих ног перестали существовать. Сустав за
суставом -- процесс продолжался дальше. Наступил момент, когда перестали
существовать мои ноги у лодыжек. Наступил момент, когда уже перестали
существовать мои ноги ниже колен.
Я находился в такой экзальтации, что не испытывал даже проблеска
радости при этих успехах. Я ничего не сознавал, кроме того, что заставляло
мое тело умирать. Все, что оставалось от меня, было посвящено этой
единственной задаче. Я делал это дело так же основательно, как каменщик
кладет кирпичи, и смотрел на все это как на вещь столь же обыкновенную, как
для каменщика кладка кирпичей.
Через час мое тело умерло до бедер, и я продолжал умерщвлять его все
выше и выше.
Только когда я достиг уровня сердца, произошло первое помутнение моего
сознания. Из страха, как бы не лишиться сознания, я приказал смерти
остановиться и сосредоточил свое внимание на пальцах рук. Мозг мой опять
прояснился, и умирание рук до плеч совершилось поразительно быстро.
В этой стадии все мое тело было мертво по отношению ко мне, кроме
головы и маленького участка груди. Биение и стук стиснутого сердца уже не
отдавались в моем мозгу. Сердце мое билось правильно, но слабо. И если бы я
позволил себе испытать радость, то эта радость покрыла бы все мои ощущения.
В этом пункте мой опыт отличается от опыта Морреля. Автоматически
продолжая напрягать свою волю, я впал в некоторую дремоту, которую
испытывает человек на границе между сном и пробуждением. Мне стало казаться,
что произошло огромное расширение моего мозга в черепе, хотя самый череп не
увеличился. Были какието мелькания и вспышки, и даже я, верховный владыка,
на мгновение перестал существовать, но в следующий миг воскрес, все еще
жильцом плотского обиталища, которое я умерщвлял.
Больше всего меня смущало кажущееся расширение мозга. Он не вышел за
пределы черепа, и все же мне казалось, что поверхность его находится вне
моего черепа и продолжает расширяться. Наряду с этим появилось самое
замечательное из ощущений, какие я когда-либо испытывал. Время и
пространство, поскольку они составляли содержание моего сознания,
подверглись поразительному расширению. Не открывая глаз, чтобы проверить
это, я положительно знал, что стены моей тесной камеры расступились, я
очутился в какой-то огромной аудитории и знал, что они продолжают
расступаться. Мне пришла в голову капризная мысль, что если такое же
расширение произойдет со всей тюрьмой, то в таком случае наружные стены
Сан-Квэнтина должны будут отодвинуться в Тихий океан с одной стороны, а по
другую сторону -- стены достигнут пустынь Невады. И тут же у меня возникла
другая мысль, что раз материя может проникать в другую материю, то стены
моей камеры могут пройти сквозь тюремные стены, и таким образом моя камера
окажется вне тюрьмы, и я буду на свободе! Разумеется, это была чистая
фантазия, и я все время сознавал, что это фантазия.
Столь же замечательно было и расширение времени. Сердце мое билось
теперь с большими промежутками. Опять у меня мелькнула капризная мысль -- и
я медленно и упорно стал считать секунды, разделявшие биения сердца.
Вначале, как я отчетливо заметил, между двумя биениями сердца проходило
больше сотни секунд. Но по мере того, как я продолжал счет, промежутки
настолько расширились, что я соскучился считать.
И в то же время, как эти иллюзии времени и пространства упорствовали и
росли, я поймал себя на том, что полусонно разрешаю новую глубокую проблему.
Моррель говорил мне, что он освободился от своего тела, убив его -- или
выключив тело из своего сознания, что по результату одно и то же. Теперь мое
тело было настолько близко к полному умерщвлению, что я знал с совершенной
уверенностью: одно быстрое сосредоточение воли на еще живом участке моей
груди -- и оно перестанет существовать. Но тут возникла проблема, о которой
Моррель не предупредил меня: должен ли я умертвить свою голову? Если я это
сделаю, что будет с духом Дэрреля Стэндинга? Не останется ли тело Дэрреля
Стэндинга на веки веков мертвым?
И я проделал опыт с грудью и медленно бьющимся сердцем. Быстрый нажим
моей воли был вознагражден. У меня уже не было ни груди, ни сердца! Я был
теперь только ум, дух, сознание -- назовите как хотите, -- воплощенное в
туманный мозг, который еще помещался внутри моего черепа, но расширялся и
продолжал расширяться в пределах этого самого черепа.
И вдруг, в мельканиях света, я улетел прочь! Одним скачком я
перепрыгнул крышу тюрьмы и калифорнийское небо и очутился среди звезд. Я
обдуманно говорю "звезд". Я странствовал среди звезд и видел себя ребенком.
Я был одет в мягкие шерстяные и нежно окрашенные одежды, мерцавшие в
холодном свете звезд. Разумеется, внешний вид этих одежд объяснялся моими
детскими впечатлениями от цирковых артистов и детскими представлениями об
одеянии ангелочков.
Как бы то ни было, в этом одеянии я ступал по межзвездным
пространствам, гордый сознанием, что переживаю какое-то необычайное
приключение, в конце которого открою все формулы космоса и выясню себе
конечную тайну Вселенной. В руке у меня был длинный стеклянный жезл.
Кончиком этого жезла я должен был коснуться мимоходом каждой звезды. И я
знал с полной уверенностью, что если я пропущу хоть одну звезду, то буду
низвергнут в некую бездну в виде кары за непростительную вину.
Долго продолжались мои звездные скитания. Когда я говорю "долго", то вы
должны принять во внимание неимоверное расширение времени в моем мозгу.
Целые столетия я блуждал по пространствам, задевая на ходу рукой и кончиком
жезла каждую попадающуюся звезду. Путь мой становился все светлее.
Неисповедимая цель бесконечной мудрости приближалась. И я не делал ошибки.
Это не было мое другое "я". Это не было тем переживанием, которое я
испытывал раньше. Все это время я сознавал, что я -- Дэррель Стэндинг --
странствую среди звезд и ударяю по ним стеклянным жезлом. Короче говоря, я
знал, что в этом не было ничего реального, ничего, что когда-либо было или
могло быть. Я знал, что все это смешная оргия воображения, которой люди
предаются под влиянием наркотиков, в бреду или в обыкновенной дремоте.
И вот когда все так удачно складывалось в моих небесных исканиях,
кончик моего жезла не коснулся одной из звезд -- я почувствовал, что
совершил страшное преступление, -- в то же мгновение сильный, неумолимый и
повелительный удар, как топот железного копыта Рока, обрушился и грохотом
отдался по Вселенной! Все звезды ярко засверкали, зашатались и провалились в
огненную пропасть. Я почувствовал острую рвущую боль и в то же мгновение
сделался Дэррелем Стэндингом, каторжником, осужденным на пожизненное
заключение, лежащим в смирительной куртке в одиночной камере. И я понял
ближайшую причину этого. Это был стук Эда Морреля из камеры No 5; он
выстукивал мне какую-то весть.
А теперь я хочу дать вам некоторое понятие о пределах расширения
времени и пространства в моем сознании. Через много дней после этого случая
я спросил както Морреля, что он хотел простучать мне.
Оказалось -- вот что:
-- Стэндинг, ты здесь?
Он быстро простучал это, пока сторожа находились на другом конце
коридора, в который выходили одиночные камеры. Как я уже сказал, простучал
он эту фразу очень быстро. И вот посудите: между первым и вторым ударом я
улетел и очутился среди звезд, трогая каждую звезду, в погоне за формулой,
объясняющей конечную тайну жизни, и, как уже говорил прежде, я продолжал эти
искания в течение столетий. Потом раздался топот копыт Рока, появилось
ощущение страшной рвущей боли, и я опять очутился в своей камере в
Сан-Квэнтине. Это был второй удар костяшек Эда Морреля! Промежуток между
первым и вторым ударом не мог составлять больше пятой доли секунды. А время
так растянулось для меня, что в течение одной пятой доли секунды я успел
пространствовать долгие века среди звезд!
Я знаю, читатель, что все это кажется вам какой-то чепухой. Я согласен
с вами -- это чепуха. Но я пережил это. И было это для меня так же реально,
как змея для человека, одержимого белой горячкой.
По самой щедрой оценке выстукивание Морреля могло отнять у него не
более двух минут. А для меня между первым ударом его костяшек и последним
протекли целые тысячелетия. Я не мог уже шествовать по моей звездной стезе в
неизреченной простодушной радости, ибо путь мой был отягчен страхом
неизбежного оклика, который рвал меня, дергал назад в ад смирительной
рубашки. Таким образом, тысячелетия моих звездных странствий были
тысячелетиями страха.
Я все время знал, что именно стуки Эда Морреля так грубо стаскивают
меня на землю. Я попробовал заговорить, попросить его перестать. Но я так
основательно изолировал свое тело от сознания, что оказался не в состоянии
воскресить его. Тело мое лежало мертвым в смирительной куртке, сам же я
обитал в черепе. Тщетно пытался я напряжением воли заставить свою ногу
простучать мою просьбу к Моррелю. Рассуждая, я знал, что у меня есть нога;
но я так основательно произвел эксперимент, что ноги у меня в сущности не
было.
Затем -- теперь я знаю это потому, что Моррель выстукал свое сообщение
до конца, -- я мог снова начать свои скитания среди звезд, не прерываемый
окликами. После этого я смутно почувствовал, что засыпаю, и сон мой был
восхитителен. Время от времени в дремоте я шевелился -- обратите внимание,
читатель, на это слово -- ш е в е л и л с я. Я шевелил руками, ногами. Я
ощущал чистое, мягкое постельное белье на своей коже. Я испытывал физическое
благосостояние! О, как это было восхитительно! Как жаждущий в пустыне грезит
о плеске фонтана, о струях родников, так и я мечтал о свободе от тисков
смирительной куртки, о чистоте, о гладкой, здоровой коже вместо моей
сморщенной, как пергамент, шкуры. Но вы сейчас увидите, что мои грезы носили
своеобразный характер.
Я проснулся. Проснулся целиком и вполне, хотя не раскрывал глаз. И
поразительно, что все последовавшее за тем ни в какой степени меня не
изумляло. Все было естественным, не неожиданным. Я остался собой -- это
несомненно. Но я был у ж е не Д э р р е л ь С т э н д и н г. Дэррель
Стэндинг имел такое же отношение к моему теперешнему "я", как сморщенная
подобно пергаменту кожа Дэрреля Стэндинга имела отношение к прохладной
гладкой коже, принадлежащей мне теперь. Я и не подозревал существования
Дэрреля Стэндинга -- ведь Дэррель Стэндинг еще не родился и не должен был
родиться в течение нескольких столетий. Но вы сами это увидите.
Я лежал с закрытыми глазами, лениво прислушиваясь. Ко мне доносился
мерный топот множества копыт по каменным плитам. По звону и лязгу
металлических частей доспехов и конской сбруи я понял, что по улице под
моими окнами проходит какая-то кавалькада. Я лениво соображал, кто бы это
мог быть. Откуда-то -- и я знал откуда, ибо знал, что это двор гостиницы, --
раздавался топот копыт и нетерпеливое ржанье, в котором я признал ржанье
моей лошади, ожидавшей меня.
Послышались шаги и движение -- очевидно, осторожное, чтобы не нарушить
тишины, и все же умышленношумное, с тайным намерением разбудить меня, если я
еще сплю. Внутренне я улыбнулся этому лукавому маневру.
-- Понс, -- приказал я, не раскрывая глаз, -- воды, холодной воды,
скорей, целый потоп! Я слишком много пил вчера, и во рту у меня горит.
-- И слишком много спал! -- с укором проговорил Понс, подавая мне воду.
Я сел, раскрыл глаза, поднес кружку к губам обеими руками и, глотая
воду, глядел на Понса...
Теперь заметьте два обстоятельства. Я говорил пофранцузски и не
сознавал, что говорю по-французски. Только впоследствии, в одиночестве моей
камеры вспоминая то, что я сейчас рассказываю, я понял, что говорил
по-французски, -- мало того, говорил хорошо. Что касается меня, Дэрреля
Стэндинга, пишущего эти строки в Коридоре Убийц Фольсомской тюрьмы, то я
знаю французский язык лишь настолько, чтобы читать научные книги. Но
говорить по-французски -- немыслимо! Едва ли я сумел бы правильно прочесть
вслух обеденное меню.
Но вернемся к моему повествованию. Понс был сморщенный старикашка; он
родился в нашем доме -- я это знаю, ибо об этом говорилось в описываемый
мною день. Понсу было все шестьдесят лет; у него почти не осталось зубов;
несмотря на явную хромоту, заставлявшую его ходить вприпрыжку, он был очень
подвижен и ловок в своих движениях. Фамильярен он был до дерзости. Это
объяснялось тем, что он прожил в нашем доме шестьдесят лет. Он служил моему
отцу, когда я еще не умел ходить, а после смерти отца (о нем мы с Понсом
говорили в этот самый день) стал моим слугой. Хромоту он получил на поле
сражения в Италии, во время кавалерийской атаки. Едва успел он вытащить
моего отца из-под копыт, как был пронзен пикой в бедро, опрокинут и
растоптан. Отец мой, сохранивший сознание, но ослабевший от ран, был всему
этому свидетелем. Стало быть, старый Понс заслужил свое право на дерзкую
фамильярность, которую во всяком случае не мог бы осудить я -- сын моего
отца.
Когда я осушил огромную кружку, Понс покачал головой.
-- Слышал, как закипело? -- засмеялся я, возвращая ему пустой сосуд.
-- Точь-в-точь как отец, -- с какой-то безнадежностью проговорил он. --
Но твой отец исправился в конце концов, а будет ли это с тобой --
сомневаюсь!
-- У него была болезнь желудка, -- слукавил я, -- так что от маленького
глотка спирта его мутило. Зачем пить то, чего нутро не выносит?
Пока мы так разговаривали, Понс собирал мое платье.
-- Пей, господин мой, -- отвечал слуга, -- тебе не повредит, ты умрешь
со здоровым желудком.
-- Ты думаешь, у меня желудок обит железом? -- сделал я вид, что не
понял его.
-- Я думаю... -- начал он раздраженно, но умолк, поняв, что я дразню
его, и, обиженно поджав губы, повесил мой новый соболий плащ на спинку
стула. -- Восемьсот дукатов! -- язвительно заметил он. -- Тысяча коз и
тысяча жирных волов только за то, чтобы красиво одеться! Два десятка
крестьянских ферм на плечах одного дворянина!
-- А в этом сотня крестьянских ферм и один-два замка в придачу, не
говоря уже о дворце, -- промолвил я, вытянув руку и коснувшись ею рапиры,
которую он в этот момент клал на стул.
-- Твой отец все добывал своей крепкой десницей, -- возразил Понс. --
Но отец умел удержать добытое!
Понс с презрением поднял на свет мой новый алый атласный камзол --
изумительную вещь, за которую я заплатил безумные деньги.
-- Шестьдесят дукатов -- и за что? -- укоризненно говорил Понс. -- Твой
отец отправил бы к сатане на сковородку всех портных и евреев христианского
мира, прежде чем заплатить такие деньги.
Пока мы одевались -- то есть пока Понс помогал мне одеваться, -- я
продолжал дразнить его.
-- Как видно, Понс, ты не слыхал последних новостей? -- лукаво заметил
я.
Старый сплетник навострил уши.
-- Последних новостей? -- переспросил он. -- Не об английском ли дворе?
-- Нет, -- замотал я головой. -- Новости, впрочем, вероятно, только для
тебя -- другим это не ново. Неужели не слыхал? Вот уже две тысячи лет, как
философы Греции пустили их шепотком! Из-за этих-то новостей я нацепил на
свои плечи двадцать плодороднейших ферм, живу при дворе и сделался франтом.
Видишь ли, Понс, мир -- прескверное место, жизнь -- тоскливая штука, люди в
наши дни, как я, ищут неожиданного, хотят забыться, пускаются в шалости, в
безумства...
-- Какая же новость, господин? О чем шептались философы встарь?
-- Что Бог умер, Понс! -- торжественно ответил я. -- Разве ты этого не
знал? Бог мертв, как буду скоро мертв и я, -- а ведь на моих плечах двадцать
плодородных ферм...
-- Бог жив! -- горячо возразил Понс. -- Бог жив, и царствие его близко.
Говорю тебе, господин мой, оно близко. Может быть, не дальше как завтра
сокрушится земля!
-- Так говорили люди в Древнем Риме, Понс, когда Нерон делал из них
факелы для освещения своих игрищ.
Понс с жалостью посмотрел на меня.
-- Чрезмерная ученость -- та же болезнь! -- проговорил он. -- Я был
всегда против этого. Но тебе непременно нужно поставить на своем, повсюду
таскать за собою мои старые кости -- ты изучаешь астрономию и арифметику в
Венеции, поэтику и итальянские песенки во Флоренции, астрологию в Изе и бог
ведает еще что в этой полоумной Германии. К черту философов! Я говорю тебе,
хозяин, -- я, бедный старик Понс, твой слуга, для которого что буква, что
древко копья -- одно и то же, -- я говорю тебе: жив Господь, и недолог срок
до того, как тебе придется предстать перед ним! -- Он умолк, словно вспомнив
что-то, и добавил: -- Он тут -- священник, о котором ты говорил...
Я мгновенно вспомнил о назначенном свидании.
-- Что же ты мне не сказал этого раньше? -- гневно спросил я.
-- А что за беда? -- Понс пожал плечами. -- Ведь он и так ждет уже два
часа.
-- Отчего же ты не позвал меня?
Он бросил на меня серьезный, укоризненный взгляд.
-- Ты шел спать и орал, как петух какой-то: "Пой куку, пой куку,
куку-куку!.."
Он передразнил меня своим пронзительным пискливым фальцетом.
Без сомнения, я нес околесицу, когда шел спать.
-- У тебя хорошая память, -- сухо заметил я и накинул было на плечи
свой новый соболий плащ, но тотчас же швырнул его Понсу, чтобы он убрал
плащ. Старый Понс с неудовольствием покачал головой.
-- Не нужно и памяти -- ведь ты так разорался, что полгостиницы
сбежалось заколоть тебя за то, что ты не даешь никому спать! А когда я честь
честью уложил тебя в постель, не позвал ли ты меня к себе, не приказал
говорить: кого бы черт ни принес с визитом -- что господин спит? И опять ты
позвал меня, стиснул мне плечо так, что и сейчас на нем синяк, потребовал
сию же минуту жирного мяса, затопить печку и утром не трогать тебя, за одним
исключением...
-- Каким? -- спросил я его. -- Совершенно не представляю себе, в чем
дело.
-- Если я принесу тебе сердце одного черного сыча, по фамилии
Мартинелли -- бог его знает, кто он такой! -- сердце Мартинелли, дымящееся
на золотом блюде. Блюдо должно быть золотое, говорил ты. И разбудить тебя в
этом случае я должен песней: "Пой куку, пой куку, пой куку". И ты начал
учить меня петь: "Пой куку, пой куку!"
Как только Понс выговорил фамилию, я тотчас же вспомнил патера
Мартинелли -- это он дожидался меня два часа в другой комнате.
Когда Мартинелли ввели и он приветствовал меня, произнеся мой титул и
имя, я сразу осознал и все остальное. Я был граф Гильом де Сен-Мор. (Как
видите, я мог осознать это тогда и вспомнить впоследствии потому, что это
хранилось в моем подсознательном "я".)
Патер был итальянец -- смуглый и малорослый, тощий, как постник
нездешнего мира, и руки у него были маленькие и тонкие, как у женщины! Но
его глаза! Они были лукавы и подозрительны, с узким разрезом и тяжелыми
веками, острые, как у хорька, и в то же время ленивые, как у ящерицы.
-- Долго вы мешкаете, граф де Сен-Мор! -- быстро заговорил он, когда
Понс вышел из комнаты, повинуясь моему взгляду. -- Тот, кому я служу,
начинает терять терпение!
-- Перемени тон, патер! -- с сердцем оборвал я его. -- Помни, ты теперь
не в Риме.
-- Мой августейший владыка... -- начал он.
-- Августейшие правят в Риме, надо полагать, -- опять перебил я его. --
Здесь Франция!
Мартинелли со смиренной и терпеливой миной пожал плечами, но взгляд
его, загоревшийся, как у василиска, противоречил внешнему спокойствию его
манер.
-- Мой августейший владыка имеет некоторое отношение к делам Франции,
-- невозмутимо проговорил он. -- Эта дама не для вас. У моего владыки другие
планы... -- Он увлажнил языком свои тонкие губы. -- Другие планы для дамы...
и для вас.
Разумеется, я знал, что он намекает на великую герцогиню Филиппу, вдову
Жофруа, последнего герцога Аквитанского. Но великая герцогиня и вдова прежде
всего была женщина -- молодая, веселая и прекрасная и, по моим понятиям,
созданная для меня.
-- Какие у него планы? -- бесцеремонно спросил я.
-- Они глубоки и обширны, граф де Сен-Мор, -- слишком глубоки и
обширны, чтобы я дерзнул их представить себе, а тем паче обсуждать с кем бы
то ни было.
-- О, я знаю, затеваются большие дела, и липкие черви уже закопошились
под землею, -- сказал я.
-- Мне говорили, что вы упрямы; но я лишь повиновался приказу.
Мартинелли поднялся, собираясь уйти; встал и я.
-- Я говорил, что это будет бесполезно, -- продолжал он. -- Но вам дали
последний случай одуматься. Мой августейший владыка поступил честней
честного!
-- Я подумаю, -- весело проговорил я, откланиваясь патеру у дверей.
Он вдруг остановился на пороге.
-- Время думать прошло! Я приехал за решением.
-- Я обдумаю это дело, -- повторил я и затем прибавил, словно
сообразив: -- Если желания дамы не совпадают с моими, то, пожалуй, планы
вашего владыки осуществятся так, как ему желательно. Ибо помни, патер, -- он
мне не владыка!
-- Ты не знаешь моего владыки, -- важно проговорил он.
-- И не хочу его знать! -- отрезал я.
Я стал прислушиваться к легким, мягким шагам патера, спускавшегося по
скрипучим ступеням.
Если бы я вздумал передавать подробности всего, что я пережил за эти
полдня и полночи моей бытности графом Гильомом де Сен-Мор, то на описание
этого не хватило бы и десяти книг, по размеру равных той, что я пишу сейчас.
Многое я должен обойти молчанием; по правде сказать, я умолчу почти обо
всем; ибо мне не доводилось слышать, чтобы осужденному на смерть
предоставляли отсрочку для окончания составляемых им мемуаров, -- по крайней
мере, в Калифорнии.
Когда я в этот день въехал в Париж, то увидел Париж средневековья.
Узкие улицы, грязные и вонючие... Но я умолчу об этом. Я умолчу о
послеобеденных происшествиях, о поездке за городские стены, о большом
празднике, который давал Гюг де Мен, о пире и пьянстве, в которых я принимал
участие. Я буду писать только о конце приключения, с момента, когда я стоял
и шутил с самой Филиппой -- великий боже, как она была божественно
прелестна! Высокопоставленная дама -- но прежде всего, и после всего, и
всегда -- женщина.
Мы беззаботно смеялись и дурачились в давке веселой толпы. Но под
нашими шутками таилась глубокая серьезность мужчины и женщины, перешагнувших
порог любви и еще не совсем уверенных друг в друге. Я не стану описывать ее.
Она была миниатюрна, изящно-худощава -- но что же это, я описываю ее? Короче
-- это была для меня единственная женщина в мире -- и мало я думал в это
время о длинной руке седовласого старца из Рима, которая могла протянуться
через пол-Европы, отделив меня от моей возлюбленной.
Между тем итальянец Фортини склонился к моему плечу и прошептал:
-- Некто желает с вами говорить.
-- Ему придется подождать, пока мне будет угодно, -- кратко ответил я.
-- Я никого не дожидаюсь, -- последовал столь же краткий ответ с его
стороны.
Кровь закипела во мне -- я вспомнил о патере Мартинелли и о седовласом
старце в Риме. Положение было ясно. Это было подстроено! Это была длинная
рука! Фортини лениво улыбался мне, видя, что я задумался, но в улыбке его
сквозила невыразимая наглость.
Именно в этот момент мне нужно было сохранить величайшее хладнокровие.
Но багровый гнев уже начал подниматься во мне. Это были интриги патера, а
Фортини, богатый только хорошим происхождением, уже лет двадцать считался
лучшим фехтовальщиком Италии. Если он сегодня потерпит неудачу, завтра по
приказу седовласого старца явится другой боец, послезавтра -- третий. Если и
это не удастся, я могу ожидать удара кинжалом в спину со стороны наемного
убийцы или же зелья отравителя в мое вино, мое мясо, мой хлеб...
-- Я занят, -- сказал я. -- Отойдите!
-- Но у меня к вам неотложное дело, -- ответил он.
Незаметно для нас самих мы возвысили голос, так что Филиппа услыхала.
-- Уходи, итальянская собака! -- промолвил я. -- Уноси свой вой от моих
дверей! Я сейчас займусь тобою!
-- Месяц взошел, -- говорил он. -- Трава сухая, удобная. Росы нет. За
рыбным прудом, на полет стрелы влево, есть открытое место, тихое и
укромное...
-- Я сейчас исполню твое желание, -- нетерпеливо пробормотал я.
Но он продолжал торчать над моим плечом.
-- Сейчас, -- твердил я. -- Сейчас я займусь тобой!
Но тут вмешалась Филиппа с присущим ей мужеством и железной волей.
-- Удовлетворите желание кавалера, Сен-Мор. Займитесь им тотчас же. И
да будет вам удача! -- Она умолкла и поманила к себе своего дядю Жана де
Жуанвилля, проходившего мимо, -- дядю с материнской стороны, из анжуйских
Жуанвиллей. -- Счастье да сопутствует вам, Сен-Мор. Не мешкайте, я буду
ждать вас в большой зале!
Я был на седьмом небе. Я не шел, а словно ступал по воздуху. Это было
первое откровенное проявление ее любви. С таким благословением я чувствовал
себя столь сильным, что мог убить десяток Фортини и плюнуть на десяток
седовласых старцев Рима.
Жан де Жуанвилль торопливо увел Филиппу прочь, а мы с Фортини
договорились в одну минуту. Мы расстались -- он для того, чтобы разыскать
одного или двух приятелей, и я для того, чтобы разыскать одного или двух
приятелей, и все мы должны были сойтись в назначенном месте за рыбным
прудом.
Первым мне попался Робер Ланфран, а затем Анри Боэмон. Но еще до них на
меня налетела вихревая соломинка, показавшая мне, откуда дует ветер, и
предвещавшая шторм.
Я знал эту соломинку. Это был Гюи де Вильгардуэн, грубый юнец из
провинции, впервые попавший ко двору и горячий, как петух. У него были
ярко-рыжие волосы. Голубые глаза его, маленькие и близко поставленные друг к
другу, также были красноваты -- по крайней мере, их белки. Кожа у него, как
бывает у людей этого типа, была красная и веснушчатая, и весь он имел
какой-то ошпаренный вид.
Когда я проходил мимо него, он неожиданным движением толкнул меня.
Разумеется, это было сделано намеренно. Он вспыхнул и схватился рукой за
свою рапиру.
"Поистине у седовласого старца много всяких и притом престранных
орудий", -- подумал я про себя. Но задорному петушку я поклонился и
пробормотал:
-- Прошу прощения за свою неловкость. Виноват. Прошу прощения,
Вильгардуэн!
Но не так-то легко было угомонить его! Пока он кипятился и пыжился, я,
завидев Робера Ланфрана, подманил его к нам и рассказал о случившемся.
-- Сен-Мор дал вам удовлетворение! -- решил он. -- Он попросил у вас
извинения.
-- Именно так, -- подхватил я самым заискивающим тоном, -- и снова
прошу у вас прощения, Вильгардуэн, за свою великую неловкость. Я провинился,
хотя и неумышленно. Спеша на свидание, я сделал неловкость, крайне
прискорбную неловкость -- но, право, без всякого намерения.
Что оставалось делать этому олуху, как не принять, ворча, извинения,
столь щедро рассыпанные перед ним? Но, удаляясь от него вместе с Ланфраном,
я знал, что не пройдет нескольких дней, а то и часов, как этот горячий юнец
постарается добиться того, чтобы мы с ним скрестили клинки на траве.
Я бегло объяснил Ланфрану, что мне от него нужно, а он особенно не
допытывался. Это был живой юноша лет двадцати, он привык владеть оружием,
сражался в Испании и имел за собой почтенный рекорд дуэлей на рапирах. Он
только сверкнул своими черными глазами, узнав, чему он будет свидетелем, и
так разохотился, что сам пригласил Анри Боэмона присоединиться к нам.
Когда мы втроем подошли к луговине за рыбным прудом, Фортини уже
дожидался нас со своими друзьями. Один из них был Феликс Пасквини, племянник
кардинала с такой же фамилией, и пользовался таким же доверием своего дяди,
каким тот пользовался у седовласого старца. Другим был Рауль де Гонкур,
присутствие которого изумило меня, ибо он был слишком хороший, благородный
человек для компании, в которой теперь очутился.
Мы вежливо раскланялись и приступили к делу. Оно не было новым ни для
кого из нас. Почва была хорошая, как мне и обещали. Росы не было. Луна ярко
светила, мы с Фортини обнажили клинки и начали нашу серьезную игру.
Я хорошо знал, что хотя и считаюсь во Франции хорошим фехтовальщиком,
но Фортини искусней меня. Знал я и то, что в эту ночь я ношу с собой сердце
моей возлюбленной и что этой ночью благодаря мне на свете станет одним
итальянцем меньше. Я говорю, что знал это. Для меня исход не подлежал ни
малейшему сомнению. Скрещивая с противником рапиру, я обдумывал, как мне
покончить с ним. Я не хотел затягивать борьбу. Быстро и метко -- такова была
моя всегдашняя манера. Кроме того, после нескольких месяцев веселого
бражничанья и распевания "Пой куку, пой куку" в самые неподходящие часы
суток я и не подготовлен был к продолжительному бою. Быстро и метко --
таково было мое решение.
Но "быстро и метко" была трудная вещь с таким совершенным мастером
фехтования, каким был Фортини. Кроме того, как назло, Фортини, всегда
холодный, всегда неутомимо-терпеливый, всегда уверенный и медлительный, как
утверждала молва, в эту ночь тоже хотел действовать быстро и метко.
Работа была трудная, нервная, ибо как я разгадал его намерение
сократить бой, так и он чувствовал мое решение. Сомневаюсь, удался ли бы мне
мой прием, если бы вместо лунной ночи дело происходило при дневном свете.
Тусклый свет месяца помогал мне. Кроме того, я за мгновение вперед угадывал,
что он затевает. Это была "темповая" атака, обыкновенный, но опасный прием,
известный каждому новичку, часто кончающийся гибелью бойца, прибегающего к
нему; он настолько рискован, что фехтовальщики не очень любят его.
Мы дрались едва ли минуту, как я уже понял, что, несмотря на притворный
натиск, Фортини замышляет эту самую темповую атаку. Он выжидал моего выпада
и толчка не для того, чтобы отпарировать удар, но для того, чтобы выдержать
его, отвести легким поворотом кисти и встретить концом своей рапиры мое
подавшееся за рапирою тело. Трудная вещь, -- трудная даже при ярком дневном
свете. Если он отведет мою рапиру секундою раньше, чем следует, я буду
предупрежден и спасен. Если он отведет ее секундою позже -- моя рапира
пронзит его.
"Быстро и метко, -- подумал я. -- Ладно, мой итальянский приятель, это
будет сделано быстро и метко, в особенности же быстро!"
До некоторой степени это была темповая атака против темповой атаки, но
я хотел обмануть его излишней быстротой. И я показал быстроту! Как я уже
говорил, мы профехтовали едва ли минуту, как роковое случилось. Быстро!
Выпад и удар слились у меня в одно. Это был как бы взрыв, как бы миг! Мой
выпад и толчок были на частицу секунды быстрее, чем в состоянии сделать
боец. Я выгадал эту частицу секунды. С опозданием на эту частицу секунды
Фортини попытался отвести мой клинок и всадить в меня свой. Но отведенным
оказался его клинок. Он молниеносно скользнул мимо моей груди, рассекая всей
своей длиной воздух, -- а мой клинок вошел в противника, пронзил его на
высоте сердца, от правого бока в левый, пройдя насквозь и выйдя наружу.
Странное это ощущение, когда живого человека насаживаешь на стальной
клинок! Вот я сижу в своей камере и отрываюсь на минуту от писания, чтобы
пораздумать об этом. И часто думаю об этой лунной ночи во Франции, когда я
много-много времени тому назад проучил "итальянскую собаку". Как легко
оказалось пронзить человеческое туловище! Можно было ожидать большего
сопротивления. Сопротивление было бы, если бы моя рапира наткнулась на
кость. Но она встретила только мякоть, Все же -- как легко пронзила она
тело! У меня в руке и сейчас, в то время как я пишу, это ощущение. Шпилька
для женской шляпки прошла бы сквозь плумпудинг не с большей легкостью, чем
мой клинок прошел сквозь итальянца. О, во времена Гильома де Сен-Мор здесь
не было ничего изумительного, -- изумительно это мне, Дэррелю Стэндингу,
когда я вспоминаю и размышляю об этом спустя века. Легко, страшно легко
убить крепкого, живого, дышащего человека таким грубым оружием, как кусок
стали! Право же, люди -- что рыбы с рыбьей чешуей, так они нежны, хрупки и
легко уязвимы.
Вернемся, однако, к лунной ночи на траве. Мой удар попал в цель,
наступила пауза. Не сразу упал Фортини. Не сразу я выдернул клинок. Целую
секунду стояли мы на своих местах -- я, расставив ноги, напряженно упершись
ими, подавшись телом вперед и вытянув горизонтально правую руку; Фортини
стоял, протянув свой клинок так далеко за меня, что его рука с эфесом слегка
опиралась на левую сторону моей груди, с неподвижно застывшим телом, с
раскрытыми блестящими глазами.
Мы стояли как статуи, и я готов поклясться, что окружавшие нас не сразу
поняли, что случилось. Фортини охнул и кашлянул. Тело его как-то размякло.
Рука его с эфесом у моего плеча задрожала, потом опустилась вдоль тела, так
что кончик рапиры уперся в траву. В этот момент Пасквини и де Гонкур
подбежали к нему, и он упал им на руки. Право, мне труднее было вытащить
сталь, чем вонзить ее! Его мясо облепило ее, и словно ревнуя, не хотело
выпускать. Поверьте, потребовалось заметное физическое усилие, чтобы извлечь
оружие...
Но должно быть, боль от вытаскивания стали пробудила в нем жизнь и
волю, потому что он стряхнул с себя своих друзей, выпрямился и, став в
позицию, поднял свою рапиру. Я тоже стал в позицию, недоумевая, как могло
случиться, чтобы я пронзил его на высоте сердца и не задел ни одного важного
для жизни органа. Но тут, прежде чем друзья успели его подхватить, ноги его
подкосились, и он грузно упал на траву. Его положили на спину, но он был уже
мертв, лицо его казалось призрачным при луне, правая рука все еще сжимала
рапиру.
Да, поистине изумительно легко убить человека!
Мы откланялись его друзьям и собрались было уходить, как Феликс
Пасквини остановил меня.
-- Простите, -- проговорил я. -- Пусть это будет завтра.
-- Нам стоит только на шаг отступить в сторону, где трава суха, --
приставал он.
-- В таком случае, де Сен-Мор, позвольте оросить ее за вас! -- попросил
меня Ланфран, которому хотелось самому разделаться с итальянцем.
Я покачал головой.
-- Пасквини мой, -- отвечал я. -- Он будет первым завтра!
-- А есть другие? -- спросил Ланфран.
-- Спросите де Гонкура, -- улыбнулся я. -- Я полагаю, он претендует на
честь быть третьим!
Услышав это, де Гонкур растерянно выразил согласие. Ланфран
вопросительно взглянул на него, и де Гонкур кивнул.
-- А за ним, не сомневаюсь, явится петушок!
Я не успел договорить, как рыжеволосый Гюи де Вильгардуэн в
единственном числе зашагал к нам по освещенной луной траве.
-- По крайней мере, я сражусь хоть с ним! -- вскричал Ланфран чуть не
заискивающим голосом -- так хотелось ему сразиться.
-- Спросите его, -- засмеялся я и обратился к Пасквини. -- Завтра, --
проговорил я. -- Назначьте время и место, и я приду.
-- Трава превосходна, -- приставал он, -- место чудесное, и мне
хочется, чтобы вы составили компанию Фортини в эту ночь!
-- Лучше пусть его сопровождает друг, -- насмешливо заметил я. -- А
теперь простите, мне надо уходить! Но он загородил мне дорогу.
-- Нет, пусть это будет сейчас! -- настаивал он.
Тут опять меня охватил багровый гнев.
-- Вы хорошо служите своему господину! -- язвительно бросил я.
-- Я служу только своим удовольствиям, -- отвечал он. -- Господина надо
мною нет!
-- Простите, если я позволю себе сказать правду, -- проговорил я.
-- Какую? -- тихо спросил он.
-- Что вы лгун, Пасквини, лгун, как все итальянцы!
Он мгновенно повернулся к Ланфрану и Боэмону.
-- Вы слышали? -- спросил он. -- После этого вы не станете отрицать мое
право на него.
Они заколебались и смотрели на меня, ища у меня совета. Но Пасквини не
стал ждать.
-- А если у вас есть какие-нибудь сомнения, -- торопливо добавил он, --
так позвольте мне устранить их... таким манером!
И он плюнул на траву у моих ног. Тут гнев овладел мной и уже не
оставлял меня. Я называю его багровым гневом -- это неудержимое,
всепоглощающее желание убить, уничтожить. Я забыл, что Филиппа ждет меня в
большом зале. Я сознавал только свою обиду -- непростительное вмешательство
в мои дела седовласого старца, поручение патера, наглость Фортини,
нахальство Вильгардуэна -- и этого Пасквини, загораживавшего мне дорогу и
плюнувшего на траву. Все побагровело в моих глазах. Все застлалось красным
туманом. Я смотрел на всех этих тварей как на противную сорную траву,
которую мне нужно убрать со своей дороги, стереть с лица земли. Как лев
ярится на сеть, в которую он попался, так я разъярился на этих субъектов.
Они обступили меня со всех сторон. В сущности, я находился в западне.
Единственным средством выбраться было вырубить их, растоптать, вдавить в
землю.
-- Хорошо, -- проговорил я довольно спокойно, хотя весь дрожал от
бешенства. -- Вы первый, Пасквини! А потом вы, де Гонкур! А под конец де
Вильгардуэн!
Каждый ответил кивком, и мы с Пасквини приготовились отойти к сторонке.
-- Раз вы торопитесь, -- предложил мне Анри Боэмон, -- и нас здесь трое
против их тройки, почему не кончить дела разом?
-- Да, да, -- горячо подхватил Ланфран. -- Вы возьмите де Гонкура! Де
Вильгардуэн достанется мне!
Но я отозвал моих приятелей.
-- Они здесь по приказу, -- объяснил я. -- Именно со мной они желают
драться, и так страстно, что поистине я заразился их желанием. Теперь я хочу
и намерен оставить их себе!
Я заметил, что Пасквини заволновался, когда я заговорил с приятелями, и
решил помучить его немножко.
-- С вами, Пасквини, я разделаюсь наскоро. Я не хочу, чтобы вы мешкали,
потому что Фортини ждет вашего общества! Вас, Рауль де Гонкур, я накажу по
заслугам за то, что вы затесались в такую дрянную компанию. Вы полнеете, у
вас начинается одышка. Я позабавлюсь с вами, пока у вас не растает жирок и
легкие не запыхтят, как дырявые мехи. Как вас убить, де Вильгардуэн, я еще
не решил.
После этого я поклонился Пасквини, и мы вступили в бой. О, я решил быть
сатаной в эту ночь. Быстро и метко -- таков был мой девиз. Я не упускал из
виду и обманчивости лунного освещения. Если он осмелится применить темповую
атаку, я разделаюсь с ним, как с Фортини. Если он тотчас же не прибегнет к
ней, я решусь на нее.
Несмотря на нетерпение, в которое я поверг противника, он был очень
осторожен. Тем не менее я заставил его ускорить бой, и в тусклом свете,
заставлявшем нас меньше обыкновенного полагаться на зрение и больше, чем
когда-либо, на осязание; мы непрерывно держали наши клинки скрещенными.
Не прошло и минуты, как я пустил в ход свой прием. Я притворился, будто
оступился, и, поправляясь, сделал вид, что утратил соприкосновение с клинком
Пасквини. Он попробовал сделать выпад, и я опять сделал притворное движение
-- излишне широко отпарировал. Вследствие этого я открыл для удара свое тело
-- этим я хотел заманить его. И приманка подействовала! С быстротой молнии
он воспользовался нечаянным, как он думал, обнажением моего фланга. Он
сделал прямой и правильный выпад и всей тяжестью тела подался вслед за
рапирой. Но с моей стороны все это было притворством, я ждал этого момента.
Наши клинки чуть-чуть соприкоснулись и скользнули один мимо другого. Моя
кисть твердо повернулась и отвела его клинок на защищенный эфес моей рапиры,
отвела на ничтожное расстояние, на какой-нибудь дюйм, но этого было
достаточно, чтобы кончик его оружия прошел мимо моего тела, пронзив только
мимоходом складку моего атласного камзола. Разумеется, его тело последовало
за рапирой, а моя рапира на высоте сердца вошла в его тело. Моя вытянутая
рука стала прямой и жесткой, как сталь, продолжением которой она сделалась,
а на руку напирало крепкое и устойчивое тело.
Как я уже сказал, моя рапира вошла в тело Пасквини на высоте сердца, с
правой стороны, но она вышла с левой, ибо, почти пронзив его, она встретила
ребро (о, убиение человека -- работа мясника!) с такой силой, что он потерял
равновесие и упал наземь не то навзничь, не то боком. Он еще не коснулся
земли, как я, дернув и повернув оружие, вытащил его.
Де Гонкур бросился к нему, но он знаком направил Гонкура ко мне,
Пасквини умер не так скоро, как Фортини. Он кашлял, плевался; с помощью де
Вильгардуэна он оперся головой на локоть и продолжал кашлять и плевать.
-- Счастливого пути, Пасквини! -- злобно засмеялся я. -- Поторопитесь,
потому что трава под вами вдруг намокла, и если вы еще замешкаетесь, то
рискуете умереть от простуды!
Когда я выразил намерение тотчас же начать бой с де Гонкуром, Боэмон
запротестовал и потребовал, чтобы я отдохнул немного.
-- Нет, -- сказал я. -- Я еще даже не согрелся как следует. -- И я
обратился к Гонкуру. -- Теперь мы заставим вас поплясать и попыхтеть...
Видно было, что сердце де Гонкура не лежит к этому делу. Ясно было, что
он дерется по приказу. Фехтовал он старомодно, как дерутся пожилые люди, но
боец он был неплохой. Он был холоден, решителен, настойчив. Но он не обладал
проворством, и, кроме того, его угнетало сознание неизбежности поражения.
Раз двадцать по крайней мере он был в моих руках, но я воздерживался. Я уже
говорил, что решил в этот вечер быть сатаной. Так оно и было. Я нещадно
изводил его. Я повернул его лицом к луне, так что он плохо видел меня, я же
дрался в своей собственной тени. И пока я изводил его, добившись, что он
действительно начал пыхтеть и задыхаться, Пасквини, опиравшийся головой на
руку и наблюдавший нас, выкашливал и выхаркивал свою жизнь.
-- Ну, де Гонкур, -- объявил я наконец, -- вы видите, что вы совершенно
бессильны! Вы в моих руках на дюжину ладов! Приготовьтесь, крепитесь, ибо я
решил вот как!
С этими словами я перешел с третьей позиции на четвертую, а когда он
беспорядочно отпарировал удар, я опять сделал кварту -- четвертую позицию,
-- воспользовался тем, что он открылся, и пронзил его насквозь на уровне
сердца. Увидев исход, Пасквини перестал цепляться за жизнь, зарылся лицом в
траву, затрепетал и затих.
У вашего хозяина в эту ночь станет четырьмя слугами меньше, -- сказал я
де Вильгардуэну, как только мы начали.
Что это был за бой! Юнец был просто смешон. Трудно было представить
себе, в какой буколической школе учился он фехтованию! Рапира его с размаху
просвистела в воздухе, словно это было орудие с рукояткой и режущим краем, и
опустилась мне на голову. Я опешил. Никогда еще мне не случалось встречаться
с такой нелепостью! Он совершенно раскрылся, и я мог тут же проколоть его
насквозь. Но, как я уже говорил, я опешил, а когда опомнился, то
почувствовал боль от вошедшей в мое тело стали: этот неуклюжий провинциал
проколол меня и продолжал переть вперед, как бык, пока эфес его рапиры не
вдавился мне в бок и я не опрокинулся навзничь.
Падая, я видел смущение на лицах Ланфрана и Боэмона и удовлетворение на
лице де Вильгардуэна.
Я падал, но не достиг травы. В глазах у меня засверкали молнии, гром
оглушил слух, настала глубокая тьма, потом медленно занялся слабый свет, я
почувствовал неописуемую мучительную боль и услышал чей-то голос,
произносивший:
-- Ничего не могу нащупать!
Я узнал голос. Он принадлежал смотрителю Этертону. И я узнал в себе
Дэрреля Стэндинга, только что вернувшегося из прогулки во тьме столетий в
преисподнюю смирительной куртки тюрьмы Сан-Квэнтина. Я понял, что смотритель
Этертон щупает кончиками пальцев мою шею. Потом их оттолкнули пальцы доктора
Джексона. И голос Джексона проговорил:
-- Вы не умеете щупать пульс человека на шее. Вот... здесь... поставьте
палец туда, где лежит мой. Слышите? Так я и думал! Сердце работает слабо, но
правильно, как хронометр!
-- Прошло всего двадцать четыре часа, -- проговорил капитан Джэми, -- и
он еще никогда не находился в таком состоянии.
Прикидывается, вот что он делает, можете быть в этом уверены! --
вмешался Эль Гетчинс, главный доверенный.
-- Не знаю, -- стоял на своем капитан Джэми. -- Когда пульс у человека
так слаб, что нащупать его может только сведущий человек, то...
-- Недаром же я прошел школу смирительной рубашки! -- осклабился Эль
Гетчинс. -- Я заставил вас развязать меня, капитан, когда вы решили, что я
уже дохну, -- а я чуть не рассмеялся вам прямо в лицо!
-- Что вы думаете, доктор? -- спросил смотритель Этертон.
-- Я вам говорю, что сердце работает превосходно, -- был ответ. --
Разумеется, оно ослабело. Говорю вам, что прав Гетчинс. Он притворяется!
Большим пальцем он открыл мое веко, после чего я открыл и другой глаз и
оглядел группу, нагнувшуюся надо мной.
-- Что я говорил вам? -- торжествующе воскликнул доктор Джексон.
Напрягая всю свою волю, хотя от этого усилия у меня чуть не лопнули
щеки, я усмехнулся.
К моим губам поднесли воды, и я жадно напился. Не забывайте, что все
это время я лежал беспомощно на спине и руки мои были вытянуты вдоль тела
внутри куртки. Когда мне предложили поесть -- кусок сухого тюремного хлеба,
-- я отрицательно покачал головой. Я закрыл глаза в знак того, что утомлен
их присутствием. Боль этого частичного воскресения была нестерпима. Я
чувствовал, как в тело мое возвращается жизнь. Шея и грудь выше сердца
болели невероятно. А мозг настойчиво сверлила мысль, что Филиппа ждет меня в
большом зале, и мне хотелось бежать, вернуться к тем половине дня и половине
ночи, которые я только что пережил в средневековой Франции.
И в то время как палачи стояли надо мной, я старался освободить живую
часть тела от моего сознания. Я спешил улететь -- но голос смотрителя
Этертона удержал меня.
-- Не имеешь ли на что пожаловаться? -- спрашивал он
Но я боялся только одного -- именно как бы они не развязали меня; и
ответ, который я дал, был отнюдь не бахвальством, а только имел целью
предупредить возможное освобождение меня из "пеленок".
-- Можете туже стянуть куртку. -- прошептал я. -- Она слишком свободна.
Я просто теряюсь в ней. Гетчинс олух! Он понятия не имеет о том, как
стягивать "пеленки". Лучше приставьте его командовать ткацкой комнатой,
смотритель. Он куда больше специалист по части бестолковых усилий, чем
теперешний олух, который просто глуп, не будучи все же идиотом, как Гетчинс.
А теперь убирайтесь все вон, если вы не можете придумать для меня ничего
посильнее! В последнем случае -- останьтесь. Сердечно прошу вас остаться,
если вы своим слабым умишком воображаете, что выдумали для меня какую-нибудь
новую пытку!
-- Да он колдун, настоящий колдун! -- пропел доктор Джексон с восторгом
врача, сделавшего ценное открытие.
-- Стэндинг, ты чудо! -- воскликнул смотритель. -- У тебя стальная
воля, но я ее сломлю; это так же верно, как то, что сейчас день!
-- А у вас заячье сердце, -- возразил я. -- Десятой доли "пеленок",
которые я получил в Сан-Квэнтине, достаточно было бы, чтобы выдавить вашу
заячью душонку из ваших длинных ушей!
У смотрителя в самом деле были необыкновенно длинные уши. Я убежден,
что они заинтересовали бы Ломброзо.
-- Что до меня, -- продолжал я -- то я смеюсь над вами и не могу
придумать худшей доли для ткацкой мастерской, как ваше управление ею!
Помилуйте, вы сокрушили меня, излили на меня все свое бешенство, -- а я все
еще жив и смеюсь вам в физиономию! Ну разве это не бездарность? Вы не умеете
даже умертвить меня! Вы не сумели бы убить загнанную в угол крысу зарядом
динамита, н а с т о я щ е г о динамита, а не того, который вы вообразили я
будто бы спрятал!
-- Еще чего? -- спросил он, когда я умолк.
И тут в моем мозгу пронеслась фраза, которую я бросил Фортини, когда
тот нахально приставал ко мне.
-- Убирайся прочь, тюремный пес! -- проговорил я. -- Уноси свой лай от
моих дверей!
Нелегко было человеку такого склада, как смотритель Этертон, вынести
подобную дерзость из уст беспомощного арестанта. Лицо его побелело от
ярости, и он срывающимся голосом бросил угрозу:
-- Клянусь богом, Стэндинг, я с тобой разделаюсь!
-- Вы только одно можете сделать, -- продолжал я. -- Вы можете стянуть
этот невероятно свободный брезент. А если не умеете, так убирайтесь вон! И
мне все равно, вернетесь ли вы через неделю или хоть через все десять дней!
И в самом деле, какие репрессии может предпринять даже смотритель
большой тюрьмы против узника, к которому уже применена самая крайняя мера?
Вероятно, смотритель Этертон изобрел наконец новую угрозу, потому что он
заговорил. Но я уже успел окрепнуть настолько, что запел: "Пой куку, пой
куку, пой куку!.." И не переставал петь, пока дверь со звоном не
захлопнулась и не взвизгнули задвигаемые болты.
Теперь, когда я научился этому фокусу, действовать было легко. И я
знал, что чем больше я буду странствовать, тем это будет легче. Стоило
только установить линию наименьшего сопротивления, и каждое новое странствие
по ней встречало все меньше затруднений. Как вы увидите, мои путешествия из
жизни Сан-Квэнтина в другие жизни стали совершаться почти автоматически.
Как только смотритель Этертон и его банда оставили меня в покое,
достаточно было нескольких минут волевого напряжения, чтобы воскресшая часть
моего тела опять погрузилась в "малую" смерть. Это была смерть при жизни, но
смерть малая, подобная временной смерти, вызываемой посредством анестезии.
Итак, от гнусной и скаредной жизни, от звериного одиночества, от
тюремного ада, от прирученных мух, от мучений тьмы и перестукивания с живыми
мертвецами я одним скачком удалился в пространство и время.
Наступила длительная тьма, и медленно нараставшее сознание иных вещей,
иных "я". В этом сознании первое, что мною ощущалось, была пыль. Она была у
меня в ноздрях, сухая и едкая. Она была у меня на губах. Она покрывала мне
лицо. В особенности чувствовали ее кончики пальцев.
Затем я начал ощущать непрерывное движение. Вокруг меня все качалось и
колыхалось. Чувствовались толчки и подергивания, и я без удивления расслышал
скрежет колес и осей и грохот железных шин по камню и песку. Потом до меня
донеслись усталые голоса людей, которые ругались и хрипло покрикивали на еле
двигавшихся измученных животных.
Я открыл свои воспаленные от пыли глаза, и тотчас же в них въелось еще
больше пыли. Грубые одеяла, на которых я лежал, были покрыты пылью на
полдюйма. Над собой, сквозь завесу пыли, я видел сводчатую крышу --
качающуюся холстину, -- и мириады пылинок тяжко нисходили в стрелках
солнечного света, проникавшего сквозь отверстие в холстине. Я видел себя
ребенком, мальчиком лет восьми или девяти, чувствовал себя разбитым, как и
женщина с запыленным лицом и диким видом, сидевшая возле меня и ласкавшая
плачущего младенца, лежавшего у нее в объятиях. Это была моя мать. Это я
знал с такой же уверенностью, как знал, выглядывая из-под парусинового
навеса -- крыши повозки, -- что плечо человека, сидевшего на месте возницы,
принадлежит моему отцу.
Когда я полез через пожитки, которыми была нагружена повозка, мать
сказала мне усталым и раздраженным голосом:
-- Неужели ты не можешь посидеть спокойно минутку, Джесс?
Джесс -- это было мое имя; фамилии своей я не знал, но слышал, что мать
называла отца Джоном. Смутно помню, что как-то раз посторонние люди,
обращаясь к моему отцу, назвали его капитаном. Я знал, что он начальник
отряда и что его приказам все повинуются. Вылезши через отверстие в
парусине, я сел на козлы рядом с отцом. Воздух был полон пыли, поднимавшейся
от повозок и копыт животных. Пыль была так густа, что стлалась туманом,
низкое солнце тускло просвечивало сквозь него и имело кровавый оттенок.
Зловеще было не только зарево этого закатывающегося солнца, но и все
вокруг меня -- ландшафт, лицо моего отца, трепетание младенца в руках
матери, которого она никак не могла угомонить, шестерка лошадей, которых
гнал мой отец, непрерывно понукая их; трудно было сказать, какой они масти,
-- так густо покрывала их пыль. Ландшафт представлял собой удручающую взоры
пустыню. Низкие холмы уходили вдаль по обе стороны дороги, там и сям на их
склонах виднелись кустики, сожженные солнцем. В общем же поверхность этих
холмов была голая, иссохшая, песчаная и скалистая. Путь наш пролегал по
песчаным оврагам между холмов. Дно этих оврагов было голое, если не считать
случайных кустов и кое-где встречавшихся редких пучков сухой, увядшей травы.
Воды не видно было и следов, лишь местами попадались размытые водою рытвины,
оставшиеся от былых ливней.
Только повозка моего отца была запряжена лошадьми. Повозки шли гуськом,
и когда обоз повернул и загнулся, я увидел, что прочие повозки запряжены
волами. У каждой повозки было по три или четыре ярма волов, и рядом с ними,
по глубокому песку, шли люди с остроконечными бодилами, которыми они
покалывали неохотно двигавшихся животных. На одной из излучин дороги я
сосчитал повозки впереди и позади нашей. Их было сорок, считая и нашу. Я
часто пересчитывал их и раньше этого. И когда теперь стал считать их, как
ребенок, желающий убить время, все они оказались налицо -- все сорок, все с
парусиновыми верхами, огромные, массивные, грубо сколоченные, качающиеся,
валкие, со скрипом и треском двигавшиеся по пескам, пыльной полыни и камню.
Вправо и влево от нас, растянувшись вдоль обоза, ехало человек
двенадцать или пятнадцать мужчин и подростков на конях. На передках своих
седел они держали длинноствольные винтовки. Когда они приближались к нашей
повозке, я замечал на их лицах, покрытых пылью, озабоченное и тревожное
выражение, такое же, как на лице отца. У отца, как и у них, под рукой лежала
длинноствольная винтовка.
По одну сторону обоза, прихрамывая, тащилось десятка два или больше
волов с разбитыми ногами и натертыми ярмом шеями -- сущие скелеты, то и дело
останавливающиеся над встречными пучками иссохшей травы; их всего чаще
покалывали юноши с усталыми лицами, гнавшие волов. Иногда какой-нибудь из
этих волов останавливался и начинал мычать, и мычание это было таким же
зловещим, как и все вокруг.
Вспоминается мне, что когда-то я жил, еще более крохотным мальчиком, у
поросших деревьями берегов потока. Повозки качались, я покачивался на козлах
возле отца и то и дело возвращался в воспоминаниях к приятной картине воды,
струящейся между деревьями. У меня было чувство, словно я бесконечно давно
живу в этой повозке и еду все вперед и вперед с этими своими спутниками.
Но сильнее всего и во мне, и во всех моих спутниках было ощущение того,
что мы влечемся к какому-то Року. Путь наш похож был на погребальное
шествие. Ни разу никто не засмеялся. Ни разу я не услышал веселой нотки в
чьем-нибудь голосе. Ни мира, ни покоя не знали мы. Лица людей и подростков,
ехавших впереди обоза, были мрачные, решительные, безнадежные. Отведя взоры
от пыльного заката, я часто устремлял их в лицо моего отца, тщетно ища на
нем хоть тень веселья. Не могу сказать, чтобы лицо моего отца, худое и
запыленное, было безнадежно. Оно просто было угрюмо, мрачно и тревожно --
чаще всего тревожно.
Внезапный трепет пробежал по обозу. Отец поднял голову. И моя голова
поднялась. Даже наши кони подняли свои усталые головы, с хрипом втянули в
себя воздух и пошли бойчее. Лошади передних всадников также ускорили шаг.
Что до стада волов, смахивавших на вороньи пугала, то они пустились вскачь.
Это было уморительное зрелище. Бедные твари были так неуклюжи в своем
бессильном проворстве! Это были скачущие скелеты, облаченные в шелудивую
кожу -- но они обогнали мальчишек, своих пастухов. Впрочем, ненадолго. Волы
опять пошли шагом; быстрым, шатающимся, болезненным шагом: их уже не манили
сухие пучки травы.
-- В чем дело? -- спросила мать из повозки.
-- Вода! -- ответил отец. -- Должно быть, Нефи.
-- Слава богу! Может быть, нам продадут и еды, -- произнесла мать.
И наши огромные повозки, в облаке кроваво-красной пыли, со скрежетом,
скрипом, треском и грохотом вкатились в Нефи. Поселок составляла дюжина
разбросанных лачуг. Местность была такой же, как и та, по которой мы ехали.
Не видно было деревьев -- один голый песок и местами кусты. Но зато
виднелись возделанные поля, а кое-где и заборы. И была вода! По руслу не
бежали ручьи. Но русло реки было влажно, и местами в нем застоялись лужи, в
которые вошли разнузданные верховые кони и волы, погрузив свои морды до
самых глаз. Тут же росла небольшая ива.
-- Должно быть, это мельница Билля Блэка, о которой нам рассказывали,
-- промолвил отец, указав на какое-то здание матери, нетерпеливо
выглядывавшей из-за его плеча.
К нашей повозке подъехал старик в замшевой рубашке, с длинными,
косматыми, выцветшими от солнца волосами и заговорил с отцом. Был подан
сигнал, и передние повозки обоза начали разворачиваться кругом. Местность
благоприятствовала этому маневру; благодаря продолжительной практике он был
выполнен гладко, так что когда наконец сорок повозок остановились. они
образовали круг. Множество женщин с усталыми и запыленными лицами, как у
моей матери, выползли из повозок. Высыпала и целая орда ребят. Тут было по
меньшей мере пятьдесят детей, и мне казалось, что я всех их давно знаю.
Женщин было не менее двух десятков; они тотчас же занялись приготовлением
ужина.
Пока одни рубили вместо хвороста сухую полынь, а мы, дети, тащили ее к
кострам, где она разгоралась, другие снимали ярмо с волов и пускали животных
к воде. Затем мужчины стали передвигать повозки; дышло каждой повозки
пришлось внутри круга, и каждая повозка спереди и сзади находилась в тесном
соприкосновении с соседней. Большие тормоза были крепко замкнуты; мало того,
колеса всех повозок соединили цепями. Для нас, детей, это было не ново. Это
был бивуак в чужом краю. Одна повозка была оставлена вне круга, образовав
ворота в этот "корраль" -- загородку. Мы знали, что попозже, но раньше, чем
в лагере улягутся спать, животных загонят внутрь и повозка, служащая
воротами, будет привязана цепями, как и другие. В ожидании этого животные
паслись на скудной траве под надзором мужчин и мальчиков.
Пока разбивали лагерь, мой отец с несколькими другими мужчинами,
включая и старика с длинными выцветшими космами, пешком пошел по направлению
к мельнице. Я помню, все мы -- мужчины, женщины и дети -- наблюдали их уход;
казалось, что они пошли по чрезвычайно важному делу.
В их отсутствие несколько мужчин, незнакомых нам жителей пустынной
Нефи, подошли к нашему лагерю. Они были белые, как и мы, но с жесткими,
угрюмыми и мрачными лицами: казалось, они были озлоблены на всю нашу
компанию. В воздухе пахло бедой, и то, что говорили пришедшие, не могло не
возмутить наших мужчин. Но женщины успели предупредить всех мужчин и
подростков, что ссор никоим образом не должно быть.
Один из незнакомцев приблизился к нашему костру, где моя мать стряпала.
Я только что подошел с полной охапкой полыни и остановился послушать и
поглядеть на непрошеного гостя, которого я ненавидел, ибо в самом воздухе
носилась ненависть, ибо я знал, что в нашем лагере все, как один, ненавидят
этих чужестранцев, белокожих, как и мы, по милости которых мы вынуждены были
разбить наш лагерь как крепость.
У незнакомца, подошедшего к нашему костру, были голубые глаза, жесткие,
холодные и пронзительные; волосы -- песчаного цвета. Лицо было обрито до
подбородка, а вокруг подбородка, прикрывая щеки до самых ушей, росла
песочная бахромка седоватых бакенбардов. Мать не поздоровалась с ним, и он
не кланялся. Он просто стоял и молча глядел на нее некоторое время. Потом
крякнул и с издевкой промолвил:
-- Готов побиться об заклад, что тебе хотелось бы быть сейчас дома, в
Миссури.
Я видел, что мать прикусила себе губы, сдерживаясь, и не сразу
ответила:
-- Мы из Арканзаса.
-- Я думаю, у вас имеются основательные причины скрывать, откуда вы
едете, -- продолжал он. -- Вы прогнали избранный народ божий из Миссури.
Мать ничего не ответила.
-- ...А теперь, -- продолжал он, помолчав, -- вы пришли сюда хныкать и
выпрашивать хлеб у людей, которых вы преследовали...
Мгновенно, несмотря на всю свою молодость, я ощутил в себе гнев,
древний, багровый гнев, всегда необузданный и неукротимый.
-- Ты лжешь! -- запищал я. -- Мы не миссурийцы. Мы не хнычем! И мы не
попрошайничаем! У нас есть чем заплатить!
-- Замолчи, Джесс! -- крикнула мать, закрывая мне рот рукой. И она
обратилась к незнакомцу: -- Уходи и оставь мальчика в покое.
-- Я угощу тебя свинцом, проклятый мормон! -- всхлипнув, крикнул я,
прежде чем мать успела остановить меня, и обогнул костер, уклоняясь от ее
подзатыльника.
Что касается незнакомца, то моя выходка не произвела на него ни
малейшего впечатления. Я ожидал самой жестокой кары от страшного незнакомца
и опасливо следил за ним, пока он смотрел на меня с невозмутимой
серьезностью.
Наконец он заговорил, -- заговорил торжественно, важно покачивая
головой, словно произносил приговор.
-- Яблочко от яблони недалеко падает, -- вымолвил он. -- Молодое
поколение так же нечестиво, как и старое. Весь род неисправим и проклят.
Никого не спасешь -- ни молодого, ни старого. Нет им искупления. Даже кровь
Христа не может стереть их неправду.
-- Проклятый мормон! Проклятый мормон! Проклятый мормон!
Я проклинал его, танцуя вокруг костра и спасаясь от материнской руки,
пока он не ушел.
Когда вернулись отец и сопровождавшие его мужчины, работы в лагере
прекратились, ибо все с тревогой столпились вокруг него.
-- Не хотят продавать? -- спрашивали женские голоса.
Отец покачал головой.
Тут заговорил синеглазый, со светлыми бакенбардами тридцатилетний
гигант, быстро протиснувшийся в середину толпы.
-- Говорят, у них муки и провизии на три года, -- начал он. -- Раньше
они всегда продавали переселенцам, а теперь не хотят. И мы ведь с ними не
ссорились; они в ссоре с правительством, а вымещают на нас. Это нечестно,
капитан! Нечестно, говорю я. У нас женщины и дети, до Калифорнии несколько
месяцев пути, зима на носу, а перед нами пустыня!
Он на мгновение умолк и обратился уже ко всей толпе:
-- Вы ведь не знаете, что такое пустыня. То, что нас здесь окружает, не
пустыня! Я вам говорю -- это рай, это небесные пастбища, текущие млеком и
медом по сравнению с тем, что нам предстоит! Говорят тебе, капитан, нам
нужно раздобыть муки первым делом. Если они не хотят продавать, мы должны
взять ее!
Многие мужчины и женщины подняли одобрительный вопль; но отец заставил
всех умолкнуть, подняв руку
-- Я согласен со всем, что ты говорил, Гамильтон, -- начал он.
В криках толпы потонул голос отца, и он опять поднял руку.
-- Только одно ты забыл принять в соображение, Гамильтон, чего и ты, и
мы все не должны забывать. Брайам Юнг объявил военное положение, и у Брайама
Юнга есть армия. Мы, конечно, в один миг можем стереть с лица земли Нефи и
забрать весь провиант, который поднимем. Но мы недалеко увезем его. Святоши
Брайама догонят нас, и нас сотрут с лица земли также в одно мгновение. Вы
это знаете, я это знаю -- все это знают!
Слова отца убедили слушателей, уже успевших остыть. То, что он им
сказал, было не ново. Они просто забыли об этом в минуту возбуждения и
голодного отчаяния.
-- Никто скорей меня не пойдет драться за правое дело, -- продолжал
отец, -- но случилось так, что сейчас мы не можем драться. Если пойдут
ссоры, у нас нет никаких шансов. А не нужно забывать, что с нами женщины и
дети! Мы должны сохранить спокойствие во чтобы то ни стало и стерпеть всякое
оскорбление, какое бы они нам ни нанесли.
-- Но ведь перед нами пустыня! -- крикнула женщина, кормившая грудью
ребенка.
-- До пустыни нам встретится еще несколько поселений, -- отвечал отец.
-- В шестидесяти милях к югу лежит Фильмор. Потом Холодный Ручей. Еще через
пятьдесят миль -- Бивер. Потом Парован. Оттуда двадцать миль до Седар-Сити.
Чем больше мы будем удаляться от Соленого озера, тем вероятнее, что нам
продадут провизии.
-- А если не продадут? -- спросила та же женщина.
-- В таком случае мы избавимся от них, -- продолжал отец. -- Последний
поселок -- Седар-Сити. Нам придется только пойти дальше, вот и все; и,
благодарение небу, мы от них избавимся. Через два дня пути начнутся хорошие
пастбища и вода. Это место зовут Горными Лугами. Там нет жителей, там мы
сможем дать отдохнуть нашей скотине и отходить ее перед пустыней. Может
быть, удастся настрелять дичи. И в самом худшем случае мы будем идти,
сколько сможем, потом бросим повозки, нагрузим, что можно будет, на нашу
скотину и последние переходы совершим пешком. По дороге будем съедать
скотину. Лучше прийти в Калифорнию порожняком, чем оставить здесь свои
кости. А если мы затеем ссору, обязательно этим кончится!
И после новых предостережений против насилия или ссоры
импровизированный митинг был распущен. Я не скоро уснул в эту ночь. Злоба на
мормона так сильно душила меня, что я еще не спал, когда отец залез в
повозку, совершив последний обход ночной стражи. Родители думали, что я
сплю, -- я услышал, как мать спросила отца: как он думает, дадут ли нам
мормоны спокойно уйти из их мест? Он отвернул от нее лицо, будто бы возясь с
сапогом, но ответил тоном полной уверенности, что мормоны отпустят нас с
миром, если мы сами не затеем ссоры.
Но я видел его лицо при свете сального огарка, и на лице не было
уверенности, слышавшейся в голосе. Так я заснул, подавленный предчувствием
страшного Рока, нависшего над нами, с мыслями о Брайаме Юнге, который маячил
в моем детском воображении страшным, свирепым созданием, настоящим чертом, с
рогами и хвостом.
Проснулся я в одиночке от боли, вызванной тисками смирительной рубашки.
Вокруг меня была все та же четверка: смотритель Этертон, капитан Джэми,
доктор Джексон и Эль Гетчинс. Я исказил свое лицо насильственной улыбкой,
стараясь овладеть собой, несмотря на мучительные боли восстанавливающегося
кровообращения. Я выпил воду, которую мне подали, отмахнулся от
предложенного хлеба и отказался отвечать на вопросы. Закрыв глаза, я силился
вернуться к кругу повозок в Нефи. Но, пока мои мучители стояли около и
разговаривали между собой, я не мог этого сделать.
Один обрывок разговора я подслушал:
-- Совершенно как вчера, -- говорил доктор Джексон. -- Никаких перемен
в какую бы то ни было сторону!
-- В таком случае он может выдержать это и дальше? спросил смотритель
Этертон.
-- Не сморгнув! Следующие двадцать четыре часа дадутся ему так же
легко, как и последние. Он неисправим, говорят вам -- закоренелый упрямец!
Если бы я не знал, что это невозможно, я бы сказал, что он находится под
действием наркотика.
-- Я знаю, какой у него наркотик! -- вставил смотритель. -- Это его
проклятая воля! Бьюсь об заклад, что если бы ему вздумалось, он бы прошелся
босиком по раскаленным докрасна камням, как жрецы канаков на островах Южного
океана.
Вероятно, это слово "жрецы" я и унес с собой в тьму следующего полета
во времени. Может быть, оно послужило толчком, но всего вероятнее -- это
простое совпадение. Во всяком случае, проснувшись, я увидел себя лежащим
навзничь на твердом каменном полу. Руки мои были скрещены, и каждый локоть
покоился в ладони противоположной руки. Я лежал наполовину проснувшись, с
закрытыми глазами; я потер свои локти ладонями и убедился, что тру
чудовищные мозоли! Но в этом не было ничего удивительного. К этим мозолям я
отнесся как к чему-то давнишнему и само собой разумеющемуся.
Я раскрыл глаза. Приютом мне служила небольшая пещера, не более трех
футов высоты и двенадцати футов длины. В пещере было очень жарко. Капельки
пота покрывали всю поверхность моего тела. Время от времени несколько
капелек сливались, образуя крохотный ручеек. Я был без одежды, если не
считать грязной тряпки, обернутой вокруг бедер. Кожа моя загорела до цвета
красного дерева. Я был страшно тощ и взирал на эту свою худобу с какой-то
безотчетной гордостью, словно в этой отощалости заключалось геройство.
Особенно любовно ощупывал я свои торчащие ребра. Самый вид впадины между
ребрами рождал во мне ощущение торжественной экзальтации -- какой-то даже
святости!..
На коленях моих были такие же сплошные мозоли, как и на локтях. Я был
невероятно грязен. Борода моя, некогда белокурая, теперь представляла собою
грязные, полосатые, бурые лохмы, свисавшие спутанной массой до живота.
Длинные волосы, такие же грязные и косматые, падали мне на плечи; пряди их
то и дело закрывали мне глаза, и время от времени мне приходилось
отбрасывать их руками. Но обычно я смотрел сквозь эти лохмы, как дикий
зверь, выглядывающий из чащи.
У отверстия моей темной пещеры, смахивавшей на тоннель, день рисовался
стеной ослепительного солнечного сияния. Спустя некоторое время я полез к
выходу и для вящего мучительства улегся под палящее солнце на узком камне.
Это солнце буквально жарило меня, и чем мне было больнее, тем больше мне это
доставляло удовлетворения -- и благодаря этому становился господином своей
плоти, становился выше ее притязаний и укоров. Нащупав под собой острый
выступ камня, я стал тереться о него телом, умерщвлять свою плоть в
неподдельном экстазе.
Зной был удушливый, неподвижный. Ни малейшего ветерка над речной
долиной, на которую я время от времени поглядывал. В нескольких сотнях футов
подо мной текла река. Противоположный ее берег был плоский, песчаный и
тянулся до самого горизонта. Над водой там и сям виднелись купы пальм.
На моем берегу, изрезанные водой, торчали высокие, выветрившиеся скалы.
Дальше по излучине как на ладони виднелись высеченные из скалы четыре
колоссальные фигуры. От их лодыжек до земли было расстояние не меньше
человеческого роста. Эти четыре колосса сидели положив руки на колени; плечи
их почти совершенно выветрились, и глядели они на реку. По крайней мере --
трое из них; от четвертого остались только нижние конечности до колен и
огромные руки, покоившиеся на коленях. У ног этой фигуры прикорнул до
смешного малый сфинкс; но этот сфинкс был выше меня ростом.
Я с презрением поглядел на эти резные фигуры и сплюнул. Я не знал, что
это такое -- забытые ли боги или никем не вспоминаемые цари. Но для меня они
были символом тщеславия и тщеты земных людей и земных желаний.
И над всей этой речной излучиной, над водой и широкими песками за нею,
опрокинулся медный свод неба, не омраченный ни малейшим облачком.
Часы проходили, а я жарился на солнце. Часто я забывал о зное и боли,
уходя в мечты, видения и воспоминания. Я знал, что все это --
выветривающиеся колоссы, река, песок, и солнце, и медное небо -- все
исчезнет во мгновение ока. В любой момент могут прозвучать трубы архангелов,
упадут звезды с неба, небеса зашатаются, и Господь Бог сойдет с воинством
своим для страшного суда.
Я знал это так проникновенно, что ежеминутно готов был к изумительному
событию. Вот почему я и лежал здесь в отрепьях, в грязи и ничтожестве. Я был
кроток и смирен, я презирал бренные нужды и страсти плоти. С презрением и не
без удовлетворения думал я о далеких городах на равнине, которые я когда-то
знал: среди блеска и роскоши они не подозревали, что последний час близок.
Что ж, скоро они узнают; но будет поздно! А я буду смотреть. Я-то готов. В
ответ на их вопли и жалобы я восстану, возрожденный и блистающий, и займу
заслуженное и по праву принадлежащее мне место в Царстве Божием.
Временами, в промежутках между муками и видениями, в которых я поистине
раньше времени входил в царство Божие, я перебирал в уме старинные споры и
разногласия. Да, Новат был прав в своем утверждении, что раскаявшиеся
отступники никогда не будут приняты в лоно церкви. Не было также сомнения,
что савеллианская ересь -- порождение дьявола.
Я часто возвращался мыслью к природе единства Божия и вновь перебирал в
уме утверждение сирийца Ноэта. Но мне больше нравились рассуждения моего
возлюбленного учителя Ария. Воистину, если человеческий разум может
определить что бы то ни было, то было время, когда Сына не существовало. По
самой сути этого понятия должно было быть время, когда Сын начал
существовать! Отец должен быть старше своего Сына. Думать иначе было бы
богохульством и умалением Господа.
Я вспоминал дни своей молодости, когда я сидел у ног Ария, пресвитера в
городе Александрии, лишенного епископства богохульным еретиком Александром.
Александр -- савеллианец -- вот кто он был, и ногами он крепко стоял в аду.
Да, я присутствовал на Никейском соборе и был свидетелем тому, как он
увиливал от окончательного ответа. Я помнил, как император Константин
изгонял Ария за его прямоту. Помнил, как Константин раскаялся по
государственным и политическим соображениям и приказал Александру и другому
Александру, трижды проклятому епископу константинопольскому, допустить
наутро Ария к причастию. И не умер ли Арий на улице в ту же ночь? Говорят,
что на него напала жестокая болезнь по молитве Александра пред Господом. Но
я утверждаю -- и так думали мы все, ариане, -- что жестокая болезнь вызвана
была ядом, а яд был дан самим Александром, епископом константинопольским,
отравителем, сатаной.
Я терся своим телом об острые камни и от полноты убеждения бормотал
вслух:
-- Пусть смеются евреи и язычники! Пусть они торжествуют, ибо срок их
недолог. И для них уже не останется времени после срока!
Я часто говорил вслух сам с собою на этой каменной полке, нависшей над
рекой. Меня лихорадило, и время от времени я скупо отпивал воды из вонючего
козьего меха. Этот козий мех я повесил на солнце для того, чтобы кожа больше
воняла, и в воде не было ни свежести, ни прохлады. Тут же была еда; она
лежала на полу моей пещеры -- несколько корешков и ломоть заплесневелой
ячменной лепешки; и я был голоден, но не ел.
В этот благословенный нескончаемый день я только и делал, что жарился
на солнце, умерщвляя свою плоть, глядел на пустыню, воскрешал старые
воспоминания, мечтал, грезил и вслух исповедовал свои убеждения.
Когда солнце село в коротких сумерках, я бросил последний взгляд на
мир, которому суждено было скоро погибнуть. У ног колоссов я различил
крадущиеся фигуры зверей, живших в этих некогда гордых сооружениях человека.
Под рычание зверей я заполз в свою пещеру и, бормоча в бреду молитвы о том,
чтобы скорей настал последний день, погрузился в царство сна.
Ко мне вернулось сознание, я увидел в одиночке себя и тот же квартет
моих мучителей.
-- Богохульный еретик, смотритель Сан-Квэнтина, стопами уже попирающий
ад, -- пролепетал я, отпив большой глоток воды, поднесенный к моим губам. --
Пусть тюремщики и старосты торжествуют. Срок их недалек, и после него не
будет им срока.
-- Он рехнулся! -- решил смотритель Этертон.
-- Он дурачит вас! -- решил доктор Джексон и был близок к истине.
-- Но он ведь отказывается от еды! -- возражал капитан Джэми.
-- Ба! Он может поститься сорок дней, и это не причинит ему вреда, --
отвечал доктор.
-- И постился! -- вставил я. -- И сорок ночей! Сделайте милость,
стяните потуже куртку и убирайтесь вон!
Главный староста попробовал просунуть палец под куртку.
-- Даже с помощью блока с веревками вы не стянете шнуровку и на
четверть дюйма! -- уверял он.
-- Нет ли у вас жалоб, Стэндинг? -- спросил смотритель.
-- Да, -- отвечал я, -- целых две.
-- В чем же они заключаются?
-- Первая в том, что куртка невероятно свободна, Гетчинс -- осел; если
бы он захотел, он мог бы стянуть шнуровку еще на целый фут!
-- А в чем другое неудовольствие? -- продолжал смотритель Этертон.
-- В том, что вы зачаты самим сатаной, смотритель!
Капитан Джэми и доктор Джексон захихикали; смотритель засопел и вышел
из моей камеры.
Оставшись в одиночестве, я попытался снова погрузиться во мрак и
воскресить перед собою круг повозок в Нефи. Мне интересно было знать, чем
кончилось наше зловещее путешествие по пустынному и враждебному краю на
сорока огромных повозках; не совсем безучастен я был и к судьбе шелудивого
отшельника с ободранными о камень ребрами и вонючим козьим мехом. И я
действительно вернулся назад; но не в Нефи и не к Нилу...
Здесь, читатель, я должен остановиться и пояснить вам кое-что, чтобы
все рассказанное стало вам понятнее. Необходимо это потому, что мне немного
остается времени для окончания моих воспоминаний. Скоро, очень скоро меня
выведут и повесят! Будь у меня тысяча жизней -- все же я не мог бы описать
до последних деталей мои переживания в смирительной куртке. Вот почему я
должен сократить свое повествование.
Прежде всего скажу -- Бергсон прав. Жизнь нельзя объяснить
ителлектуальными терминами. Недаром сказал когда-то Конфуций: "Если мы так
мало знаем жизнь -- что мы можем знать о смерти?" И мы действительно не
знаем жизни, если не можем объяснить ее в понятных словах. Мы знаем жизнь
только как явление, как дикарь может знать динамо-машину; но мы ничего не
знаем об истинной сущности жизни.
Во-вторых, Маринетти не прав, утверждая, что материя -- единственная
тайна и единственная реальность. Я говорю -- и вы, читатель, понимаете, что
я говорю авторитетно, -- и говорю, что материя -- единственная иллюзия. Конт
называл мир, который представляется равнозначным материи, великим фетишем --
и я согласен с Контом.
Жизнь -- реальность и тайна. Жизнь значительно отличается от химической
материи, меняющейся в модусах понятия. Жизнь продолжает существовать. Жизнь
равна нити, проходящей сквозь все модусы бытия. Я это знаю. Я -- жизнь. Я
прожил десять тысяч поколений. Я прожил миллионы лет. Я обладал множеством
тел. Я, хозяин этого множества тел, уцелел. Я -- жизнь. Я -- неугасимая
искра, вечно вспыхивающая и изумляющая лик времени, вечно творящая свою волю
и изливающая свои страсти через скопления материи, называемые телами,
которые служили мне временной обителью.
Посмотрите, вот мой палец, столь чувствительный, столь тонкий на ощупь,
столь изощренный в разнообразных движениях, столь крепкий и твердый, умеющий
сгибаться или коченеть; отрежьте его -- я останусь живым. Тело изувечено --
я не изувечен. Дух, составляющий меня, остался цел.
Отлично! Отрежьте все мои пальцы. Я -- остаюсь я. Дух неразделен.
Отрежьте обе кисти. Отрежьте обе руки у плеч! Отрежьте обе ноги у бедер. А
я, непобедимый и неразрушимый, живу! Разве я умалился из-за этих увечий?
Разумеется, нет! Остригите мне волосы. Срежьте острыми бритвами мои губы,
нос, уши -- да хоть вырвите глаза с корнем; и все же, замурованный в
бесформенном черепе, прикрепленный к изрубленному, изувеченному торсу, в
клетке униженной плоти остаюсь я, неизуродованный, неуменьшенный!
О, сердце еще бьется? Отлично! Вырежьте сердце или лучше, бросьте этот
последний комок в машину с тысячей ножей и превратите его в окрошку -- и я
-- я -- поймите вы это -- дух, и тайна, и жизненный огонь -- унесусь прочь.
Я не погиб! Только тело погибло, а тело -- это не я!
Я думаю, что полковник де Рочас был прав, утверждая, что напряжением
воли он посылал девушку Жозефину, пока она находилась в гипнотическом
трансе, назад через прожитые ею восемнадцать лет, через безмолвие и тьму,
предшествовавшие ее рождению, к свету предыдущей жизни, когда она была
прикованным к постели стариком, бывшим артиллеристом Жан-Клодом Бурдоном. Я
верю, что полковник де Рочас действительно гипнотизировал эту воскресшую
тень старика и напряжением своей воли посылал его в обратном порядке через
семьдесят лет его жизни в тьму и затем в дневной свет его жизни в образе
злой старухи Филомены Картерон.
И не показал ли я вам уже, мой читатель, что в предшествующие эпохи я
обитал в разнообразных скоплениях материи: я жил в образе графа Гильома де
СенМора, затем шелудивого и безвестного пустынника в Египте и мальчика
Джесса, отец которого был начальником сорока повозок в великом переселении
на Запад? А теперь, когда я пишу эти строки, не являюсь ли я Дэррелем
Стэндингом, приговоренным к смерти узником Фольсомской тюрьмы, а некогда
профессором агрономии в сельскохозяйственном колледже Калифорнийского
университета?
Материя -- великая иллюзия. Другими словами, материя проявляется в
форме, а форма -- не что иное, как видение. Где находятся сейчас искрошенные
утесы Древнего Египта, на которых я некогда лежал, как дикий зверь, мечтая о
Царстве Божием? Где теперь тело Гильома де Сен-Мора, пронзенного насквозь на
освещенной луною траве пламенным Гюи де Вильгардуэном? Где сорок огромных
повозок, составленных кругом в Нефи? Где мужчины, женщины, дети и тощий
скот, помещавшиеся внутри этого круга? Все это не существует, ибо все это
были формы проявления текучей материи. Они прошли -- и их нет.
Аргументация моя донельзя проста. Дух -- единственная реальность,
которая существует. Я -- дух, и я существую, продолжаюсь. Я, Дэррель
Стэндинг, обитатель многих плотских обителей, напишу еще несколько строк
этих воспоминаний, а затем в свою очередь исчезну. Моя внешняя форма, мое
тело сгинет, когда его достаточно долго продержат подвешенным за шею, и
ничего от него не останется во всем мире материи. А в мире духа останется
память о нем. Материя не имеет памяти, ибо формы ее исчезают, и то, что
запечатлено в них, исчезает вместе с ними.
Еще одно слово, прежде чем я вернусь к моему повествованию. Во всех
моих скитаниях во тьме других жизней, принадлежавших мне, я ни разу не мог
довести до конца то или иное скитание. Много былых существований пережил я,
прежде чем мне удалось вернуться к мальчику Джессу в Нефи. Возможно, что в
конечном итоге я испытал переживания Джесса десятки раз, иногда начиная его
карьеру маленьким мальчиком в поселениях Арканзаса, и по крайней мере
десяток раз проходил мимо пункта, в котором я его оставил в Нефи.
Рассказывать обо всем подробно было бы напрасной тратой времени; и поэтому,
не в ущерб правдоподобию моего рассказа, я обойду молчанием то, что в нем
смутно, неясно и повторяется, и изложу факты так, как я их воссоздал из
разных моментов, -- в общем так, как я их переживал.
Задолго до рассвета лагерь в Нефи зашевелился. Скотину погнали к
водопою и на пастбище. Пока мужчины распутывали на колесах цепи и
оттаскивали телеги в сторону, чтобы запрячь волов, женщины варили сорок
завтраков на сорока кострах. Дети, дрожа от предрассветного холода скучились
у костров, деля место с последней сменой ночной стражи, сонно дожидавшейся
кофе.
Много требуется времени, чтобы собрать в дорогу огромный обоз вроде
нашего, и скорость его движения крайне мала. Солнце уже час как сияло на
небе, и день пылал зноем, когда мы наконец выкатились из Нефи и поплелись по
пескам. Никто из жителей местечка не смотрел на нас, когда мы уезжали. Все
предпочитали оставаться в домах, и от этого наш отъезд был так же зловещ,
как и наш въезд накануне.
Опять потянулись долгие часы среди иссушающего зноя и едкой пыли,
полыни и песку и бесплодных, проклятых богом равнин. Ни жилья, ни скота, ни
ограды, ни малейших признаков рода человеческого не встретилось нам в этот
день. И на ночь мы составили наши повозки кругом у пересохшего ручья, во
влажном песке которого вырыли множество ям, медленно наполнявшихся
просачивавшейся водой.
Дальнейшие наши страдания всегда представляются мне в отрывочном виде.
Мы столько раз разбивали лагерь, неизменно составляя повозки в круг, что, по
моим детским расчетам, после Нефи прошло много времени. И все так же над
нами висело сознание, что мы влечемся к какому-то неведомому, но неизбежному
и грозному Року.
Мы делали около пятнадцати миль в сутки. Я знал это из слов отца,
который раз объявил, что до Фильмора, следующего мормонского поселка,
остается шестьдесят миль, а мы в дороге три раза делали привал. Это значит,
что мы ехали четыре дня. На переезд от Нефи до последнего привала,
запомнившегося мне, у нас ушло недели две или немного больше.
В Фильморе жители оказались столь же враждебно настроенными к нам, как
и все вообще после Соленого озера. На наши просьбы продать провизии они
отвечали насмешками и дразнили нас миссурийцами
Прибыв на место, мы перед самым большим домом из десятка домов,
составлявших поселок, увидели двух верховых лошадей. запыленных, покрытых
потом, изнуренных. Старик, о котором я уже упоминал, с длинными выцветшими
волосами, в рубашке из оленьей кожи, бывший чем-то вроде адъютанта или
заместителя при отце, подъехал к нашей повозке и, кивнув головой, указал на
изнуренных животных.
-- Не щадят коней, капитан! -- пробормотал он вполголоса. -- И какого
черта им так скакать, если не за нами?
Но отец и сам заметил, в каком состоянии лошади. Я видел, как у него
сверкнули глаза, и поджались губы, и суровые складки на мгновение появились
на лице. Только и всего. Но я умел делать выводы и понял, что эти две
изнуренные верховые лошади делают наше положение еще более трудным.
-- Я думаю, они следят за нами, Лабан, -- только и ответил отец.
В Фильморе я увидел человека, которого мне суждено было впоследствии
увидеть еще раз. Это был высокий, широкоплечий мужчина средних лет, со всеми
признаками прекрасного здоровья и огромной силы -- силы не только тела, но и
духа. В отличие от всех мужчин, каких я привык видеть вокруг себя, он был
гладко выбрит. Пробившиеся волоски свидетельствовали, что он уже порядочно
поседел. У него был непомерно широкий рот и губы плотно сжаты, словно у него
недоставало передних зубов. Нос у него был большой, квадратный и толстый.
Квадратно было и его лицо, с широкими скулами, с массивной челюстью и
широким умным лбом. Небольшие глаза, отстоявшие друг от друга немного
больше, чем на ширину глаза, были такого синего цвета, какого я и не
видывал!
Этого человека я впервые увидел у мельницы в Фильморе. Отец с
несколькими мужчинами из нашего отряда отправился туда попытаться купить
муки, а я, терзаемый желанием разглядеть поближе наших врагов, не послушался
матери и потихоньку улизнул вслед за ними. Этот человек был одним из четырех
или пяти мужчин, стоявших кучкой возле мельника во время переговоров.
-- Ты видел этого гладкорожего старика? -- спросил Лабан отца, когда мы
возвращались в наш лагерь.
Отец кивнул.
-- Ведь это Ли, -- продолжал Лабан. -- Я его видел в городе Соленого
озера. Настоящий ублюдок! У него девятнадцать жен и пятьдесят детей,
говорят. И он помешан на религии. Но зачем он следует за нами по этой
проклятой Богом стране?
Мы продолжали наше роковое, унылое странствие. Мелкие поселки,
возникавшие там, где позволяла вода и состояние почвы, были расположены на
расстоянии в двадцать и пятьдесят миль друг от друга. А между ними тянулись
бесплодные пространства, покрытые песком и солончаками. И в каждом поселке
наши мирные попытки купить провизию не давали никаких результатов. Нам грубо
отказывали, да еще спрашивали, кто из нас продавал им провизию, когда мы их
выгоняли из Миссури? Бесполезно было говорить им, что мы из Арканзаса. Мы
действительно были из Арканзаса -- но они твердили, что мы миссурийцы.
В Бивере, в пяти днях пути к югу от Фильмора, мы опять увидели Ли. Те
же загнанные лошади стояли стреноженными у одного из домов. Но в Паровне Ли
исчез.
Седар-Сити был последним поселком. Лабан, опередивший нас, вернулся и
доложил о своей разведке отцу. Он принес важные вести.
-- Я видел, как этот Ли уезжал, капитан! И в СедарСити больше мужчин и
коней, чем полагается по размерам местечка.
Но и в этом поселке дело обошлось без неприятностей. Нам, правда,
отказались продать провизию, но оставили нас в покое. Женщины и дети не
выходили из домов, а мужчины хотя и показывались на улицах, но не входили в
наш лагерь и не дразнили нас, как в других селениях.
В этом самом Седар-Сити скончался младенец Вейнрайтов. Помню, как
плакала миссис Вейнрайт, умолявшая Лабана выпросить для нее немного
коровьего молока.
-- Может быть, это спасет ребенку жизнь! -- говорила она. -- И у них
ведь есть коровье молоко! Я собственными глазами видела молочных коров!
Сделай милость, сходи, Лабан! Беды не будет от попытки, они могут только
отказать. Скажи им, что это для младенца, для крохотного ребеночка! У
мормонских женщин материнские сердца. Они не могут отказать в чашке молока
крохотному умирающему ребеночку!
Лабан попытался, но, как он впоследствии рассказывал отцу, ему не
удалось увидеть ни одной мормонской женщины. Он видел только мужчин, и те
прогнали его.
Это был последний пост мормонов. За ним лежала обширная пустыня, а за
нею -- сказочная обетованная страна Калифорния. И когда наши телеги
выкатились из местечка ранним утром, я сидел на козлах рядом с отцом и
слушал Лабана, давшего волю своим чувствам. Мы проехали, может быть, с
полмили и поднимались на отлогий пригорок, который должен был скрыть от
наших глаз СедарСити, когда Лабан повернул своего коня, остановил его и
привстал на стременах. Там, где он остановился, виднелась свежевырытая
могилка, и я понял, что это могилка ребенка Вейнрайтов -- не первая из
могил, которые нам пришлось рыть до самых Вазачских гор.
Жуткую картину представлял собой Лабан. Старый, исхудалый, длиннолицый,
со впалыми щеками, с косматыми выцветшими волосами, рассыпавшимися по
плечам, в замшевой рубахе, он исказил свое лицо гримасой ненависти и
неутолимой ярости. Зажав длинную винтовку в одной руке, он свободным кулаком
потрясал в сторону Седар-Сити.
-- Будьте прокляты Богом! -- кричал он. -- Проклятие на ваших детей и
на нерожденных младенцев! Засуха да погубит ваш урожай! Пусть пищей вам
будет песок, приправленный ядом гремучих змей! Пусть пресная вода ваших
источников превратится в горькую щелочь! Пусть...
Но телеги наши катились дальше, и слова его стали невнятными; судя по
тому, как поднимались его плечи и как он размахивал кулаком, я видел, что он
только еще начал изливать свои проклятья. Он этим выразил общие чувства в
нашем обозе, о чем свидетельствовали женщины, высунувшиеся из повозок и
потрясавшие костлявыми, обезображенными трудом кулаками в сторону последнего
оплота мормонов. Юноша, шагавший по песку и покалывавший волов следующей за
нами повозки, засмеялся и потряс бодилом. Смех этот так странно прозвучал в
нашем обозе, где давно уже никто не смеялся.
-- Задай им пару, Лабан! -- поощрял он старика. -- Прокляни их и за
меня!
Повозки катились вперед, а я все оглядывался на Лабана, стоявшего в
стременах у могилы ребенка. Действительно, жуткая это была фигура, с
длинными волосами, в мокасинах с бахромчатыми крагами. Его оленья рубаха
была так стара и истрепана, что от щеголеватых некогда бахромок остались
одни грязные лохмотья. Она больше смахивала на развевающуюся тряпку. Я
помню, у его пояса болтались грязные пучки волос, которые после ливня
отливали черным глянцем. Я знал, что это скальпы индейцев, и вид их всегда
вызывал во мне дрожь.
-- Ему станет легче теперь, -- пояснил отец, скорее обращаясь к себе,
чем ко мне. -- Я не первый день жду от него взрыва...
-- Хорошо, если бы он вернулся и снял бы еще несколько скальпов, --
заметил я.
Отец с любопытством поглядел на меня
-- Не любишь мормонов, сын мой? А?
Я мотнул головой и почувствовал, как во мне поднимается неукротимая
ярость.
-- Когда я вырасту, -- сказал я через минуту, -- я перестреляю их.
-- Что ты, Джесс, -- донесся голос матери из повозки. -- Сейчас же
заткни рот. -- И она обратилась к отцу: -- И не стыдно тебе позволять
мальчику говорить такие вещи?
Через двое суток мы добрались до Горных Лугов, и здесь, далеко за
последним поселком, мы впервые не составили повозок в круг. Собственно,
повозки были составлены, но между ними были пробелы, и колес мы не соединили
цепями. Мы стали готовиться к недельному отдыху. Скотине надо было дать
отдохнуть перед настоящей пустыней, хотя и эта местность была похожа на
пустыню. Кругом виднелись все те же низкие песчаные холмы, скудно поросшие
колючим кустарником. Равнина была песчаная, на ней было много травы --
такого обилия ее мы давно уже не встречали. Не далее чем в ста футах от
бивуака бил родничок, воды которого едва хватало на удовлетворение наших
потребностей. Но подальше из пригорков били другие ключи, и у них мы поили
скотину.
В этот день мы рано расположились на ночлег, и так как предстояло
пробыть здесь неделю, то женщины повытаскивали грязное белье, чтобы утром
приняться за стирку. Все работали до темноты. Мужчины чинили сбрую,
занимались ремонтом колес и повозок. Стучали молотками, закрепляли болты и
гайки. Помню, я наткнулся на Лабана, который сидел, скрестив по-турецки
ноги, в тени повозки и шил себе новую пару мокасин до позднего вечера. Он
был единственным мужчиной в нашем лагере, носившим мокасины из оленьей кожи,
и у меня осталось впечатление, что он не состоял в нашем отряде, когда мы
покидали Арканзас; у него не было ни жены, ни семьи, ни собственной повозки.
Все его имущество заключалось в лошади, винтовке, платье, которое было на
нем, и в двух одеялах, которые он клал в повозку Мэсона.
На следующее утро над нами стряслась давно ожидаемая беда. Отъехав на
двое суток пути от последнего мормонского поста, зная, что кругом нет
индейцев, мы впервые не скрепили наших повозок в круг цепями, не поставили
сторожей к скотине и не выставили ночной стражи.
Пробуждение мое было похоже на кошмар. Я проснулся как бы от тревожного
стука. В первые мгновения я только тупо пытался определить разнообразные
шумы, сливавшиеся в непрерывный гул. Вблизи и вдали слышался треск винтовок,
крики и проклятия мужчин, вопли женщин и рев детей. Я расслышал визг и стук
пуль, попадавших в дерево и железо колес и нижние части повозок. Кто бы это
ни стрелял, прицел был взят слишком низко.
Когда я начал подниматься, мать, также, очевидно, одевавшаяся,
притиснула меня рукой к ложу. Отец, уже вставший, просунул голову в повозку.
-- Вставайте! -- крикнул он. -- Скорей на землю!
Он не терял времени. Схватив меня в охапку, он быстрым движением
буквально вышвырнул меня из повозки. Я едва успел отползти в сторону, как
отец, мать и ребенок беспорядочной кучей упали рядом со мной.
-- Сюда, Джесс! -- кричал мне отец.
Я присоединился к нему, и мы начали рыть песок за прикрытием колес
телеги. Работали мы с лихорадочной поспешностью и голыми руками. К нам
присоединилась и мать.
-- Продолжай рыть, Джесс! -- командовал отец.
Он поднялся на ноги и ринулся в серый сумрак, выкрикивая на ходу
приказы. (Теперь я узнал, что фамилия моя была Фэнчер. Мой отец был капитан
Фэнчер.)
-- Ложись! -- кричал он. -- Прячьтесь за колеса телег и заройтесь в
песок! Семейные, выводите женщин и детей из повозок! Не стреляйте!
Прекратите огонь! Приберегите порох для атаки! Холостые, присоединяйтесь к
Лабану направо, к Кокрэну налево и ко мне в центр! Не вставайте! Ползите по
земле!
Но атаки не последовало. В течение четверти часа продолжалась сильная
беспорядочная пальба. Мы понесли потери в первые моменты, когда были
захвачены врасплох; несколько мужчин, рано поднявшихся, оказались
освещенными светом костров, которые они разводили. Индейцы -- Лабан объявил,
что это были индейцы, -- атаковали нас с поля. С рассветом отец приготовился
встретить их. Он занимал позицию возле окопа, в котором лежали мы с матерью,
и крикнул:
-- Ну, все разом!
Справа, слева и из центра наши винтовки дали залп. Я поднял голову и
заметил, что пули попали в нескольких индейцев. Пальба тотчас же
прекратилась, и я видел, как индейцы поскакали назад по равнине, унося своих
мертвых и раненых.
У нас все моментально принялись за работу. Повозки составили в круг,
дышлами внутрь, и сковали цепями -- даже женщины и малолетние мальчики и
девочки изо всех сил помогали, налегая на спицы колес! Затем мы подсчитали
наши потери. Хуже всего было, что наш последний скот был угнан. Кроме того,
у костров, разведенных нами, лежало семь наших мужчин. Четверо были мертвы,
а трое умирали. За другими ранеными ухаживали женщины. Маленький Риш Гардэкр
был ранен в руку пулей крупного калибра. Ему было не больше шести лет, и я
помню, как он, раскрыв рот, глядел на мать, державшую его на коленях и на
отца, перевязывавшего ему рану. Маленький Риш старался не кричать, но я
видел слезы на его щеках, когда он с удивлением глядел на кусок кости,
торчавшей из его руки
Бабушку Уайт нашли мертвой в повозке Фоксвиллей. Это была тучная
беспомощная старуха, которая никогда ничего не делала, а только сидела да
курила трубку. Это была мать Эбби Фоксвилля. Убита была и жена Гранта. Муж
сидел возле ее тела в совершенном спокойствии, и даже слез не видно было на
его глазах. Он просто сидел, положив винтовку на колени. Его оставили
одного.
Под руководством отца наш отряд работал, как стая бобров. Люди вырыли
огромную яму в центре корраля, образовав бруствер из вынутого песка. В эту
яму женщины перетащили постели, провиант и все необходимое из повозок. Им
помогали дети. Не было ни хныканья, ни суматохи. Навалилась работа, а мы все
сызмала привыкли работать.
Огромная яма предназначалась для женщин и детей. Под повозками вырыта
была в виде круга мелкая траншея, и перед нею из земли возведен бруствер.
Лабан вернулся с разведки. Он донес, что индейцы отступили
приблизительно на полмили и держат военный совет. Он видел также, что они
принесли шестерых с поля битвы, из них трое, по его словам, были мертвы.
Время от времени, в утро этого первого дня, мы замечали облака пыли,
свидетельствовавшие о передвижении значительных отрядов конницы. Эти облака
пыли направлялись к нам. Но мы не разглядели ни одной живой души. Удалялось
же от нас только одно облако, и все говорили, что это угоняют наш скот. Наши
сорок огромных повозок, перевалившие через Скалистые Горы и проехавшие
половину материка, стояли теперь беспомощным кругом. Без скотины они не
могли двинуться дальше.
В полдень Лабан вернулся с новой разведки. Он видел прибывших с юга
других индейцев -- это свидетельствовало, что нас окружают. И тут мы увидели
с десяток белых людей, выехавших на гребень невысокого холма на востоке и
глядевших на нас.
-- Все понятно, -- сказал Лабан отцу. -- Они подбили на это индейцев!
-- Они белые, как и мы, -- жаловался Эбби Фоксвилль матери. -- Почему
же они не с нами?
-- Это не белые, -- пропищал я, косясь на мать, от которой опасался
подзатыльника. -- Это мормоны!
В эту ночь с наступлением темноты трое из наших молодых людей ушли
украдкой из лагеря. Я видел, как они уходили. Это были Вилли Эден, Эбель
Милликен и Тимоти Грант.
-- Они идут в Седар-Сити за помощью, -- сказал отец матери.
Мать покачала головой.
-- Кругом нашего лагеря сколько угодно мормонов, -- отвечала она. --
Если они не хотят помочь -- а они и виду на это не подали, -- то и мормоны
из Седар-Сити не помогут.
-- Но ведь есть же хорошие мормоны и плохие мормоны... -- начал отец.
-- Мы еще не видали хороших! -- отрезала мать.
Только утром я узнал о возвращении Эбеля Милликена и Тимоти Гранта.
Весь лагерь упал духом от их сообщений. Эти трое прошли всего несколько
миль, как их окликнули белые. И как только Вилли Эден заговорил, объяснив,
что они из отряда Фэнчера и направляются в Седар-Сити за помощью, его
застрелили. Милликен и Грант вернулись назад с этой вестью, и она убила
последнюю надежду в сердцах нашего отряда. За спинами индейцев прятались
белые, и Рок, которого мы так долго боялись, теперь вплотную надвинулся на
нас.
В утро второго дня, когда наши мужчины пошли за водой, в них стреляли.
Источник находился в ста шагах за нашим кругом, но путь к нему был во власти
индейцев, теперь занимавших позицию на невысоком холме на востоке. Прицел
был отличный, ибо до холма было не больше двухсот пятидесяти футов. Но
индейцы были плохие стрелки -- наши люди вернулись с водой, не получив
царапины. Это утро прошло спокойно, если не считать случайных выстрелов в
лагерь. Мы расположились в большой яме, и так как мы давно привыкли к
суровой жизни, то чувствовали себя довольно сносно. Плохо было, разумеется,
тем семьям, где были убитые или где надо было ходить за ранеными. Я
ухитрялся убегать от матери подальше, терзаемый ненасытным любопытством ко
всему, что происходило, и очень многое видел. Внутри корраля, к югу от
большой ямы люди вырыли могилу и похоронили в ней семерых мужчин и двух
женщин. Громко кричала миссис Гастингс, потерявшая мужа и отца. Она рыдала,
стонала, и женщинам долго пришлось успокаивать ее.
На холме к востоку индейцы держали совет с большим шумом и криками. Но,
если не считать нескольких недавних выстрелов, они ничего не предпринимали
против нас.
-- Что затевают эти проклятые? -- нетерпеливо спрашивал Лабан. --
Неужели они не могут решиться на чтонибудь и сделать, наконец, свое дело?
Жарко было в коррале в этот день! Солнце сверкало на безоблачном небе,
не чувствовалось ни малейшего ветерка. Мужчины, залезшие с винтовками в окоп
под повозки, находились в тени; но огромная яма, в которой собралось свыше
сотни женщин и детей, ничем не была защищена от яркого солнца. Тут же были и
раненые, над которыми мы устроили навес из одеял. В яме было душно и тесно,
и я то и дело прокрадывался в окоп, с большим усердием исполняя поручения
отца.
Мы сделали крупную оплошность, не включив в круг наших повозок и ручей.
Произошло это вследствие растерянности от первой атаки, когда мы не знали,
скоро ли может последовать вторая. А теперь уж было поздно. Внутри корраля,
к югу от могилы, мы вырыли отхожее место, а к северу от ямы, в центре,
несколько человек по приказу отца начали рыть колодец.
Перед вечером этого дня -- это был второй день -- мы вновь увидели Ли.
Он шел пешком, пересекая по диагонали луг на северо-запад, на расстоянии
выстрела от нас. Отец взял у матери одну из простынь и, привязав ее к
воловьим бодилам, связанным вместе, -- поднял ее. Это был наш белый флаг. Но
Ли не обратил на него внимания и продолжал свой путь.
Лабан советовал подстрелить Ли, но отец остановил его, говоря, что
белые, очевидно, еще не решили, как поступить с нами, и выстрел в Ли может
побудить их принять какое-нибудь решение против нас.
-- Вот что, Джесс, -- сказал мне отец, оторвав кусок от простыни и
прикрепив его к воловьему бодилу. -- Возьми это, пойди и попробуй заговорить
с этим человеком. Не рассказывай ему ничего о том, что с нами случилось!
Только попытайся уговорить его прийти и поговорить с нами!
Грудь моя раздувалась от гордости, но когда я собрался уходить, Джед
Донгэм крикнул, что и он хочет идти со мной. Джед был приблизительно моего
возраста.
-- Донгэм, можно твоему мальчику пойти с Джессом? -- обратился мой отец
к отцу Джеда. -- Двое лучше одного. Они будут охранять друг друга от беды.
И вот мы с Джедом, двое девятилетних малышей, пошли под белым флагом
беседовать с предводителем наших врагов. Но Ли не хотел говорить с нами.
Увидя нас, он начал увертываться от нас. Мы не могли даже подойти к нему на
такое расстояние, чтобы он мог услышать наш крик. Через некоторое время он,
должно быть, спрятался в кустах, ибо больше мы его не видели, хотя и знали,
что он не мог уйти далеко.
Долго мы с Джедом обыскивали кусты во всех направлениях. Нам не
сказали, сколько времени мы можем отсутствовать, и так как индейцы не
стреляли в нас, то мы продолжали идти вперед. Мы отсутствовали свыше двух
часов, хотя каждый из нас, будь он один, выполнил бы эту миссию вдвое
скорее. Но Джеду нужно было перещеголять меня, а мне хотелось перещеголять
его.
Эта наша глупость оказалась не без пользы. Мы смело шли под прикрытием
белого флага и убедились, как основательно обложен наш лагерь. К югу от
нашего обоза, не дальше чем в полумиле, мы разглядели большой индейский
лагерь. Дальше на лугах разъезжали верхом индейские мальчики.
На холме к востоку также была позиция индейцев. Нам удалось
вскарабкаться на невысокий холм и разглядеть эту позицию. Мы с Джедом
потратили полчаса, чтобы сосчитать врагов, и решили, что их должно быть не
меньше двух сотен. Среди них мы видели и несколько белых людей, оживленно
разговаривавших с ними.
К северо-востоку от нашего лагеря, не больше как в полутораста футах,
мы рассмотрели большой лагерь белых за низкой возвышенностью. А дальше
паслось пять или шесть десятков верховых лошадей. Еще милей дальше к северу
мы разглядели облачко пыли, явно приближавшееся. Мы с Джедом бежали, пока не
увидели человека верхом, который быстро скакал в лагерь белых.
Когда мы вернулись в корраль, первое, что я получил, была затрещина от
матери за долгое отсутствие; но отец похвалил меня, выслушав наш доклад.
-- Теперь, пожалуй, следует ожидать атаки, капитан, -- сказал Аарон
Кокрэн. -- Человек, которого видели мальчики, недаром прискакал! Белые
сдерживают индейцев, пока сами не получат приказа свыше. Может быть, этот
человек привез какие-нибудь распоряжения. Лошадей они не жалеют, это можно
сказать с уверенностью.
Через полчаса после нашего возвращения Лабан попытался сделать разведку
под белым флагом. Но не отошел он от нашего круга и девяти футов, как
индейцы открыли по нем пальбу и заставили его вернуться.
Перед самым закатом я сидел в яме, держа на руках нашего малютку, пока
мать стелила постели. Нас было так много, что в яме мы были набиты битком,
как сельди в бочке. Многие женщины провели ночь в сидячем положении, склонив
голову на колени. Возле меня, так близко, что, размахивая руками, он касался
моего плеча, умирал Сайлес Донлеп. Ему прострелили голову в первой же атаке,
и весь второй день он находился в состоянии безумия, распевая в бреду всякий
вздор. Вот одна из песен, которую он повторял несчетное множество раз, едва
не сведя с ума мою мать:
И сказал первый чертенок второму чертенку:
-- Дай мне табачку из твоей табакерки.
И сказал второй чертенок первому чертенку:
-- Держи свои деньги, держи свои камни,
И всегда будет табачок в твоей табакерке.
Я сидел рядом с ним, держа на руках ребенка, когда враги ринулись на
нас снова. Солнце закатывалось. Я все время таращил глаза на умиравшего
Сайлеса Донлепа. Жена его Сара держала свою руку на его лбу. И она, и ее
тетка Марта плакали. В этот момент вновь послышались выстрелы и полетели
пули из сотен винтовок. Со всех сторон -- с запада, востока и севера --
враги ринулись на нас полукругом, осыпая нашу позицию свинцом. Все
находившиеся в яме прилегли к земле. Маленькие дети подняли плач, и женщинам
еле удалось успокоить их. Кричали и женщины, но таких было немного.
В первые несколько минут по нам было выпущено, наверное, несколько
тысяч зарядов. Как мне хотелось перебраться в окоп под повозками, где наши
мужчины поддерживали постоянный, но неправильный огонь. Каждый стрелял на
свой страх, завидя неприятеля. Но мать разгадала мои намерения и приказала
мне оставаться на месте с малюткой на руках.
Только что я последний раз оглянулся на Сайлеса Донлепа -- он все еще
трепетал, -- как был убит младенец Касльтонов. Его держала на руках Дороти
Касльтон, десятилетняя девочка, и он был убит в ее объятиях. Ее даже не
задело! Я слышал разговоры об этом случае: вероятно, пуля ударилась в одну
из повозок и отлетела рикошетом в яму. Это была чистая случайность; если не
считать таких случайностей, то в яме было безопасно.
Когда я опять поднял глаза, Сайлес Донлеп был уже мертв. Я испытал
разочарование, словно меня обманом лишили интересного зрелища. Мне никогда
еще не приходилось видеть, как умирает человек.
Дороти Касльтон разрыдалась; долго она завывала и кричала, заразив в
конце концов миссис Гастингс. Поднялся такой гвалт, что отец послал Уотта
Геллингса разузнать, в чем дело.
В сумерках пальба прекратилась, хотя разрозненные выстрелы слышались и
ночью. Двое наших мужчин были ранены в эту вторую атаку, и их принесли к нам
в яму. Билль Тайлер был убит наповал, и его, Сайлеса Донлепа и малютку
Касльтонов похоронили рядом с другими, когда стемнело.
Всю эту ночь мужчины, сменяя друг друга, рыли колодец; но вместо воды
они докопались только до влажного песка. Принесли несколько ведер воды из
родника, но в тех, кто отважился пойти за водой, стреляли, и они перестали
носить воду, когда Иеремии Гопкинсу прострелили левую руку у кисти.
Третий день был еще более сухой и жаркий. Мы проснулись от сильнейшей
жажды, и варка пищи в этот день не производилась. Во рту так пересохло, что
мы не могли есть. Я попробовал грызть кусок черствого хлеба, данный мне
матерью, но должен был бросить его. Пальба то усиливалась, то ослабевала.
Иногда целые сотни людей обстреливали лагерь. Но были промежутки, когда не
раздавалось ни одного выстрела. Отец не переставал уговаривать наших бойцов
не тратить выстрелов, ибо у нас истощались заряды.
В это время мужчины продолжали рыть колодец; он был уже так глубок, что
песок приходилось убирать ведрами. Люди, выносившие песок, представляли
удобную цель, и один из них был ранен в плечо. Это был Питер Бромли,
погонявший волов повозки Блэдгудов, -- он был помолвлен с Джен Блэдгуд. Она
выскочила из ямы, побежала к нему, несмотря на летавшие пули, и увела его в
безопасное место. Около полудня стенки колодца обвалились, и пришлось
откапывать двух рабочих, засыпанных песком. Эмос Вентворт целый час не
приходил в себя. После этого колодец обложили досками, выломанными из
повозок, и дышлами, и рытье колодца продолжалось. Но даже на глубине
двадцати футов был лишь влажный песок. Вода не показывалась
К этому времени положение в яме сделалось ужасным. Дети с плачем
требовали воды, грудные младенцы, охрипнув от крика, все еще продолжали
кричать. Роберт Карр, другой раненый, лежал в каких-нибудь десяти футах от
матери и меня. Он находился в состоянии безумия и все время просил воды.
Многие женщины находились не в лучшем состоянии; бредили мормонами и
индейцами; некоторые из них молились, а три взрослых сестры Демдайк со своей
матерью распевали духовные гимны. Матери брали влажный песок, вырытый со дна
колодца, и обкладывали им обнаженные тельца младенцев, чтобы немного
охладить их.
Двое братьев Ферфакс не вытерпели наконец и, взяв ведра, выползли
из-под повозок и кинулись бежать к ручью. Джайльс не пробежал и полдороги,
как упал. Роджерс добежал до родника и вернулся, не задетый пулей. Он принес
два неполных ведра, потому что часть воды расплескалась на бегу. Джайльс
ползком добрался назад, и когда его принесли в яму, он выплевывал кровь изо
рта и кашлял.
Двух неполных ведер воды не могло, разумеется, хватить на сотню душ, не
считая мужчин. Только грудные младенцы, и очень маленькие дети, да раненые
получили воду. Я не получил ни глотка, но мать омочила кусок ткани в
нескольких ложках воды, полученной для младенца, и вытерла мне губы. Себе
она не позволила даже этого и отдала мне жевать мокрую тряпку.
После полудня положение сделалось еще хуже. Солнце ослепительно
сверкало в ясном безветренном воздухе, и наша яма превратилась в сущее
пекло. Кругом во всех направлениях слышались выстрелы и завывания индейцев.
Лишь изредка отец разрешал послать выстрел из нашего окопа, да и то только
таким метким стрелкам, как Лабан и Тимоти Грант. На нашу же позицию лился
непрекращающийся дождь свинца. К счастью, больше не случалось роковых
рикошетов, и наши люди, притаившиеся в окопах, большей частью оставались
невредимы. Только четверо были ранены; один очень тяжело.
В одну из коротких передышек между залпами отец пришел к нам из окопа.
Несколько минут он сидел возле матери и меня, не говоря ни слова.
По-видимому, прислушивался к стонам и воплям о воде. Раз он вылез из ямы и
пошел осмотреть колодец. Он принес только влажный песок, которым густо
обложил грудь и плечи Роберта Карра. Потом он направился к месту, где лежали
Джед Донгэм и его мать, и послал в окоп за отцом Джеда. Мы были так тесно
скучены в яме, что. когда кто-нибудь двигался в ней, ему приходилось
осторожно переползать через тела лежащих.
Через некоторое время отец снова приполз к нам.
-- Джесс, -- спросил он меня, -- ты не боишься индейцев?
Я энергично замотал головой, догадавшись, что меня хотят отправить с
очень важной миссией.
-- Ты не боишься проклятых мормонов?
-- Ни одного проклятого мормона, -- ответил я, воспользовавшись этим
случаем ругнуть наших врагов, не опасаясь подзатыльника от матери.
Я видел, что легкая улыбка искривила ее пересохшие губы, когда она
услышала мой ответ.
-- Так вот, Джесс, не пойдешь ли ты с Джедом к роднику за водой?
Я весь превратился в слух.
-- Мы переоденем вас девочками, -- продолжал отец, -- и в вас, может
быть, не решатся палить.
Я хотел пойти так, как был, мужчиной, носящим штаны; но быстро сдался,
как только отец намекнул, что он найдет какого-нибудь другого мальчика,
которого переоденет и отправит с Джедом.
Из повозки Чэттоксов принесли сундук. Девочки Чэттокс были близнецы
приблизительно такого роста, как Джед и я. Несколько женщин бросились нам
помогать. Это были воскресные платья близнецов, которые они везли с собой в
сундуке из самого Арканзаса.
Мать оставила малютку на руках старой Донлеп и проводила меня до самого
окопа. Здесь, под повозкой, за невысоким песчаным бруствером, мы с Джедом
получили последние инструкции. Потом мы вылезли на лужайку и очутились на
равнине. Мы были одеты совершенно одинаково -- белые чулки, белые платьица с
большими синими кушаками и белые шляпки. Правая рука Джеда и моя левая
крепко держали одна другую. В каждой из свободных рук мы несли по два
небольших ведерка.
-- Будьте осторожны! -- предостерег отец, когда мы двинулись в путь. --
Идите медленно, спокойно, как девочки!
Не раздалось ни одного выстрела. Мы благополучно добрались до родника,
наполнили наши ведерки, прилегли и сами хорошенько напились. С полным
ведерком в каждой руке мы совершили обратный путь. И в нас ни разу не
выстрелили.
Не помню, сколько мы сделали таких прогулок -- вероятно, пятнадцать или
двадцать. Шли мы медленно, все время держась за руки, и каждый раз медленно
возвращались с четырьмя ведерками воды. Изумительно, как нам хотелось пить!
Мы несколько раз припадали к воде и пили долгими глотками.
Но это было чересчур для наших врагов. Не могу себе представить, чтобы
индейцы так долго воздерживались от выстрелов, -- все равно, по девочкам или
нет, -- если бы не слушались инструкций белых, прятавшихся за их спинами. Во
всяком случае, когда мы с Джедом отправились в новый поход, с холмов
индейцев раздался выстрел, а потом другой.
-- Вернитесь! -- крикнула мать.
Я поглядел на Джеда и увидел, что он смотрит на меня. Я знал, что он
упрям, и решил быть последним в этой борьбе великодуший. Я двинулся вперед,
и в то же мгновение двинулся и он.
-- Ты! Джесс! -- крикнула мать. И в голосе ее послышалось обещание
чего-то более серьезного, чем затрещина.
Джед предложил, чтобы я взял его руку, но я покачал головой.
-- Побежим! -- предложил я.
И в то же время, как мы бежали по песку, казалось, все индейские
винтовки палили в нас. Я несколько раньше Джеда добежал до родника, так что
Джеду пришлось ждать, пока я наполню свои ведра.
-- Теперь беги! -- сказал он мне. И по тому, как неспешно он стал
наполнять свои ведра, я понял, что он решил быть последним.
Я припал к земле и, выжидая, стал наблюдать облачко пыли, поднятое
пулями. В обратный путь мы двинулись рядышком и бегом.
-- Не так быстро, -- предостерег я его, -- а то прольешь половину воды!
Это задело его, и он чувствительно замедлил шаг. На полпути я
споткнулся и стремглав полетел наземь. Пуля, ударившись прямо передо мной,
засыпала мне глаза песком. Минуту мне казалось, что меня подстрелили.
-- Нарочно сделал? -- насмешливо промолвил Джед, когда я поднялся на
ноги. Он все время стоял и ждал меня.
Я понял, в чем дело. Он вообразил, что я упал нарочно, чтобы пролить
воду и вернуться за новой! Это соперничество между нами приобретало
серьезный характер -- настолько серьезный, что я тотчас же подхватил его
мысль и побежал обратно к роднику. А Джед Донгэм, с полным презрением к
пулям, взрывавшим песок вокруг него, стоял на открытом месте и ждал меня.
Вернулись мы рядышком, с почетом даже, на наш, мальчишеский, взгляд. Но
когда мы отдали воду, оказалось, что Джед принес только одно ведро. Другое
его ведерко у самого дна оказалось пронизанным пулей.
Мать прочитала мне длинную лекцию о непослушании. После того, что я
сделал, отец не позволил бы бить меня, и она это знала; ибо в то время, как
она читала мне выговор, отец через плечо не переставал подмигивать. Это он в
первый раз подмигивал мне!
В яме меня и Джеда встретили как героев. Женщины плакали и целовали
нас, душили в объятиях. Должен сознаться, мне это было приятно, хотя я, как
и Джед, делал вид, что презираю все излияния. Иеремия Гопкинс, с большой
повязкой у кисти левой руки, объявил, что мы настоящее тесто, из которого
делаются белые люди -- люди вроде Даниэля Буна, Кита Карсона и Дэви Крокета.
Это мне польстило больше всего.
Остаток этого дня я, кажется, занят был главным образом болью в левом
глазу, вызванной песком, взметенным пулей. Мать сказала, что глаз у меня
затек кровью; и он действительно болел -- держал ли я его закрытым или
открытым. Я пробовал и так и этак.
В яме теперь стало спокойно, ибо все получили воду, хотя по-прежнему
оставалась неразрешимой задача -- как добыть новую. Кроме того, у нас почти
истощились боевые припасы. Тщательно обыскав все повозки, отец нашел лишь
пять фунтов пороху. Немного больше оставалось в пороховницах бойцов.
Я вспомнил о нападении накануне при заходе солнца и на этот раз
предупредил его и залез в окоп до заката. Я прикорнул рядом с Лабаном. Он
энергично жевал табак и не заметил меня. Некоторое время я наблюдал его с
опаской, боясь, что если он меня увидит, то отправит назад в яму. Он полез
для чего-то под колеса повозки, пожевал немного и потом осторожно сплюнул в
маленькую ямку, которую сделал себе в песке.
-- Как делишки? -- спросил я его наконец.
-- Отлично, -- сказал он. -- Совсем великолепно, Джесс, когда можно
пожевать табачку! Во рту у меня так пересохло, что я не мог жевать от
восхода до того, как ты принес воды.
Над холмом к северо-востоку, занятым белыми, показаласъ голова и плечи.
Лабан навел винтовку и целился добрую минуту. Но потом покачал головой.
-- Полтораста футов. Нет, не буду рисковать! Я могу попасть, но могу и
промахнуться, а твой па лют насчет пороху!
-- Как ты думаешь, каковы наши шансы? -- спросил я, как взрослый
мужчина; после своих подвигов водоноса я чувствовал себя настоящим мужчиной.
Лабан как будто тщательно обдумывал вопрос, прежде чем ответить мне.
-- Джесс, должен сказать тебе, что дело наше дрянь! Но мы выпутаемся.
Выпутаемся, можешь прозакладывать свой последний доллар!
-- Не все выпутаются, -- возразил я.
-- Кто, например? -- спросил он.
-- Да вот Билли Тайлер, миссис Грант, и Сайлес Донлеп, и другие.
-- О, вздор, Джесс, ведь они уж в земле! Разве ты не знаешь, что
каждому приходится хоронить своих покойников? Люди делают это уже много
тысяч лет, а число живых не уменьшается. Видишь ли, Джесс, рождение и смерть
идут рука об руку. Люди рождаются так же часто, как умирают, -- даже чаще,
потому что плодятся и множатся. Вот ты, например, мог быть убит нынче ночью,
когда ходил за водой. А ты здесь, не правда ли? Растабарываешь со мной и,
наверное, вырастешь и будешь отцом славного большого семейства в Калифорнии.
Говорят, в Калифорнии все растет быстро!
Этот жизнерадостный взгляд на дела настолько ободрил меня, что я
решился высказать мысль, давно тревожившую меня.
-- Скажи, Лабан, -- допустим, тебя здесь убьют...
-- Кого? Меня? -- воскликнул он.
-- Я говорю -- только предположим, -- объяснил я.
-- А, вот как! Продолжай! Предположим, меня убьют...
-- Отдашь ты мне свои скальпы?
-- Твоя ма надает тебе затрещин, если увидит их на тебе, -- отвечал он.
-- Я не буду носить их при ней. Так вот, если тебя убьют, Лабан,
кто-нибудь должен же получить эти скальпы?
-- Почему нет? Это верно; почему бы нет! Ладно, Джесс! Я люблю тебя и
твоего па. Как только меня убьют, скальпы твои, и скальпировальный нож тоже.
Вот Тимоти Грант будет свидетелем. Ты слыхал, Тимоти?
Тимоти подтвердил, что он слышал; и я лежал после этого безмолвно,
слишком подавленный величием моих перспектив, чтобы произнести хотя бы слово
признательности.
Предусмотрительность, побудившая меня переползти в окоп, была
вознаграждена. На закате последовала новая генеральная атака. и нас осыпали
тысячами выстрелов. Никто на нашей стороне не получил и царапины. С другой
стороны, хотя мы выпустили едва ли три десятка выстрелов, я видел, что Лабан
и Тимоти Грант уложили каждый по индейцу. Лабан сказал мне, что все время
стреляют только индейцы. Он был уверен, что ни один белый не выпустил пули.
И все это озадачивало его. Белые не подавали нам помощи и не нападали на нас
и все время ходили в гости к индейцам, нападавшим на нас.
Наутро нас опять стала мучить жажда. При первом луче рассвета я вылез
из ямы. Выпала сильная роса, и мужчины, женщины и дети слизывали ее языком с
влажных дышл, с тормозов и с ободьев колес.
Рассказывали, что Лабан вернулся с разведки, которую произвел перед
самым рассветом; что он дополз до самой позиции белых; что те уже встали и
что он видел, как они, образовав большой круг, молились при свете походных
костров. Судя по нескольким словам, которые ему удалось расслышать, они
молились за нас и о том, что делать с нами.
-- Да просветит же их Господь в таком случае! -- сказала одна из сестер
Демдайк Эбби Фоксвиллю.
-- И скорее бы! -- добавил Эбби Фоксвилль. -- Не знаю, что мы будем
делать целый день без воды, и порох у нас на исходе.
В течение утра ничего особенного не случилось. Не раздалось ни единого
выстрела. Только солнце безжалостно палило в неподвижном воздухе. Жажда наша
усилилась. Грудные младенцы подняли крик, малые дети пищали и хныкали. В
полдень Вилль Гамильтон взял два больших ведра и направился к источнику. Не
успел он пролезть под повозку, как Энни Демдайк выбежала, схватила его
руками и стала тащить назад. Но он уговорил ее, поцеловал и побежал. Не
раздалось ни одного выстрела, и не было стрельбы все время, пока он ходил за
водой.
-- Слава богу! -- воскликнула старая миссис Демдайк. -- Это хороший
знак: они смягчились.
Таково было мнение многих женщин.
Около двух часов дня, после того как мы поели и почувствовали себя
лучше, появился белый с белым флагом. Вилль Гамильтон вышел поговорить с
ним, вернулся посоветоваться с отцом и прочими мужчинами, и они опять пошли
к незнакомцу. Немного поодаль стоял и глядел на них человек, в котором мы
признали Ли.
Мы все пришли в возбуждение. Женщины настолько ободрились духом, что
плакали, целовали друг друга, а старая миссис Демдайк и другие возглашали
аллилуйю и славили Господа. Предложение, принятое нашими бойцами,
заключалось в том, чтобы мы отдались под покровительство белого флага и
получили защиту от индейцев.
-- Нам приходится согласиться на это, -- сказал отец матери.
Она сидела на дышле, сжав плечи и опустив голову.
-- А что, если они замышляют предательство? -- спросила мать.
Он пожал плечами.
-- Будем думать, что нет, -- отвечал он. -- У нас вышли боевые припасы.
Несколько наших мужчин отцепили одну из повозок и выкатили ее. Я
побежал смотреть, что делается. Пришел сам Ли в сопровождении двух мужчин,
которые тащили две пустые повозки. Все столпились вокруг Ли. Он сказал, что
ему все время было очень трудно удерживать индейцев от нападения на нас и
что майор Гайби с пятьюдесятью воинами мормонской милиции готов взять нас
под свою охрану. Но отцу, Лабану и некоторым другим мужчинам показалось
подозрительным требование Ли, чтобы мы сложили все наши винтовки в одну из
повозок, дабы не возбуждать вражды индейцев. Сделав это, мы, мол, будем
казаться пленниками мормонской милиции.
Отец выпрямился и уже готов был отказаться, когда увидел Лабана,
сказавшего вполголоса:
-- В наших руках они принесут не больше пользы, чем в повозке: ведь у
нас вышел порох.
Двое из наших раненых мужчин, которые не могли идти пешком, были
посажены в повозку, и с ними все маленькие дети. Ли разделил их на две
группы -- старше восьми и моложе восьми лет. Мы с Джедом были большого роста
по нашему возрасту, и кроме того, нам было по девять лет; поэтому Ли
поместил нас в старшую группу и объявил, что мы должны идти вместе с
женщинами пешком. Когда мы взяли нашего малютку от матери и отдали в
повозку, мать начала возражать. Потом она плотно сжала губы и согласилась.
Это была сероглазая, с энергичными чертами пожилая женщина, довольно полная,
но долгие скитания и лишения сказались на ней, так что теперь это было тощее
создание со впалыми щеками и с выражением угрюмой тревоги, не сходившим с ее
лица, как и у прочих женщин.
Когда Ли стал указывать порядок похода, Лабан подошел ко мне. Ли
объявил, что женщины и дети, идущие пешком, должны занимать в линии первое
место и идти за второй повозкой. За женщинами должны следовать мужчины
гуськом. Услышав это, Лабан подошел ко мне, отвязал скальпы от своего пояса
и привязал к моему.
-- Но ведь ты еще не убит? -- протестовал я.
-- Готов побиться об заклад, что нет, -- беззаботно отвечал он. -- Я
только исправился -- вот и все. Ношение скальпов -- суета и язычество... --
И он на минуту умолк, словно вспомнил что-то, потом, круто повернувшись на
каблуках, чтобы догнать мужчин нашего отряда, крикнул через плечо: -- Ну,
пока прощай, Джесс!
Я ломал себе голову, почему он сказал "прощай", когда в корраль въехал
верхом белый. Он объявил, что майор Гайби послал его поторопить нас, потому
что индейцы могут напасть с минуты на минуту.
И вот процессия двинулась, впереди две повозки. Ли шел рядом с
женщинами и детьми. За нами, дав нам уйти вперед на несколько сот футов, шли
наши мужчины. Выйдя из корраля, мы заметили на небольшом расстоянии милицию.
Милиционеры опирались на свои винтовки и стояли длинной шеренгой с
промежутками футов в шесть. Проходя мимо них, я невольно обратил внимание на
торжественное выражение их лиц. Вид у них был как на похоронах. Это заметили
и женщины; и некоторые из них начали плакать.
Я шел сейчас же за своей матерью. Я выбрал эту позицию для того, чтобы
она не видела моих скальпов. За мной выступали три сестры Демдайк, причем
две из них помогали старой матери. Я слышал, как Ли все время кричал людям,
сидевшим на козлах повозок, чтобы они не торопились. Человек, в котором одна
из девушек Демдайк предположила майора Гайби, сидел верхом на коне и смотрел
на нас. Ни одного индейца не видно было поблизости.
Когда наши мужчины поравнялись с милицией -- я обернулся поглядеть,
куда девался Джед. Роковое случилось. Майор Гайби громко крикнул:
"Исполняйте ваш долг!" Все винтовки милиции сразу разрядились, и наши
мужчины попадали наземь. Второй залп... Все женщины семьи Демдайк упали
одновременно. Я быстро повернулся посмотреть, что с матерью, -- и она упала.
Сбоку из кустов высыпали сотни индейцев и начали стрелять. Я видел, как две
сестры Донлеп побежали по песку, и кинулся вслед за ними, а белые и индейцы
со всех сторон убивали нас. На бегу я заметил, что возница одной из повозок
застрелил обоих раненых мужчин. Лошади другой повозки бились и пятились, и
возница старался сдержать их.
Когда маленький мальчик, которым был я, побежал за девушками Донлеп,
тьма спустилась на него. Здесь прекращаются все мои воспоминания, ибо Джесс
Фэнчер перестал существовать навсегда. Форма, облекавшая Джесса Фэнчера,
тело, принадлежавшее ему, как материя, как видение, исчезли и прекратились.
Но нетленный дух не прекратился. Он продолжал существовать и в своем новом
воплощении сделался душой бренного тела, известного под именем Дэрреля
Стэндинга, которого в скором времени выведут и повесят, отправят в небытие,
где исчезают все видения.
Здесь, в Фольсоме, есть вечник Мэтью Дэвис. Он состоит доверенным при
эшафоте и камере пыток. Он старик, и его предки скитались по равнине в давно
прошедшие времена. Я имел случай говорить с ним, и он подтвердил, что было
побоище, в котором был убит Джесс Фэнчер. Когда этот арестант был ребенком,
в его семье очень много говорили о резне на Горных Лугах. Дети, находившиеся
в повозке, рассказывал он, спаслись, потому что были слишком малы и не могли
донести.
Все это я предлагаю вашему вниманию. В своей жизни Дэрреля Стэндинга я
никогда не читал ни строчки и не слыхал ни слова об отряде Фэнчера, погибшем
на Горных Лугах. Между тем в смирительной рубашке тюрьмы СанКвэнтина я все
это узнал. Я не мог создать этого из ничего, как не мог создать из ничего
динамита. Знание этих фактов можно объяснить только одним. Они взяты из
духовного содержания моего "я" -- из духа, который, в отличие от материи, не
погибает.
Заканчивая эту главу, я должен добавить, что Мэтью Дэвис рассказывал
мне также, что через несколько лет после побоища чиновники правительства
Соединенных Штатов отвезли Ли на Горные Луга и здесь казнили на месте нашего
корраля.
Когда по истечении первых десяти дней пребывания в смирительной рубашке
доктор Джексон привел меня в чувство, надавив большим пальцем руки мое веко,
я раскрыл оба глаза и усмехнулся прямо в физиономию смотрителю Этертону.
-- Слишком гнусен для жизни и слишком подл, чтобы умереть! -- изрек он.
-- Десять дней прошли, смотритель, -- прошептал я.
-- Что ж, мы развяжем тебя, -- прорычал он.
-- Не в этом дело, -- продолжал я. -- Вы видели мою улыбку? Вы помните,
мы с вами побились о небольшой заклад? Не спешите развязывать меня. Дайте
только немного табаку и папиросной бумаги Моррелю и Оппенгеймеру. А вот вам
и новая улыбка от полноты моей души!
-- О, я знаю, какой ты породы, Стэндинг! -- отвечал смотритель. -- Но
это тебе не поможет. Если я не побью тебя, так ты побьешь... все рекорды
лежания в пеленках!
-- Он уже побил их, -- вставил доктор Джексон. -- Слыханное ли дело,
чтобы человек улыбался после десяти суток смирительной куртки?
-- Ну ладно, будет! -- решил смотритель Этертон. -- Развяжи его,
Гетчинс.
-- К чему такая спешка? -- спросил я, разумеется, шепотом; так мало
жизни осталось во мне, что даже для этого шепота мне пришлось собрать все
свои слабые силы. -- Зачем торопиться? Я не спешу к поезду, и мне так
чертовски удобно, что я предпочитаю, чтобы меня не тревожили.
Но они все-таки развязали меня, выкатили из вонючей куртки и оставили
на полу инертной, беспомощной массой.
-- Не удивительно, что ему удобно! -- воскликнул капитан Джэми. -- Он
ничего не чувствовал. Ведь у него паралич!
-- Паралич твоей бабушке! -- зарычал смотритель. -- Поставь его на ноги
-- и увидишь, он будет стоять!
Гетчинс и доктор вздыбили меня.
-- Теперь отпустите! -- скомандовал смотритель.
В тело, умиравшее на десять суток, жизнь не могла вернуться сразу; у
меня подкосились колени, я зашатался и треснулся с размаху лбом о стену.
-- Видите! -- произнес капитан Джэми.
-- Актерство! -- возразил смотритель. -- От такого субъекта можно ждать
какой угодно выходки!
-- Вы правы, смотритель, -- прошептал я с пола. -- Я это сделал
нарочно. Это было "актерское" падение. Поднимите меня, и я повторю. Обещаю
вам великую потеху!
Не стану описывать мучений, причиняемых возобновленным кровообращением
после куртки. Мне это стало в привычку; но борозды, проведенные на моем лице
этими муками, я унесу с собой на эшафот.
Меня наконец оставили в покое, и я пролежал остальную часть дня в
полустолбняке. Есть такая вещь как анестезия, вызванная болью, слишком
чудовищною, чтобы ее можно было сносить. Мне суждено было познать такую
анестезию!
К вечеру я мог уже ползать по своей камере, но еще не в силах был
встать на ноги. Я выпил много воды; но только на следующий день я мог
заставить себя поесть, и то исключительным напряжением воли.
Программа, начертанная для меня смотрителем Этертоном, заключалась в
том, что мне дадут отдохнуть и восстановить силы в течение нескольких дней,
а затем, если я не признаюсь, где спрятан динамит, опять зашнуруют на десять
суток в "пеленки".
-- Мне жаль, что я причиняю вам столько беспокойства, смотритель, --
ответил я ему. -- Жаль, что я не умер в куртке и тем самым не избавил вас от
хлопот.
Не думаю, чтобы в ту пору я весил хоть унцией больше девяноста фунтов.
Между тем за два года до этого, когда ворота Сан-Квэнтина впервые
захлопнулись за мною, я весил сто шестьдесят пять фунтов. Казалось
невероятным, чтобы я мог потерять еще одну унцию весу -- и остаться в живых!
А между тем в последовавшие месяцы я терял в весе унцию за унцией, так что
вес мой стал ближе к восьмидесяти фунтам, чем к девяноста. Я знаю, что когда
мне впоследствии удалось вырваться из одиночки и трахнуть по носу сторожа
Серстона, я весил восемьдесят фунтов; это было перед тем, как меня отвели в
СанРафаэль на суд, предварительно почистив и выбрив.
Некоторые удивляются, как люди могут ожесточаться душою. Смотритель
Этертон был жестокий человек. Он ожесточал меня, а мое ожесточение
действовало на него и ожесточало его еще больше. И все же ему не удалось
умертвить меня. Понадобились законы штата Калифорнии, судья-вешатель и
беспощадный губернатор, чтобы послать меня на виселицу за то, что я ударил
кулаком тюремного сторожа. Я не перестану утверждать, что у этого сторожа
просто невероятно кровоточащий нос. Я в ту пору был полуслепой, шатающийся
скелет. Иногда я даже сомневаюсь, действительно ли у него потекла кровь из
носу. Он-то, разумеется, клялся в этом у судейского стола. Но я знаю, что
тюремные сторожа способны на гораздо более серьезные лжесвидетельства.
Эду Моррелю не терпелось узнать, удался ли мне опыт; но когда он
попытался заговорить со мной, его остановил Смит -- сторож, случайно
оказавшийся на дежурстве при одиночках.
-- Все в порядке, Эд, -- простучал я ему. -- Вы с Джеком не шевелитесь,
я вам все расскажу. Смит не может помешать вам слушать, а мне говорить. Они
сделали худшее, на что только были способны, а я все еще жив!
-- Замолчи, Стэндинг, -- проревел мне Смит из коридора, в который
выходили все камеры.
Смит был необычайно мрачный субъект, едва ли не самый жестокий и
мстительный из всех наших сторожей. Мы часто занимались тем, что строили
догадки: жена ли его пилит, или он страдает хроническим несварением желудка?
Я продолжал выстукивать костяшками пальцев, и он наклонился к окошечку
-- посмотреть, что я делаю.
-- Я сказал тебе, чтобы ты прекратил эту музыку! -- зарычал он.
-- Мне очень жаль, -- ласково ответил я. -- Но у меня род предчувствия,
что я именно должен продолжать стук. И... кхе... прости мне вопрос личного
характера: что ты намерен предпринять в отношении меня?
-- Я... -- запальчиво начал он, но так и не докончил фразы, не зная,
что сказать.
-- Ну? -- поощрял я его. -- Что именно, скажи!
-- Я позову сюда смотрителя, -- нерешительно проговорил он.
-- Позови, сделай милость. Обворожительнейший джентльмен, что и
говорить! Блестящий пример облагораживающего влияния наших тюрем! Приведи же
его скорей. Я хочу донести ему на тебя.
-- На меня?
-- Да, именно на тебя, -- продолжал я. -- Ты самым грубым образом, по
своему мужицкому невежеству, мешаешь мне беседовать с другими гостями этого
странноприимного дома.
И смотритель Этертон явился. Двери отперли, и он ураганом влетел в мою
камеру. Но я ведь был в безопасности! Худшее он уже сделал. Я был вне его
власти,
-- Я прекращу тебе паек! -- пригрозил он.
-- Сколько угодно, -- отвечал я. -- Я привык к этому. Я не ел вот уже
десять дней, и знаете, опять начинать есть -- очень нудное дело!
-- Ого, уже ты начинаешь грозить мне, а? Голодовка, а?
-- Извините, -- с угрюмой вежливостью проговорил я. -- Предположение
сделано вами, а не мною. Попробуйте, будьте хоть раз последовательны!
Надеюсь, вы поверите, если я скажу вам, что мне труднее сносить вашу
непоследовательность, чем все ваши пытки.
-- Ты перестанешь перестукиваться? -- спросил он.
-- Нет, простите, что огорчаю вас, но у меня так велика потребность
перестукиваться, что...
-- Я сейчас же опять затяну тебя в куртку! -- оборвал он меня.
-- Сделайте одолжение! Я влюблен в куртку! Я жирею в куртке! Посмотрите
на эту руку! -- я засучил рукав и показал ему мышцу такую исхудавшую, что
когда я напряг мускул, получилось что-то вроде шнурка. -- Бицепс дюжего
кузнеца, не правда ли, смотритель? Посмотрите на мою могучую грудь! А мой
живот -- да ведь я так растолстел, что вас привлекут к суду за
перекармливание арестантов! Будьте начеку, смотритель, не то
налогоплательщики возьмутся за вас!
-- Ты перестанешь перестукиваться? -- заревел он.
-- Нет, благодарю за ваше милое участие! По зрелом размышлении я решил,
что буду продолжать перестукиваться!
С минуту он смотрел на меня, не находя слов, и, сознав свое полное
бессилие, повернулся, чтобы уйти.
-- Один вопрос!
-- Какой? -- бросил он через плечо.
-- Что вы предполагаете сделать теперь?
На него напал такой припадок бешенства, что я до сих пор дивлюсь: как
он не скончался от апоплексии?
После того, как смотритель ушел с позором, я час за часом выстукивал
повесть своих приключений. Но Моррель и Оппенгеймер получили возможность
ответить мне только вечером, когда на дежурство пришел Пестролицый Джонс, по
обычаю своему тотчас же задремавший.
-- Сны! -- простучал Оппенгеймер свое мнение.
"Да, -- подумал я, -- наши переживания действительно составляют
материал наших снов".
-- В бытность ночным посыльным я однажды напился, -- продолжал
Оппенгеймер. -- И должен сказать; тебе не угнаться за мной по части снов! Я
полагаю, так и поступают все романисты -- они напиваются, чтобы подстегнуть
свое воображение.
Но Эд Моррель, странствовавший по тем же дорогам, что и я, хотя и с
иными результатами, поверил мне. Он сказал мне, что когда его тело умирало в
куртке и он вырывался из тюрьмы, то всегда оставался тем же Эдом Моррелем.
Он никогда не переживал п р е ж н и х своих существований. Когда его дух
странствовал на воле, он всегда делал это в н а с т о я щ е м. Он нам
рассказал, что, как только он оказывался в состоянии покинуть свое тело и
увидеть его "со стороны", лежащим в смирительной рубашке на полу камеры, он
мог покидать тюрьму, отправляться в нынешний Сан-Франциско и видеть, что там
делается. Таким родом он дважды навестил свою мать и оба раза заставал ее
спящей. В этих духовных скитаниях, говорил Эд, он не имел власти над
материальными предметами. Он не мог, например, отворить или затворить дверь,
сдвинуть какой-нибудь предмет, произвести шум или чем-нибудь проявить свое
присутствие. С другой стороны, материальные вещи не имели власти над ним.
Стены и двери не служили для него препятствием. Реальной, действительной его
сущностью был, как он думает, дух.
-- В бакалейной лавке на углу, около дома матери, переменились хозяева,
-- рассказывал он нам. -- Я это узнал по новой вывеске. После этого мне
пришлось ждать шесть месяцев, пока я мог написать свое первое письмо; но
первым делом я спросил мать об этой лавке. И она ответила: да, хозяева
другие!..
-- Ты читал эту вывеску? -- спросил Джек Оппенгеймер.
-- Разумеется, читал, -- отвечал Моррель, -- иначе как бы я узнал
это?..
-- Отлично, -- продолжил неверующий Оппенгеймер. -- Ты легко можешь
доказать нам! Когда-нибудь, когда нам пришлют приличного сторожа, который
даст нам посмотреть газету, ты устрой так, чтобы тебя запеленали в куртку,
вылезь из своего тела и катай в старый Фриско! Проберись на угол Третьей и
Базарной улиц часа в два-три ночи, когда выпускают утренние газеты из
машины. Прочти последние новости. Потом улепетывай обратно в Сан-Квэнтин,
вернись раньше, чем пароходик с газетами переплывет залив, и расскажи мне,
что ты прочел. Утром мы попросим у сторожа газету. И если в газете окажется
то, что ты мне здесь расскажешь, -- ну, тогда я готов тебе поверить!
Это была дельная проверка. Я не мог не согласиться с Оппенгеймером, что
такое доказательство будет абсолютно убедительным. Моррель ответил, что он
готов все это проделать, но он так не любит процедуры оставления своего
тела, что сделает это, лишь когда мучения в куртке станут слишком
невыносимы.
-- Так они все увиливают, когда дело идет начистоту! -- саркастически
заметил Оппенгеймер. -- Моя мать верила в духов. Когда я был малым ребенком,
она постоянно видела их, беседовала с ними, получала от них советы. Но
настоящего толку она никогда не могла от них добиться. Духи не могли сказать
ей, где бы старику разжиться работишкой, или как найти золотую россыпь, или
угадать выигрышный номер в китайской лотерее. Ни за какие коврижки. А
говорили они ей про то, что у старикова дяди был, мол, зоб, что дедушка его
скончался от скоротечной чахотки или что мы переберемся на другую квартиру
этак через четыре месяца -- предсказать это было чертовски легко, потому что
мы меняли квартиру по меньшей мере шесть раз в год!
Я думаю, что, если бы Оппенгеймеру дать правильное образование, из него
вышел бы второй Маринетти или Геккель. Он крепко держался за неопровержимые
факты, и логика его была несокрушима, хотя и несколько холодна. "Ты п о к а
ж и мне" -- такова была основная точка зрения, с которой он рассматривал
вещи. Веры у него не было ни на грош. На это и указывал Моррель. Неверие и
мешало Оппенгеймеру добиться успеха с "малой" смертью в "пеленках".
Как видите, читатель, не все было безнадежно плохо в одиночном
заключении! При наличии таких трех умов, как наши, было чем занять время.
Возможно, что мы спасли таким образом друг друга от сумасшествия, хотя нужно
заметить, что Оппенгеймер гнил в одиночке пять лет совершенно один, пока к
нему присоединился Моррель, и все же сохранил здравый рассудок.
С другой стороны, не впадайте в противоположную ошибку -- не
вообразите, будто наша жизнь в одиночке была необузданной оргией блаженных и
радостных психологических изысканий...
Мы терпели разнообразные, частые и страшные муки. Наши сторожа -- ваши
палачи, гражданин, -- были настоящие звери. Еду нам подавали гнилую,
однообразную, непитательную. Только люди с большой силой воли могли жить на
таком скудном пайке! Я знаю, что наши премированные коровы, свиньи и овцы на
показательной университетской ферме в Дэвисе зачахли бы и издохли, получай
они такой, плохо в научном смысле рассчитанный, паек, как мы.
Книг нам не давали. Даже наши беседы посредством перестукивания были
нарушением правил. Внешний мир, по крайней мере для нас, не существовал. Это
скорее был мир привидений. Оппенгеймер, например, ни разу в жизни не видел
автомобиля или мотоцикла. Новости лишь случайно просачивались к нам -- в
виде туманных, страшно устарелых, ненастоящих каких-то вестей. Оппенгеймер
рассказывал мне, что о русско-японской войне он узнал лишь через два года
после того, как она окончилась!
Мы были погребенными заживо, живыми трупами! Одиночка была нашей
могилой, в которой, при случае мы переговаривались стуками, как духи,
выстукивающие на спиритических сеансах.
Новости? Вот какие пустяки составляли наши новости: сменили пекарей --
это было видно по изменившемуся качеству хлеба. Почему Пестролицый Джонс
отсутствовал неделю? Болел или получил отпуск? Почему Вильсона,
продежурившего всего десять ночей, перевели в другое место? Откуда взялся у
Смита синяк под глазом? Над пустяками вроде этого мы способны были ломать
себе голову целыми неделями!..
Заключение каторжника в одиночку на месяц было уже крупным событием. Но
от таких мимолетных и чаще всего глупых Данте, слишком мало гостивших в
нашем аду, чтобы научиться перестукиванию, мы ничего не могли узнать за
короткий срок, по истечении которого они опять уходили на вольный белый
свет.
Впрочем, не все было однообразно-пошло в нашей юдоли теней. Я,
например, научил Оппенгеймера играть в шахматы. Подумайте, какой это
колоссальный подвиг -- научить человека, отдаленного от вас тринадцатью
камерами, при помощи перестукиваний костяшками пальцев, учить его видеть
мысленно перед собой шахматную доску, воссоздавать зрительный образ всех
пешек, фигур и позиций, заучивать разные приемы движения фигур; и довести
эту выучку до такого совершенства, что в конце концов мы с ним могли в уме
разыгрывать целые партии в шахматы. В к о н ц е к о н ц о в, сказал я. Вот
лишний пример даровитости Оппенгеймера: в конце концов он стал меня
обыгрывать -- это человек-то, ни разу в жизни не видевший глазами шахмат!
Какой зрительный образ мог, например, возникать в его уме, когда я
выстукивал ему слово "слон"? Я многократно и тщетно задавал ему этот вопрос.
Так же тщетно пытался он описать словами мысленный образ чего-то, чего он
никогда не видел, но чем он все же умел оперировать так мастерски, что
бесчисленное число раз ставил меня в тупик во время игры.
Я могу только констатировать подобные проявления ума и воли и
заключить, как я не раз заключал, что в них-то и таится реальное. Только дух
реален. Плоть -- фантасмагория, видение. Я спрашиваю вас: каким образом
материя, или плоть, в какой бы то ни было форме может играть в шахматы на
воображаемой доске воображаемыми фигурами, через пространство в тринадцать
тюремных ка мер, заполняемое только стуками?
Некогда я был Адамом Стрэнгом, англичанином. Период этой моей жизни,
насколько я могу сообразить, приходится на промежуток 1550-1650 годов, и я,
как вы увидите, дожил до почтенной старости. С той поры как Эд Моррель
научил меня искусству умирать "малой" смертью, я всегда сильно жалел, что
так плохо знаю историю. Иначе я в состоянии был бы определить точнее многое,
что остается для меня темным. Теперь мне приходится ощупью разбираться во
временах и местах моих прежних существований.
Особенность моего существования в образе Адама Стрэнга составляет то,
что я мало что помню о первых тридцати годах моей жизни. Много раз во время
моего лежания в смирительной рубашке воскресал Адам Стрэнг, но всегда
рослым, мускулистым тридцатилетним мужчиной.
Я, Адам Стрэнг, неизменно начинаю себя сознавать на группе низких
песчаных островов где-то под экватором -- должно быть, в западной части
Тихого океана. Здесь я всегда чувствую себя как дома -- вероятно, жил там
довольно долгое время. На этих островах живут тысячи людей, хотя я среди них
единственный белый. Туземцы здесь превосходной человеческой породы,
мускулистые, широкоплечие, рослые. Шестифутовый человек среди них --
обыкновенное явление. Их царь Раа Кук на добрых шесть дюймов превышает шесть
футов, и, хотя весит он не менее трехсот фунтов, он так пропорционально
сложен, что его нельзя назвать тучным. Многие из его вождей столь же
крупного роста, а женщины немногим меньше мужчин.
В этой группе множество островов, и над всеми царит Раа Кук, хотя
группа островов на юге иногда поднимает восстания. Туземцы, с которыми я
живу, -- полинезийцы, и это я знаю, потому что у них прямые и длинные
волосы. Кожа у них золотисто-коричневая. Язык, на котором я говорю с
необычайной легкостью, музыкален и плавен, в нем мало согласных и много
гласных. Они любят цветы, музыку, пляски и игры и детски бесхитростны и
веселы в своих забавах, хотя страшно жестоки в гневе и войнах. Я, Адам
Стрэнг, знаю свое прошлое, но как будто мало думаю о нем. Я живу в
настоящем. Я не задумываюсь ни над прошлым, ни над будущим. Я беспечен,
непредусмотрителен, неосторожен, счастлив от жизнерадостности и избытка
физической энергии. Рыбы, плоды овощи и морские водоросли -- набил себе
желудок, и доволен! Я занимаю высокое место среди приближенных Раа Кука, и
выше меня нет никого, не выше меня даже Абба Таак, который стоит над всеми
жрецами. Никто не смеет поднять на меня руку или оружие. Я -- т а б у,
неприкосновенен, как неприкосновенен лодочный сарай, под полом которого
покоятся кости одному небу известно скольких прежних царей славного рода Раа
Кука.
Я знаю все подробности о том, как я потерпел крушение и остался один
среди экипажа моего судна, -- был сильный ветер, и оно затонуло; но я не
раздумываю над этой катастрофой. Когда я оглядываюсь назад, то чаще всего
думаю о своем детстве, о ребенке, который держался за юбки моей хорошенькой
матери, англичанки с молочнобелой кожей и белыми, как лен, волосами. Я жил
тогда в крохотной деревушке из десятка коттеджей, крытых соломой. Как сейчас
слышу скворцов и дроздов в кустах, вижу колокольчики, рассыпанные среди
дубового леса по мягкой траве, как пена лазурной воды. Но ярче всего мне
вспоминается большой, с мохнатыми бабками, жеребец, пляшущий и играющий,
которого часто проводили по узкой деревенской улице. Я пугался огромного
животного и всегда с криком бросался к матери, хватался за ее юбки и прятал
в них лицо.
Но довольно об этом. Я намерен писать вовсе не о детстве Адама Стрэнга.
Несколько лет я жил на этих островах, имени которых не знаю и на
которых, я уверен, я был первым белым человеком. Я был женат на Леи-Леи,
сестре царя, которая была чуть-чуть повыше шести футов и несколько выше
меня. Я был великолепным образцом мужчины -- широкоплечий, с высокой грудью,
хорошо сложенный. Женщины всех рас, как вы увидите, благосклонно поглядывали
на меня. Кожа на руках выше локтей и на всех закрытых от солнца местах была
у меня молочно-белая, как у моей матери. Глаза голубые. Мои усы, борода и
волосы имели золотисто-желтый цвет, какой иногда приходится видеть на
портретах северных викингов. Да, наверное, я происходил из какого-нибудь
старинного рода викингов, давно осевшего в Англии, и хотя я родился в
деревне, морская соль так густо была примешана к моей крови, что я очень
рано поступил на корабль квартирмейстером, то есть, в сущности, простым
матросом. Это не офицер и не "барин", но именно матрос, много работающий,
обветренный, выносливый.
Я был полезен Раа Куку, чем и объясняется его царское покровительство.
Я умел работать с железом, а наш разбитый корабль принес первое железо в
страну Раа Кука. Время от времени мы отправлялись на пирогах миль за
тридцать к северо-западу брать железо с обломков корабля. Кузов его
оторвался от рифа и лежал на глубине девяноста футов, и с этой глубины мы
доставали железо. Туземцы были изумительными пловцами и водолазами. Я тоже
научился спускаться на глубину девяноста футов, но никогда не мог сравняться
с ними в этом искусстве! На суше, благодаря моему английскому воспитанию и
силе я мог бросить наземь любого из них. Я научил их матросской "игре с
шестом", и она приобрела такую популярность, что проломанные головы
сделались у нас бытовым явлением.
С корабля однажды притащили дневник, до того изорванный и попорченный
морской водой, с расплывшимися чернилами, что едва можно было разобрать
текст. Однако в надежде, что какому-нибудь ученому-историку удастся точно
определить время описываемых мной событий, я здесь приведу выдержку из этого
дневника.
"Ветер был попутный и дал нам возможность осмотреть и высушить часть
нашей провизии, в особенности несколько китайских окороков и сухую рыбу,
составлявшую часть нашего продовольствия. На палубе совершили богослужение.
После полудня ветер задул с юга свежими и сухими порывами, так что на другое
утро мы получили возможность вычистить межпалубное пространство, а так же
окурить корабль порохом".
Но мой рассказ касается не Адама Стрэнга, потерпевшего крушение матроса
на коралловом острове, а Адама Стрэнга, впоследствии именуемого Йи-Йонг-Ик,
Могучим, который некоторое время был фаворитом могущественного Юн-Сана и
любовником и супругом девы Ом из царской семьи Мин, а затем долгое время
нищим и парием, шатавшимся по деревням всего побережья и по дорогам Чо-Сена.
(Ах, я и забыл вам сказать -- Чо-Сен -- значит "Страна Утреннего
Спокойствия". В наше время ее называют Кореей.)
Вспомните, что я жил три или четыре века тому назад и был первым белым
человеком на коралловых островах Раа Кука. В этих водах в ту пору суда
появлялись редко. Я легко мог бы окончить свои дни в мире и довольстве под
солнцем страны, не знающей морозов, если бы не "Спарвер". "Спарвер" был
голландский купеческий корабль, дерзнувший пуститься в неисследованные моря
в поисках Индии и попавший далеко за Индию. Вместо Индии он нашел меня -- и
это были все его открытия.
Не говорил ли я, что я был веселым, с золотыми волосами гигантом, на
всю жизнь оставшимся беспечным юношей? Когда "Спарвер" наполнил свои бочки
водою, я без малейших угрызений совести покинул Раа Кука и его прелестный
край, покинул Леи-Леи и ее сестер в венках и, с улыбкой на губах, вдыхая
знакомые корабельные запахи, отплыл опять простым матросом под командой
капитана Иоганнеса Маартенса.
Это было изумительное путешествие на старом "Спарвере"! Мы искали новые
страны, где есть шелка и пряности. А в действительности нашли лихорадки,
скоропостижные смерти, зараженные чумой края, где смерть прихотливо
смешивалась с красотой. Этот старый Иоганнес Маартенс, без капли романтики
на своем тупом лице и в седой квадратной голове, искал Соломоновы острова и
алмазные копи Голконды -- он искал даже старую забытую Атлантиду, которая,
по его мнению, еще плавала над водой. А нашел охотников за головами и
людоедов, живущих на деревьях!
Мы пристали к странным островам, берега которых были изрезаны волнами,
на которых поднимались горы с дымящимися вершинами; маленькие, не то звери,
не то люди, с колтуном на голове вместо волос, завывали в лесных дебрях; они
перегородили свои лесные тропинки колючками и ямами с острыми кольями на дне
и в сумерки пускали в нас отравленные стрелы. Стоило такой стреле ужалить
кого-нибудь из нас -- и он кончался в страшных муках, с дикими воплями.
Потом мы натолкнулись на других людей, более крупных и еще более свирепых;
они встретили нас открытым боем на взморье, засыпали нас дождем стрел и
дротиков под грохот барабанов из выдолбленного древесного ствола и
там-тамов. На всех холмах столбом поднимались сигнальные дымки.
Гендрик Гамель был судовым приказчиком и владельцем небольшой части
"Спарвера", остальное же все принадлежало капитану Иоганнесу Маартенсу.
Последний говорил немножко по-английски, Гендрик Гамель чуть побольше его.
Матросы, с которыми я жил, говорили только поголландски. Но поверьте --
матрос может выучиться поголландски и даже по-корейски, как вы увидите.
Наконец мы прибыли в Японию, которая в то время уже была нанесена на
карту. Но этот народ не хотел иметь с нами дела. Японские чиновники,
вооруженные двумя мечами, в широких шелковых платьях, от которых у капитана
Иоганнеса Маартенса потекли слюнки, взошли к нам на корабль и вежливо
предложили убираться прочь. Под их вкрадчивыми манерами чувствовалась
железная воля воинственного народа -- мы поняли это и поплыли своим
путем-дорогой.
Мы переплыли Японский залив и входили уже в Желтое море на пути в
Китай, как вдруг "Спарвер" наскочил на подводные скалы. "Спарвер" был старой
калошей, неуклюжей и грязной, киль его до такой степени зарос ракушками, что
нам не удалось снять судно с места. Оно только покачивалось на воде, как
репа, выброшенная поваром, но не снималось с места. Галиоты по сравнению с
этой скорлупой были настоящими клипперами. Нечего было и думать сняться с
камней. А тут еще налетел ветер, сильный как ураган, и трепал нас нещадно
сорок восемь часов подряд.
Он сорвал наше судно и погнал его к суше, в холодном рассвете бурного
дня, по безжалостному морю, по которому ходили волны, как горы. Было самое
холодное время зимы, и сквозь снежную метель мы могли разглядеть
негостеприимный берег -- если только это можно было назвать берегом, так все
было размыто. Повсюду виднелись бесчисленные снеговые вершины; повсюду
торчали утесы, слишком крутые, чтобы задержать на себе снег, острые мысы,
зубцы и обломки камней, торчащие из кипящего моря.
Названия этой страны, к которой нас несли волны, мы не знали, ибо ее
никогда не посещали европейские мореплаватели. Эта береговая линия была чуть
намечена на нашей карте. Приходилось заключить, что жители ее так же
негостеприимны, как и та часть страны, которую мы могли окинуть глазом.
"Спарвер" несло носом на утес. Здесь было довольно глубоко, и наш
бушприт сломался от удара и отлетел прочь. Фок-мачта, разрывая снасти,
рухнула вперед, на скалу.
Я искренне восхищался старым Иоганнесом Маартенсом. Огромная волна
смыла нас прочь с высокой кормы, и мы застряли посередине судна, откуда с
усилием стали пробираться на бак. Прочие следовали за нами. Мы крепко
привязали себя и пересчитали, сколько осталось всего людей. Нас было
восемнадцать человек. Остальные погибли.
Иоганнес Маартенс, дотронувшись до меня, указал вперед, на скалу, с
которой водопадом лилась вода. Я понял, на что он указывает. В двадцати
футах наша фокмачта уперлась в выступ скалы. Над выступом виднелась
расщелина. Он спрашивал меня, хватит ли у меня мужества прыгнуть с вершины
мачты в расщелину! Расстояние иногда сокращалось до шести футов, иногда же
доходило до двадцати, ибо мачта шаталась, как пьяная, от бешеных
раскачиваний кузова судна.
Я начал взбираться на мачту. Но товарищи не стали ждать. Один за другим
они отвязали себя и последовали за мной на опасную мачту. И нужно было
торопиться, потому что в любой момент "Спарвер" мог соскользнуть в глубокую
воду. Я рассчитал свой прыжок и сделал его, упав в расщелину и
приготовившись подать руку помощи тем, кто прыгал за мной. Это была очень
трудная работа. Мы промокли и наполовину замерзли на ветру. Кроме того,
прыжки нужно было соразмерить с покачиваниями кузова и мачты.
Первым погиб повар. Его сорвало с верхушки мачты, и он несколько раз
перекувырнулся в воздухе при падении. Волна подхватила его и превратила в
кашу ударами о камни. Кают-юнга, бородатый молодой человек лет двадцати с
чем-то, не удержался, соскользнул вдоль мачты и был притиснут к подножию
скалы. Притиснут? В одно мгновение из него выдавило жизнь! Двое других
последовали за поваром. Капитан Иоганнес Маартенс соскочил последним, и в
расщелине оказалось четырнадцать человек. Через час "Спарвер" сполз со скалы
и потонул в глубокой воде.
Два дня и две ночи мы погибали на этой скале, потому что не было
возможности ни спуститься, ни подняться по ней. На третье утро нас нашла
рыбачья лодка. Люди, сидевшие в ней, были одеты в грязные белые одеяния, и
длинные волосы их были завязаны на макушке оригинальным узлом -- "брачным
узлом", как я впоследствии узнал; впоследствии же я узнал, что за такой узел
очень удобно хвататься одной рукой, в то время как другой рукой вы колотите
туземца за неимением более удовлетворительных доводов.
Лодка направилась обратно в деревню за помощью, и понадобился почти
целый день и усилия почти всех сельчан и их снасти, чтобы вызволить нас. Это
были бедные, жалкие люди, и пищу их трудно было переносить даже желудку ко
всему привыкшего моряка.
Рис у них был бурый, как шоколад, наполовину с мякиной, в нем
попадалась солома и не поддающаяся определению грязь, которая часто
заставляла нас останавливаться в процессе жевания, залезать в рот большим и
указательным пальцами и вытаскивать всякую дрянь. Кроме того, они питались
чем-то вроде проса и соленьями чрезвычайного разнообразия и остроты.
Жили они в глинобитных хижинах под соломенными крышами. Под полом шли
дымоходы, вытягивавшие кухонный дым и обогревавшие помещения для спанья.
Здесь мы лежали и отдыхали несколько дней, угощаясь их мягким и безвкусным
табаком, который мы курили из крохотных трубок с чубуками длиной в ярд. Они
угощали нас еще теплым, кисловатым, похожим на молоко питьем, которое
опьяняло только в огромных дозах. Выпив много галлонов этого пойла, я
опьянел и начал петь песни, по обычаю моряков всего земного шара. Ободренные
моим успехом, ко мне присоединились товарищи, и скоро мы все ревели истошным
голосом, забыв о снежном буране, завывавшем снаружи, забыв о том, что нас
выбросило на неведомый, заброшенный берег. Старый Иоганнес Маартенс ревел,
хохотал и хлопал себя по ляжкам, как и все прочие. Гендрик Гамель,
хладнокровный, уравновешенный голландец, брюнет с выпуклыми черными глазами,
бесновался, как и все мы; как пьяный матрос, он бросал серебро, требуя все
больше и больше молочного пойла. Мы безобразно вели себя, но женщины
продолжали носить нам напиток, и чуть не вся деревня собралась в избу
смотреть на наши проделки...
Я полагаю, белый человек потому победно обошел весь земной шар, что ко
всему относился с безрассудной беспечностью, -- побуждали же его к
странствиям, разумеется, беспокойный дух и жажда наживы. И вот капитан
Иоганнес Маартенс, Гендрик Гамель и двенадцать матросов шумели и
безобразничали в рыбачьем поселке под музыку зимнего шторма,
свирепствовавшего в Желтом море.
Земля и люди Чо-Сена не произвели на нас приятного впечатления. Если
эти жалкие рыбаки -- образец здешних туземцев, то нетрудно понять, почему
этих берегов не посещают мореплаватели. Однако вскоре мы убедились, что не
все туземцы таковы. Деревушка лежала на внутреннем островке, и должно быть,
ее вожди послали доложить о нас на материк, ибо в одно прекрасное утро у
берега бросили якорь три больших двухмачтовых джонки с косыми парусами из
рисовых циновок.
Когда лодки (сампаны) причалили к берегу, капитан Иоганнес Маартенс так
и насторожился -- он опять увидел шелка! Франтоватый кореец, весь в бледных
шелках разных цветов, был окружен полудюжиной угодливых слуг, также
разодетых в шелка. Этот Кванг-Юнг-Джин, как оказалось впоследствии, был
"янг-бан", или дворянин; он был также министром или губернатором округа или
провинции. Это значит, что он был назначен в эту провинцию и что он
выколачивал в ней десятину, взяв налоги на откуп.
На берегу виднелась целая сотня солдат, отправившихся в деревню. Они
были вооружены трехзубыми острогами, копьями. секирами, а кое-кто кремневыми
ружьями такого размера, что на каждое ружье требовалось два солдата: один
нес и устанавливал треножник, на который клали дуло, а другой нес само ружье
и зажигал порох в нем. Как я узнал впоследствии, иногда ружье стреляло,
иногда же нет. Все это зависело от капризов ружейной полки и состояния
пороха.
Вот каким образом странствовал Кванг-Юнг-Джин. Деревенские вожди
боялись его и раболепствовали перед ним -- и не без оснований, как мы вскоре
убедились. Я выступил переводчиком, ибо уже знал несколько десятков
корейских слов. Он нахмурился и поманил меня в сторону. Меня это не смутило.
Я был ростом не ниже его, тяжелее его на добрых тридцать фунтов, кожа у меня
была белая, волосы золотистые. Повернувшись ко мне спиной, он обратился к
начальнику деревни, а его шесть шелковых спутников составили между нами
цепь. Покуда он вел беседу, пришли еще солдаты с джонок и принесли несколько
дюймовых досок. Эти доски имели около шести футов в длину и двух в ширину и
до половины были расколоты по длине. Посередине, но ближе к одному из
концов, виднелось круглое отверстие, шире человеческой шеи.
Кванг-Юнг-Джин отдал какой-то приказ, несколько солдат приблизились к
Тромпу, сидевшему на земле и облизывающему палец с ногтоедой. Тромп был
очень глупый, с медленными движениями матрос, и не успел он опомниться, как
одна из досок, раскрывшись как ножницы, окружила его шею и захлопнулась.
Осознав свое положение, он заревел как бык и заметался так, что все
бросились от него, чтобы он не задел их концами доски.
Вот где началась наша беда, ибо ясно было, что КвангЮнг-Джин намерен
всех нас заковать в колодки. Мы дрались голыми кулаками с сотнею солдат и с
таким же количеством сельчан, а Кванг-Юнг-Джин стоял в стороне в своих
шелках и смотрел на нас с царственным пренебрежением. Тут-то я и снискал
свое прозвище -- ЙиЙонг-Ик, Могучий. Я дрался еще долго после того, как все
мои спутники были побеждены и закованы в доски! Кулаки у меня были твердые,
как мозоли, и я не лишен был ни мускулов, ни воли для работы ими.
К своей радости, я скоро убедился, что корейцы понятия не имеют о
кулачном бое. Я их разбрасывал, как кегли. Но я стремился добраться до
Кванг-Юнг-Джина, и спасло его только вмешательство его спутников в тот
момент, когда я кинулся на него. Это были рыхлые твари, причем они
набросились на меня скопом. Я обратил их в кашу со всеми шелками. Но их было
так много! Они заслонялись от моих ударов просто своей численностью --
задние толкали на меня передних. И как же я их укладывал! Под конец они
валялись у меня ногами в три ряда друг на друге. К этому времени экипаж всех
трех джонок и почти все деревенские жители навалились на меня так, что я
чуть не задохся. Доску на меня надели очень скоро.
-- Боже великий, что же теперь? -- говорил Фандерфоот, мой товарищ
матрос, когда его подтащили к джонке.
Мы сидели на открытой палубе, как связанные куры, когда он задал свой
вопрос, и через мгновение, когда джонка покачнулась от бриза, мы покатились
по палубе с нашими досками, ободрав кожу на шее. А Кванг-ЮнгДжин с высокой
кормы глядел на нас так, словно мы не существовали. Много лет после этого я
дразнил Фандерфоота: "Что теперь, Фандерфоот?" Бедняга! В одну ночь он
замерз на улицах Кейджо: его никто не хотел впустить в дом...
Нас привезли на материк и бросили в вонючую, кишевшую насекомыми
тюрьму. Так состоялось наше представление официальной власти Чо-Сена. Но я
за всех нас отомстил Кванг-Юнгу-Джину в те дни, когда дева Ом была
благосклонна ко мне и власть находилась в моих руках.
В тюрьме мы валялись много ней. Причину мы узнали впоследствии.
Кванг-Юнг-Джин отправил депешу в Кейджо, столицу Чо-Сена, с запросом
императору относительно распоряжений на наш счет. Тем временем мы играли
роль зверинца. С рассвета до ночи наши решетчатые окна осаждались туземцами,
ибо они никогда не видели людей нашей расы. Нашу публику составляла не одна
чернь. Знатные дамы, которых приносили в паланкинах кули, тоже хотели
посмотреть "белых дьяволов, выброшенных морем", и, пока их прислужники
отгоняли бичами простонародье, они подолгу и робко разглядывали нас. Мы же
плохо видели их, ибо лица их, по обычаю страны, были закрыты покрывалами.
Только танцовщицы, женщины из простонародья и старухи показывались на улице
с открытыми лицами.
Я часто думал о том, что Кванг-Юнг-Джин, наверное, страдает несварением
желудка и во время припадков срывает зло на нас. Во всяком случае, без
всякой причины, когда на него находил каприз, нас всех выводили на улицу
перед тюрьмой и колотили палками под восторженные вопли толпы. Азиат --
жестокий зверь, и зрелище человеческого страдания доставляет ему
наслаждение.
Как бы то ни было, мы отдохнули душой, когда избиения прекратились. Это
было вызвано прибытием Кима. Кима? Все, что я могу сказать о нем, и лучшее,
что могу сказать, -- это что он был самый белый человек, когдалибо мне
попадавшийся в Чо-Сене. Он был начальником отряда в тридцать человек, когда
я встретил его; позднее он командовал дворцовой гвардией и в конце концов
умер за деву Ом и за меня. Словом, Ким был Ким!
Тотчас же но его прибытии с нашей шеи сняли колодки и нас поместили в
лучшую гостиницу, какой могло похвастаться это местечко. Мы все еще были
арестантами, но арестантами почетными, охраняемыми стражей из пятидесяти
конных солдат. На следующий день мы уже находились в пути на Большой
Императорской Дороге -- четырнадцать матросов ехали верхом на карликовых
лошадях, которые водятся в Чо-Сене, по направлению к самой столице Кейджо.
Император, по словам Кима, выразил желание посмотреть невиданных "морских
дьяволов".
Путешествие это продолжалось много дней и растянулось на добрую
половину длины Чо-Сена с севера на юг. При первой смене седел я пошел
побродить и посмотреть, как кормят карликовых коней. И то, что я увидел,
заставило меня зареветь: "Что теперь, Фандерфоот? " -- так, что сбежался
весь народ. Пропасть мне на этом месте, если лошадей не кормили бобовым
супом, вдобавок горячим, и ничего другого во всю дорогу они не получали!
Таков был обычай страны.
Лошади были сущие карлики. Побившись об заклад с Кимом, я поднял на
плечо одну из них, несмотря на ее визг и брыканье, так что люди Кима, уже
слышавшие о моем новом имени, тоже стали называть меня Йи-ЙонгИк -- Могучим.
Для корейца Ким был рослый мужчина -- корейцы вообще невысокая, коренастая
раса, -- но, схватываясь с ним один на один, я неизменно клал его на
лопатки. Народ, раскрыв рот, глядел на борьбу и бормотал: "Йи- Йонг-Ик..."
До некоторой степени мы представляли странствующий зверинец. О нашем
приближении становилось известно заранее, так что народ целыми деревнями
сбегался к дороге глядеть на нас. Это была нескончаемая цирковая процессия.
По вечерам в городах занимаемая нами гостиница осаждалась толпами, так что
мы не имели покоя, пока солдаты не отгоняли их копьями и пинками. Но Ким
первым делом созывал силачей и борцов деревни, чтобы полюбоваться, как я их
сокрушаю и кладу в грязь.
Хлеба нигде не было, но зато мы ели белый рис (от него плохо
развиваются мускулы), мясо -- как мы убедились, собачье (собак бьют в
Чо-Сене на мясо) -- и соленья, невероятно острые, но превосходные, когда
привыкнешь к ним. Получали мы также настоящий хороший напиток, не молочную
жижу, но белую острую водку, перегоняемую из риса, одной пинты которой было
достаточно, чтобы убить слабого человека, а сильного привести в
безумно-веселое настроение. В окруженном стенами городе Чонг-Хо я положил
Кима и городскую знать под стол, напоив их этим напитком -- или, вернее, на
стол, потому что стол был накрыт на полу, а мы сидели на корточках. Опять
все бормотали: "Йи-Йонг-Ик", -- и молва о моей доблести дошла до Кейджо и
императорского двора.
Я скорее был почетный гость, чем узник, и неизменно ехал рядом с Кимом,
доставая длинными ногами почти до земли, а в грязь задевая подошвами землю.
Ким был молод. Ким был человечен. Ким бы универсален. Он чувствовал
себя как дома в любой стране. Мы с ним беседовали, смеялись и шутили весь
день напролет и добрую половину ночи. И я быстро усваивал новый язык. У меня
был дар к изучению языков. Даже Ким изумлялся, как легко я овладел местным
наречием. Я изучал корейские взгляды, корейские нравы и слабые места
корейца. Ким учил меня песням о цветах, любовным песням, застольным песням.
Одну такую застольную песню он сочинил сам, и я ее попытаюсь изложить в
грубом переводе. В дни своей молодости Ким и некий Пак дали клятву
воздерживаться от пьянства и часто нарушали эту клятву. В зрелом возрасте
Ким и Пак пели:
Нет! Нет! Убирайся! Веселая чаша
Опять поднимает мою душу ввысь.
Я сам с собою борюсь. Скажи, товарищ,
Не знаешь ли, где продается красное вино?
Не под тем ли персиковым деревом, не там ли?
Будь счастлив, -- я бодро спешу туда.
Гендрик Гамель, лукавый и оборотистый малый, даже поощрял меня в
проделках, снискавших мне милость Кима -- да и не одному мне, а через мое
посредство Гендрику Гамелю и всей нашей компании. Здесь я упомянул о
Гендрике Гамеле как о моем советчике, ибо это имеет отношение ко многому,
последовавшему в Кейджо, по части завоевания благосклонности Юн-Сана, сердца
княжны Ом и снисходительности императора. Для игры, затеянной мной, у меня
было достаточно воли и бесстрашия, отчасти и ума; но должен сознаться, что
ум я больше всего заимствовал у Гендрика Гамеля.
Так и совершили мы путешествие до самого Кейджо, переезжая от стен
одного города до стен другого, по засыпанной снегом горной стране, усеянной
бесчисленными плодородными земледельческими долинами. Каждый вечер, к
закату, сигнальные костры зажигались на всех горных пиках и бежали по всей
стране. Ким любил наблюдать эту ночную картину.
-- От всех берегов Чо-Сена, -- рассказывал Ким, -- эти цепочки огненной
речи бегут к Кейджо, принося вести императору. Один дымок означает, что в
стране мир, два дымка означают восстание или иноземное нашествие.
Мы все время видели только один дымок. И каждый раз, когда мы выезжали,
Фандерфоот, замыкавший шествие, изумлялся: "Великий боже! Что теперь?"
Кейджо оказался обширным городом, где все население за исключением
дворян, или янг-банов, ходило в белом. По словам Кима, это было отличием
касты. По степени чистоты или грязи одежды можно было сразу угадать
общественное положение человека. Само собой подразумевалось, что кули,
имевшие только одно платье, в котором он ходил, должен быть невероятно
грязен. Само собой подразумевалось, что человек в безукоризненно белом
одеянии должен обладать многими переменами платья и штатом прачек,
поддерживающих его платья в ослепительной чистоте, Что касается янг-банов,
носивших бледные разноцветные шелка, то они стояли выше прочих каст.
Отдохнув в гостинице несколько дней, постирав наши платья и починив
изъяны, причиненные крушением и странствиями, мы были призваны к императору.
На огромном открытом пространстве перед дворцовой стеной возвышались
колоссальные каменные собаки, больше смахивавшие на черепах. Они сидели на
массивных каменных пьедесталах вдвое выше человеческого роста. Стены дворца
были огромны и сложены из обтесанного камня. Они были так толсты, что могли
сопротивляться самым мощным пушкам в течение года. Одни ворота были
размерами с целый дворец и поднимались, как пагода, отступающими назад
этажами, причем каждый этаж был покрыт черепичной кровлей. Франтоватые
гвардейцы стояли у входа. Ким объяснил мне, что это "тигровые охотники"
Пьенг-Янга, самые свирепые и страшные бойцы, какими обладал Чо-Сен.
Но довольно об этом. Для полного описания императорского дворца не
хватило бы и тысячи страниц. Скажу только, что здесь мы увидели власть в ее
материальном величии. Только очень древняя, мощная цивилизация могла создать
эти широкостенные, со многими фронтонами, царственные постройки.
Нас, матросов, повели не в зал для аудиенций, но -- как нам показалось
-- в зал для пиршеств. Пир приходил к концу, и собравшиеся находились в
веселом расположении духа. И какая же это была толпа! Высокие сановники,
принцессы крови, дворяне с мечами, бледные жрецы, загорелые воины высоких
чинов, придворные дамы с открытыми лицами, накрашенные ки-санг (танцовщицы),
отдыхавшие в этот момент от танцев, и дуэньи, поджидавшие женщин, евнухи,
лакеи и дворцовые рабы -- целая гвардия!
Но все отошли от нас, когда император со свитой приблизился, чтобы
поглядеть на нас. Это был веселый монарх, особенно для азиата. Летами он был
старше сорока, с чистой, бледной кожей, никогда не знавшей загара, с брюшком
и слабыми ногами. Но когда-то это был мужчина хоть куда! Об этом
свидетельствовал его благородный лоб. Глаза, однако, у него были гноящиеся,
с тонкими веками, губы тряслись и кривились от постоянных излишеств, которым
он предавался, -- эти излишества, как я впоследствии узнал, в значительной
степени придумывались и поощрялись Юн-Саном, буддийским жрецом, о котором я
ниже расскажу подробнее.
Мы, в наших матросских костюмах, представляли пеструю толпу, и пестрая
толпа нас окружала. Изумленные восклицания при виде нашей странной
наружности сменились хохотом. Ки-санг бросились к нам толпой, вертели нас во
все стороны, нападая на каждого из нас по две и по три; водили нас по залу,
как пляшущих медведей, и заставляли нас выделывать разные штуки. Да, это
было оскорбительно -- но что же мог сделать бедный матрос? Что мог поделать
старый Иоганнес Маартенс против целой гирлянды смеющихся девушек,
обступивших его, дергавших его за нос, щипавших за руки, щекотавших под
ребрами, так что он волей-неволей подпрыгивал? Чтобы избавить нас от этой
пытки, Ганс Амден, расчистив местечко, отхватил неуклюжий голландский танец,
при виде которого придворные так и катились со смеху.
Все это оскорбляло и меня, которому Ким в течение многих дней был
равноправным и славным товарищем. Я оказал сопротивление смеющимся ки-санг.
Расставив ноги и скрестив руки на груди, я крепко уперся на месте; ни
щекотанье, ни щипки не могли нарушить мою невозмутимость. И меня оставили
ради более легкой добычи.
-- Ради бога, дружище, произведи внушительное впечатление! --
пробормотал Гендрик Гамель, пробравшись ко мне и таща за собой трех ки-санг.
Неудивительно, что он бормотал, ибо всякий раз, как он раскрывал рот, в
него напихивали сластей.
-- Избавь нас от этого безумия, -- умолял он, мотая головой во все
стороны, чтобы увернуться от пальчиков, державших сласти. -- Мы должны
соблюдать достоинство, -- понимаешь ты -- достоинство! Иначе мы погибли. Они
превратят нас в ручных животных, в игрушки. Когда мы им надоедим, они нас
выбросят вон. Ты действуешь правильно. Держись! Не сдавайся! Требуй
уважения, уважения ко всем нам... -- последние слова я едва мог разобрать,
ибо к тому времени ки-санг совершенно забили его рот сластями.
Как и уже говорил, я был наделен и волей, и бесстрашием, и усиленно
работал своими матросскими мозгами, ища выхода. Дворцовый евнух, щекотавший
мне перышком затылок, подал мне мысль. Я уже обратил на себя внимание своей
невозмутимостью и нечувствительностью к атакам ки-санг, так что многие
возлагали теперь надежды на то, что евнух меня раздразнит. Я не подавал
знака, не делал движения, пока не соразмерил отделявшего нас расстояния. И
тогда с молниеносной быстротой, не повернув ни головы, ни туловища, а просто
вытянув руку, я повалил его одним ударом руки наотмашь. Тыльная часть моей
руки пришлась по его щеке и челюсти. Послышался треск, как от бруса,
расколовшегося в шторм. Евнух отлетел прочь и безжизненной кучей рухнул на
пол шагах в десяти от меня.
Смех прекратился, послышались крики изумления, бормотанье и шепот:
"Йи-Йонг-Ик!"
Опять я скрестил руки и застыл в той же высокомерной позе. Должно быть,
во мне, Адаме Стрэнге, между прочим, сидела и душа актера. И смотрите, что
вышло! Теперь я был самым выдающимся лицом в нашей компании.
Пренебрежительно, недрогнувшим взглядом я встречал устремленные на меня
глаза и заставлял их отворачиваться, -- опускались или отворачивались все
глаза, кроме одной пары. Это были глаза молодой женщины, в которой по
богатству наряда и по полдюжине женщин, толпившихся за ее спиной, я признал
знаменитую придворную даму, и действительно, это была княжна, дева Ом,
принцесса дома Мин. Я сказал -- молодая? Ей было столько же, сколько мне, --
тридцать лет; несмотря на свою зрелость и красоту, она была не замужем, как
мне пришлось узнать.
Только она бесстрашно глядела в мои глаза, пока я сам не отвернулся в
сторону. Во взоре ее не было ни вызова, ни вражды -- одно только восхищение.
Мне не хотелось признать свое поражение перед маленькой женщиной, и глаза
мои, отвернувшись в сторону, поднялись на униженную группу моих товарищей и
осаждавших их ки-санг и дали мне необходимый предлог. Я хлопнул в ладоши на
азиатский манер, как хлопают, отдавая приказы.
-- Перестать! -- прогремел я на туземном языке, тоном, каким
приказывают подчиненным.
О, у меня была громкая и грубая глотка, и я умел реветь так, что
оглушал! Я убежден, что такой громкий приказ никогда еще не потрясал
священного воздуха императорского дворца...
Огромная палата остолбенела. Женщины вздрогнули и прижались друг к
другу, словно ища спасения. Ки-санг оставили в покое матросов и с трусливым
хихиканьем удалились прочь. Только княжна Ом не шевельнулась и продолжала
глядеть широко раскрытыми глазами в мои глаза, которые я вновь устремил на
нее,
Наступило глубокое безмолвие, словно в ожидании приговора. Множество
глаз робко перебегали с императора на меня и с меня на императора. У меня
хватило благоразумия безмолвствовать и стоять, скрестив руки, в надменной и
отчужденной позе.
-- Он говорит на нашем языке, -- промолвил наконец император. И я готов
поклясться, что все вздохнули одним огромным вздохом облегчения.
-- Я родился уже зная этот язык, -- отвечал я, ухватившись своим
матросским умишком за первую, невозможную соломинку, которая мне попалась.
-- Я говорил на нем у груди своей матери. Я был чудом в моем кругу! Мудрецы
приходили издалека видеть и слушать меня. Но никто не знал слов, которые я
произносил. За долгие годы, протекшие с той поры, я многое позабыл, но
теперь в Чо-Сене слова возвращаются ко мне, как давно забытые друзья.
Я, без сомнения, произвел впечатление. Император проглотил слюну и
долго кривил губы, пока промолвил:
-- Как ты это объясняешь?
-- Случайностью, -- отвечал я, продолжая следовать капризному пути
своей выдумки. -- Боги рождения сделали оплошность и послали меня в далекий
край, где меня вскормил чужой народ. Я -- кореец и теперь наконец прибыл
домой!
Послышались возбужденные перешептывания. Император обратился к Киму.
-- Он всегда был таким, с нашей речью на устах, с первой минуты, как
вышел из моря, -- солгал Ким, поддержав меня как добрый товарищ.
-- Принесите мне одежды янг-бана, как то подобает, -- перебил я его, --
и вы увидите! -- И когда меня повели, я обернулся к ки-санг и сказал:
-- Оставьте моих рабов в покое. Они совершили длинное путешествие и
устали. Они мои верные рабы!
В другой комнате Ким помог мне переодеться, выслав вон лакеев, и
наскоро дал мне необходимые инструкции. Он так же мало знал, к чему я гну,
как и я сам; но он был славный парень.
Забавное дело: когда я вернулся в толпу и начал говорить на корейском
языке, который, как я утверждал, заржавел будто бы от долгого
неупотребления, Гендрик Гамель и прочие, слишком тупые на изучение новых
языков, не поняли ни одного слова, произносимого мной!
-- Во мне течет кровь дома Кориу! -- объявил я императору. --
Правившего в Сонгдо много лет тому назад, когда мой дом возник на развалинах
Силлы!
Эту древнюю историю рассказал мне Ким в течение наших долгих
странствий, и теперь он с трудом удерживался от смеха, слушая, как я с
добросовестностью попугая повторял его сказки.
А это, -- продолжал я, когда император спросил меня о моих спутниках,
-- это мои рабы -- все, за исключением этого старика, -- и я указал на
Иоганнеса Маартенса, -- он сын вольноотпущенника. -- Я приказал приблизиться
Гендрику Гамелю. -- Этот, -- продолжал я фантазировать, -- родился в доме
моего отца от рабыни, родившейся там же. Мы близки с ним. Мы одного
возраста, родились в один и тот же день, и в этот день отец подарил мне его!
Впоследствии, когда Гендрику Гамелю не терпелось узнать, о чем я
разговаривал, и я рассказал ему обо всем, он немало корил меня и даже
злился.
-- Сало брошено в огонь, Гендрик, -- ответил я, -- То, что я сделал, я
сделал, не подумав, и потому, что нужно же было что-нибудь сказать. Но дело
сделано. Ни я, ни ты не можем вернуть сало. Нужно теперь играть свою роль
как можно правдоподобнее!
Брат императора, Тайвун, был олух из олухов, и ночью он пригласил меня
на попойку. Император пришел в восторг и приказал дюжине самых знатных
олухов принять участие в этой попойке. Женщин отпустили, и мы начали пить
чашу за чашей. Кима я удержал при себе, и в половине пира, несмотря на
хмурые намеки Гендрика Гамеля, я отпустил его и всю компанию, сперва
потребовав и получив комнату во дворце вместо гостиницы.
На следующий день во дворце только и говорили, что о моих подвигах на
попойке, ибо Тайвун и все его чемпионы храпели вповалку на циновках, а я без
посторонней помощи добрался до своей постели. Впоследствии, когда многое
переменилось, Тайвун ни разу не позволил себе усомниться в моем праве на
корейское происхождение. Только кореец, утверждал он, может обладать столь
крепкой головой!
Дворец представлял целый город, и нас поместили в павильоне, стоявшем
особняком. Княжеские покои отвели, разумеется, мне, а Гамель, Маартенс и
матросы, не перестававшие ворчать, должны были довольствоваться остальной
частью помещения.
Меня позвали к Юн-Сану, буддийскому жрецу, о котором я уже упоминал. Мы
впервые видели в этот раз друг друга. Даже Кима он удалил от меня, и мы
сидели одни на пушистых циновках в скудно освещенной комнате. Боже, что за
человек, что за умница был этот ЮнСан! Он подверг меня основательной
проверке. Он знал многое о других краях и местах, о которых никто в ЧоСене и
не подозревал. Поверил ли он сказке о моем происхождении? Я не мог этого
узнать, ибо лицо его было невозмутимо, как вылитое из бронзы.
О чем думал Юн-Сан, было известно лишь ему самому. Но в нем, в этом
убого одетом и тощем жреце, я угадывал силу, приводившую в движение все
прочие силы во всем дворце и во всем Чо-Сене. Из разговора я понял также,
что я ему нужен. Подсказала ли ему это дева Ом? Эту трудную задачу я задал
Гендрику Гамелю. Я мало над чем задумывался и еще менее заботился, ибо жил
всегда минутой, а думы и беспокойство предоставлял другим.
Я откликнулся на призыв девы Ом и последовал за гладколицым с кошачьей
поступью евнухом тихими закоулками дворца в ее покои. Она жила так, как
полагается жить принцессе крови. Ей также был отведен особый дворец среди
лотосовых прудов, где росли леса трехсотлетних, но карликовых деревьев, не
достигавших мне до пояса. Бронзовые мостики, словно отделанные ювелирами,
перекидывались через лилейные пруды, и бамбуковая роща отделяла ее дворец от
прочих дворцов.
У меня закружилась голова. Хоть и простой матрос, я знал, однако,
женщин, и в том, что дева Ом за мной послала, угадывал нечто большее, чем
праздное любопытство. Мне известны были примеры любви между простолюдинами и
царицами, и я думал -- не случится ли со мной такая же история?
Дева Ом не тратила даром времени: ее окружали женщины, но она так же
мало стеснялась их присутствием, как погонщик стесняется своих лошадей. Я
сидел рядом с нею на мягких циновках, превративших комнату в какое-то ложе,
а она угощала меня вином и сластями, поданными на крохотных, не выше фута,
столиках, выложенных перламутром.
Боже, стоило мне только заглянуть в ее глаза... Но погодите. Не
заблуждайтесь. Дева Ом была неглупая женщина. Я уже говорил, что она была
одного со мной возраста. Ей было полных тридцать лет, и в ней заметна была
степенность зрелого возраста. Она знала, что ей нужно, и знала, чего не
нужно. По этой причине она и не выходила замуж, хотя весь этот азиатский
двор оказывал на нее давление; тщетно пытаясь заставить ее выйти замуж за
Чонг-Монг-Джу. Он находился в дальнем родстве с великим родом Мин, был
неглуп и так жадно домогался власти, что это всполошило Юн-Сана, которому
хотелось удержать всю власть в своих руках и сохранить в Чо-Сене
установленный порядок. Таким образом Юн-Сан сделался союзником девы Ом,
спасая ее от родственника и используя для того, чтобы остричь ему крылья...
Но довольно об интригах. Много прошло времени, пока я узнал и десятую часть
их, да и то главным образом благодаря излияниям девы Ом и догадкам Гендрика
Гамеля.
Дева Ом была сущий цветок. Такие женщины редко рождаются на свет, едва
ли два раза в столетие. Ни правила, ни условности не смущали ее. Религия
была для нее рядом абстрактных понятий, отчасти заимствованных у Юн-Сана,
отчасти выработанных ею самой. Вульгарная религия -- религия народа -- была
просто способом удерживать трудящиеся миллионы на работе. У девы Ом была
сильная воля, а сердце совсем женское. Она была красавицей, да, красавицей
согласно всем существующим на свете понятиям о красоте. Большие черные глаза
ее не были раскосы и узки, как у азиатов. Правда, глаза были продолговатые и
поставлены не прямо, а чуть-чуть наклонно, что придавало ей большую
пикантность.
Я уже говорил, что она была неглупа. Смотрите же! Раздумывая над
возникшим небывалым положением принцессы и матроса, связанных любовью,
которая грозила разрастись, я неустанно следил за тем, чтобы не уронить
своего достоинства. В начале этого первого свидания я упомянул то, о чем
сказал всему двору, -- именно что в действительности я чистокровный кореец
древнего дома Кориу.
-- Полно! -- проговорила она, ударив меня по губам своим веером из
павлиньих перьев. -- Нечего рассказывать детские сказки! Знай, что для меня
ты и лучше и выше какого бы то ни было дома Кориу. Ты...
Она сделала паузу, а я ждал, наблюдая, как в ее глазах созревало смелое
решение.
-- Ты мужчина! -- докончила она. -- Даже в грезах мне не снилось, что
может существовать такой мужчина.
Боже, боже! Что мог в этом случае сделать бедный матрос? Должен
сознаться, что этот матрос покраснел под своим морским загаром, а глаза девы
Ом лукаво и задорно смеялись -- и руки мои сами собой чуть не обхватили ее.
Но она хлопнула в ладоши, позвав своих наперсниц, -- и я понял, что на этот
раз аудиенция кончилась. Я понял также, что будут другие аудиенции,
непременно будут другие!
К Гамелю я вернулся с закружившейся головой.
-- Женщина! -- проговорил он, подумав. Он поглядел на меня и испустил
завистливый вздох, насчет которого не могло быть ошибки. -- Твое счастье,
Адам Стрэнг, что у тебя бычачья глотка и желтые волосы! Вот перед тобой
игра, дружище. Веди ее, и всем нам будет хорошо. Веди игру, я научу тебя --
как...
Я ощетинился. Хоть и матрос, я все же был мужчина и никому не хотел
быть обязан своим успехом у женщины! Гендрик Гамель был, правда, одно время
половинным владельцем старого "Спарвера", знал мореходную астрономию, был
начитан, но что касается женщин -- я мог поучить его!
Он усмехнулся своими тонкими губами и спросил:
-- Как тебе нравится княжна Ом?
-- В таких вещах матрос не бывает разборчив, -- ответил я.
-- Как она тебе нравится? -- повторил он, уставившись на меня своими
выпуклыми глазами.
-- Ничего, даже очень недурна, если хотите знать!
-- Тогда добейся ее, -- приказал он. -- И в один прекрасный день мы
получим судно и улизнем из этой проклятой страны. Я бы отдал половину шелков
Индии за добрый христианский обед! -- Он пристально посмотрел на меня.
-- Как ты думаешь, можешь ты добиться ее любви? -- спросил он.
Я чуть не подскочил при этом вопросе. Он удовлетворенно улыбнулся.
-- Но не торопись, -- посоветовал он. -- Поспешишь -- людей насмешишь!
Держись! Не будь расточителен в ласках. Заставь ценить свою бычачью глотку и
желтые волосы -- и счастье, что они у тебя есть, -- ибо в глазах женщин они
стоят больше, чем мысли десятков философов!
Последовавшие дни мне вспоминаются как какой-то непрерывный вихрь --
аудиенции у императора, попойки с Тайвуном, совещания с Юн-Саном и часы с
девой Ом. Кроме того, добрую половину ночи, по распоряжению Гамеля, я
проводил за тем, что выуживал у Кима все мелочи придворного этикета и манер,
знакомился с историей Кореи, с древними и новыми богами, с фразеологией
высоких сфер, дворянства и простонародья. Никогда, вероятно, простой матрос
не работал так усердно! Я был куклой -- куклой Юн-Сана, которому был нужен,
-- куклой Гамеля, сокровенные цели и мысли которого были так глубоки, что я,
наверное, потонул бы в них. Только с девой Ом я был человеком, а не
куклой... И все же, оглядываясь теперь назад и думая обо всем, я начинаю
сомневаться. Я думаю, что и дева Ом вертела мною как хотела, утоляя желания
своего сердца! Это ей было нетрудно, ибо очень скоро она стала желанием
моего сердца, и так сильно было это желание, что ни ее воля, ни воля Гамеля
или Юн-Сана не могли помешать мне заключить ее в мои объятия.
Между тем я оказался замешанным в дворцовую интригу, глубину которой я
не в состоянии был измерить. Я мог только угадать основное ее направление --
против Чонг-Монг-Джу, царственного родственника девы Ом. Я не знал о
существовании бесчисленных клик дворца, запутанных как лабиринт и
простиравших свое влияние на все Семь Берегов. Но меня это мало тревожило --
я предоставил это Гендрику Гамелю. Я ему сообщал до мельчайших деталей все,
что происходило в его отсутствие; а он, нахмурив брови, сидел целыми часами
и как терпеливый паук распутывал нити свежесплетенных сетей. Будучи моим
телохранителем, он настаивал на необходимости всюду сопутствовать мне.
Только иногда ему в этом препятствовал Юн-Сан. Разумеется, я не подпускал
его в минуты свиданий с девой Ом, но в общем рассказывал ему все, что между
нами происходило, за исключением минут нежности, которые его не касались.
Я думаю, что Гамель был доволен тем, что сидел в тени и вел свою тайную
игру. Он был достаточно хладнокровен, чтобы понять, что риск лежал на мне.
Если я буду благоденствовать, будет благоденствовать и он. Если я потерплю
неудачу, он может улизнуть, как хорек. Я убежден, что именно так рассуждал
он, и все же, как вы убедитесь, это в конце концов не спасло его.
-- Стой за меня, -- говорил я Киму, -- и все, что пожелаешь, будет
твоим. Чего тебе хочется?
-- Я хотел бы командовать тигровыми охотниками Пьенг-Янга, а вследствие
этого и командовать дворцовой стражей, -- отвечал он.
-- Подожди, -- сказал я, -- и ты этого дождешься. Я обещаю!
Но как -- в этом-то и была вся загвоздка! Впрочем, тот, у кого ничего
нет, может дарить хоть целый мир; я, ничего не имевший, дарил Киму чин
капитана дворцовой стражи. Лучше всего было то, что я сдержал свое обещание!
Ким получил командование над тигровыми охотниками, хотя это и не привело к
добру.
Интриги и заговоры я предоставил Гамелю и ЮнСану -- это были политики.
Я был просто мужчина и любовник, и проводил время куда веселее их.
Представьте себе картину -- истрепанный бурями жизнерадостный матрос,
безответственный, не знающий ни прошлого, ни будущего, пьет и обедает с
царями; он любовник принцессы, и мозги Гамеля и Юн-Сана ведут за него всю
умственную работу!
Не раз случалось, что Юн-Сан почти разгадывал мои мысли; но когда он
подверг испытанию Гамеля, тот проявил себя тупым рабом, которому в тысячу
раз менее интересны государственные дела и политика, чем мое здоровье и
удобства, и который занят только тем, как бы удерживать меня от попоек с
Тайвуном. Я думаю, дева Ом угадывала истину и держала ее про себя; она
желала не ума, но как выразился Гамель, бычачьей шеи и желтых волос мужчины.
Я не буду распространяться о том, что происходило между нами, хотя дева
Ом -- давно драгоценный прах столетий. Ни я к ней, ни она ко мне -- оба мы
не могли остаться равнодушными; а уж раз мужчина и женщина понравились друг
другу, то пусть падают головы и рушатся царства -- они не погибнут! С
течением времени начали поговаривать о нашем браке -- разумеется, сперва
потихоньку, -- вначале это были лишь дворцовые сплетни в дворцовых углах,
между евнухами и горничными. Но во дворце сплетни кухонных судомоек
доползают до трона. И скоро поднялась порядочная сумятица. Дворец был
пульсом всей державы Чо-Сен. И когда дворец зашевелился, задрожал и Чо-Сен.
И этому были причины. Наш брак был бы ударом прямо в лоб Чонг-Монг-Джу! И он
стал бороться с энергией, к которой уже приготовился Юн-Сан. Чонг-Монг-Джу
взбудоражил добрую половину провинциальных жрецов; они пошли огромной, в
милю, процессией ко дворцу и довели императора до паники.
Но Юн-Сан стоял как скала; вторая половина провинциальных жрецов была
за него, и вдобавок жреческое сословие больших городов, как Кейджо, Фузан,
Сонгдо, Пьенг-Янг, Ченампо, Чемульпо. Юн-Сан и дева Ом, сговорившись, ловко
обошли императора. Впоследствии дева Ом признавалась мне, что застращала его
слезами, истериками и угрозой скандала, который мог пошатнуть его трон. В
довершение всего в удобный психологический момент Юн-Сан засыпал императора
новшествами, которые давно подготовлял.
-- Ты должен отрастить себе волосы и завязать их брачным узлом, --
предупредил меня Юн-Сан, и в его величавом взоре засверкали лукавые искры.
Неприлично ведь было выходить принцессе замуж за матроса или даже за
претендента на кровное родство с древним родом Кориу, но лишенного власти,
земли и каких бы то ни было признаков ранга! И вот императорским декретом
было объявлено, что я принц Кориу! Затем четвертовали и обезглавили
тогдашнего губернатора пяти провинций, приверженца Чонг-Монг-Джу, а меня
назначили губернатором семи внутренних провинций древнего Кориу. В Чо-Сене
семерка -- магическое число. Для округления цифры две провинции были отняты
у двух других приверженцев Чонг-Монг-Джу.
Боже, боже! Матрос... И вот он шествует к северу по Дороге Мандаринов с
пятью сотнями солдат и свитой! Я стал губернатором семи провинций, где меня
ждало пятьдесят тысяч войска. Жизнь, смерть и пытка зависели от одного моего
слова! У меня были казна и казначейство, не говоря еще о целом полчище
туземцев. Ждала меня и целая тысяча откупщиков, выколачивавших гроши из
трудящегося народа.
Семь провинций составляли северную часть страны. За ними лежала
нынешняя Маньчжурия, в ту пору называвшаяся страной Хонг-Ду, или "Красных
Голов". Это была страна диких разбойников, иногда большими массами
переходивших реку Ялу и наводнявших северную часть ЧоСена, как саранча.
Говорили, что они людоеды. Я по опыту знаю, что они были страшные бойцы,
почти непобедимые. Этот год пролетел как вихрь. Пока Юн-Сан и дева Ом в
Кейджо довершали поражение Чонг-Монг-Джу, я занялся созданием собственной
репутации. Разумеется, за моей спиной стоял Гендрик Гамель, но для
посторонних глаз главным действующим лицом был я. При моем посредничестве
Гамель учил наших солдат муштровке и тактике, и изучал стратегию Красных
Голов. Война была жестокая, и хотя она отняла год, но в конце этого года мир
воцарился на северной границе, и по нашу сторону реки Ялу не осталось ни
одной живой Красной Головы.
Не знаю, записан ли набег Красных Голов в западной истории; если
записан, тогда можно определить точно, о каких временах я пишу. И еще другой
ключ для определения времени: когда Хидейоши был шогуном Японии? В мое время
я слышал отголоски двух набегов, за одно поколение до меня, произведенных
Хидейоши через самое сердце Чо-Сена, от Фузана на юг и до Пьенг-Янга на
север. Это тот Хидейоши, который отправил в Японию уйму бочек с солеными
ушами и носами корейцев, убитых в бою. Я беседовал со многими стариками и
старухами, видевшими это сражение и счастливо избежавшими засолки.
Но вернемся к Кейджо и деве Ом. Боже, боже, что это была за женщина!
Сорок лет она была моей женой. Ни одного голоса не поднялось против нашего
брака. Чонг-Монг-Джу, лишенный власти, впавший в немилость, удалился
брюзжать в какой-то далекий закоулок на северовосточном побережье. Юн-Сан
стал абсолютным владыкой. По ночам одиночные столбы дыма разносили весть о
мире по всей стране. Благодаря непрерывным пирам и бражничаньям, которые
организовывал хитроумный Юн-Сан, император все больше слабел ногами и
зрением. Дева Ом и я победили по всей линии. Ким командовал дворцовой
стражей. Кванг-Юнг-Джина, провинциального губернатора, который отколотил нас
и забил в колодки, когда нас выбросило на берег, я лишил власти и навсегда
прогнал от стен Кейджо.
А Иоганнес Маартенс? Дисциплина хорошо вколочена в голову матроса, и я,
несмотря на свое нынешнее величие, никак не мог забыть, что когда-то, в те
дни, когда мы отыскивали Новую Индию на "Спарвере", он был моим капитаном.
Согласно басне, которую я рассказал при дворе, -- единственным вольным
человеком в моей свите. Остальные матросы, на которых смотрели как на моих
рабов, не могли, разумеется, претендовать на какие бы то ни было должности.
Но Иоганнес мог претендовать и претензию эту заявил. О старая, хитрая
лисица! Я мало понимал его намерения, когда он попросил меня сделать его
губернатором жалкой крохотной провинции Кионг-Джу. Кионг-Джу не могла
похвалиться ни плодородными полями, ни рыбными ловлями. Собиравшиеся с этой
провинции налоги едва покрывали расходы по взиманию их, и губернаторство в
ней было в сущности почетным титулом, лишенным содержания. Провинция,
понастоящему, была кладбищем -- священным кладбищем, правда, ибо на
Табонгских горах были построены жертвенники и похоронены кости древних царей
Силлы. Про себя я подумал: лучше быть губернатором Кионг-Джу, чем вассалом
Адама Стрэнга; не подозревал я в то время, что Маартенс взял с собой четырех
матросов не из боязни скуки!
После этого прошло два чудесных года. Я управлял своими семью
провинциями главным образом при помощи небогатых янг-банов, которых выбрал
для меня Юн-Сан. От меня только требовалась время от времени инспекторская
поездка в полном параде и в сопровождении княжны Ом. На южном берегу у нее
был летний дворец, который мы часто посещали. Там я предавался забавам,
приличествующим мужчине. Я сделался покровителем спорта борьбы и воскресил
среди янг-банов угасшее искусство стрельбы из лука. Кроме того, в северных
горах можно было охотиться на тигров.
Замечательны были приливы в Чо-Сене. На нашем северо-восточном
побережье вода поднималась и падала всего на какой-нибудь фут. Но на
западном берегу отлив достигал шестидесяти футов. Чо-Сен не вел торговли с
чужими странами и не видал иноземных купцов. Сами корейцы не ездили никуда
за море, и никакие иностранные суда не подходили к берегам Чо-Сена. Это было
результатом политики изоляции, проводившейся с незапамятных времен. Только
раз в десять или двадцать лет приезжали китайские послы, но они приезжали по
суше, вокруг Желтого моря, через страну Хонг-Ду и по Дороге Мандаринов в
Кейджо. Этот кружной путь отнимал целый год. Являлись они для того, чтобы
требовать от нашего императора пустого церемониала признания древних прав
верховного владычества Китая.
Тем временем Гамель, долго размышлявший, созрел наконец для действий.
Планы его развивались быстрым темпом. Для него Чо-Сен был Индией, если как
следует обработать страну. Он мало откровенничал со мной, и лишь когда он
начал добиваться того, чтобы меня сделали адмиралом корейского флота джонок,
и мимоходом осведомляться о том, где хранится императорская казна, я
смекнул, в чем дело.
Но мне не хотелось уезжать из Чо-Сена без княжны Ом. И когда я намекнул
ей на это, она прижалась ко мне и ответила, что я ее царь и, куда бы ее ни
повел, она за мной последует. И вы увидите, что то, что она сказала, было
глубокой правдой.
Юн-Сан сделал большую оплошность, оставив в живых Чонг-Монг-Джу!
Впрочем, нельзя сказать, что это была оплошность со стороны Юн-Сана. Он
просто не посмел поступить иначе. Отлученный от двора, Чонг-Монг-Джу тем не
менее был слишком популярен среди провинциального духовенства. Юн-Сан
вынужден был удержать занесенную руку, а Чонг-Монг-Джу, по видимости
безропотно живший на северо-восточном берегу, в действительности не
оставался праздным. Его эмиссары, главным образом буддийские жрецы,
рассеялись по всей стране и вербовали для него самых загнанных
провинциальных чиновников. Обдумывать и выполнять грандиозные и сложные
заговоры возможно только при холодном терпении азиата. Дворцовая клика
приверженцев Чонг-Монг-Джу так усилилась, как Юн-Сан и представить себе не
мог. Чонг-Монг-Джу подкупил даже дворцовую стражу тигровых охотников из
Пьенг-Янга, которыми командовал Ким. И в то время как Юн-Сан колебался, в то
время как я отдавался спорту и княжне Ом, а Гендрик Гамель вырабатывал планы
ограбления императорского казначейства и Иоганнес Маартенс обдумывал
соответственные планы насчет могил на Табонгских горах, -- вулкан замыслов
Чонг-МонгДжу накоплял энергию, все еще ничем не выдавая себя.
Боже, боже, какая разразилась буря! Оставалось только одно -- все на
борт и спасай шкуру! И много было шкур, которых не удалось спасти. Заговор
разразился преждевременно. В сущности, катастрофу ускорил Иоганнес Маартенс;
то, что он сделал, было слишком на руку ЧонгМонг-Джу, чтобы тот не
воспользовался.
Представьте себе: жители Чо-Сена фанатично преданы культу предков, а
этот старый жадный голландский пират со своими четырьмя матросами в далеком
Кионг-Джу задумал не больше не меньше как ограбить могилы царей древней
Силлы, погребенных в золотых гробах! Сделали они это ночью, и до утра
пробирались к берегу. Но на следующий день на землю спустился густой туман,
они заблудились и не нашли дороги к ожидавшей их джонке, которую Иоганнес
Маартенс тайком подготовил и оснастил. Он и его матросы были остановлены
Ин-Сун-Сином, местным судьей, одним из приверженцев Чонг-Монг-Джу. Только
Герману Тромпу удалось улизнуть в тумане, и много времени спустя он
рассказал мне о происшествии.
В эту ночь Кейджо и весь двор спали, ничего не ведая, хотя известие о
святотатстве уже побежало по Чо-Сену, и добрая половина северных провинций
восстала против своих чиновников. По приказу Чонг-Монг-Джу ночные костры
свидетельствовали о том, что в стране мир. Каждую ночь зажигались такие
костры, между тем как посланцы Чонг-Монг-Джу днем и ночью загоняли до смерти
лошадей на всех дорогах Чо-Сена. Мне довелось увидеть, как его гонец прибыл
в Кейджо. Были сумерки. Выходя из больших ворот столицы, я увидал, как пала
загнанная лошадь, и измученный ездок пошел пешком. Я не подозревал, что этот
человек несет с собой мой приговор...
Привезенные им вести послужили сигналом к дворцовой революции. Я должен
был вернуться только к полуночи, а к полуночи все уже было сделано. В девять
часов вечера заговорщики захватили императора в его личных покоях. Они
заставили его немедленно созвать всех министров, и когда те один за другим
появились, их зарубили на его глазах. Тем временем восстали тигровые
охотники и перестали повиноваться. Юн-Сана и Гендрика Гамеля жестоко избили
мечами плашмя и посадили в тюрьму. Семерым матросам удалось бежать из дворца
вместе с княжной Ом. Это удалось им благодаря Киму, который с мечом в руке
загородил путь своим собственным тигровым охотникам. Его изрубили и
перешагнули через тело. К несчастью, он не умер от этих ран.
Как вихрь в летнюю ночь, революция -- разумеется, дворцовая революция
-- пронеслась и стихла. Чонг-МонгДжу очутился на вершине власти. Император
утверждал все, чего требовал Чонг-Монг-Джу. Чо-Сен хранил спокойствие и
только ахал, узнав об осквернении царских могил, и рукоплескал
Чонг-Монг-Джу. Повсюду падали головы чиновников, которых Чонг-Монг-Джу
заменял своими приверженцами; но против династии народ не восстал.
А с нами вот что случилось. Иоганнеса Маартенса и его трех матросов
выставили плевкам черни половины деревень и городов Чо-Сена, а потом зарыли
в землю по самую шею на открытой площадке перед воротами дворца. Им давали
пить, чтобы тем сильнее хотелось есть: перед ними ставили и каждый час
меняли дымящиеся вкусные яства. Говорят, старый Иоганнес Маартенс жил дольше
всех, испустив дух лишь через пятнадцать дней.
Кима медленно измучили палачи, отнимая кость за костью и сустав за
суставом, и он не скоро умер. Гамеля, в котором Чонг-Монг-Джу угадал моего
наушника, казнили лопаткой -- быстро и ловко заколотили насмерть под
восторженные вопли подонков Кейджо. Юн-Сану дали умереть мужественной
смертью. Он играл в шахматы со своим тюремщиком, когда прибыл гонец от
императора или, вернее, от Чонг-Монг-Джу, с чашей яду.
-- Погоди немного, -- проговорил Юн-Сан. -- Нельзя отрывать человека во
время партии шахмат! Я выпью, как только кончу партию! -- И, покуда гонец
ждал, Юн-Сан окончил партию, выиграл ее, а потом осушил чашу.
Только азиат способен придумать настойчивую, неотвязную пожизненную
месть. Такую месть придумал ЧонгМонг-Джу для меня и княжны Ом. Он не
умертвил нас, даже не заключил в тюрьму. Княжну Ом лишили ранга и всего
имущества. Повсюду в Чо-Сене, до последней деревушки, был обнародован и
прибит императорский указ о том, что я происхожу из дома Кориу и никто не
смеет убивать меня. Дальше было объявлено, что семерых матросов, оставшихся
в живых, также нельзя убивать. Но им нельзя было оказывать и милосердия. Они
должны были сделаться отверженцами, нищими большой дороги. И мы с княжной Ом
тоже стали нищими большой дороги.
Последовало сорок долгих лет преследований. Ненависть Чонг-Монг-Джу к
княжне Ом и ко мне была неумолима, как смерть. На наше несчастье, судьба
даровала ему долгую жизнь -- и нам также. Я уже говорил, что княжна Ом была
чудо, не женщина! У меня нет более красноречивых слов, я могу только
повторять эти слова. Я слыхал, одна знатная дама как-то сказала своему
возлюбленному: "С тобой хоть шалаш и корка хлеба". В сущности, это самое
княжна Ом сказала мне. Но мало того что сказала -- буквально исполнила! А
сколько раз у нас не хватало даже корки и кровом нам служил свод небесный!
Все усилия, которые я прилагал к тому, чтобы избежать нищенства,
уничтожал Чонг-Монг-Джу. В Сонгдо я сделался дровоносом, и мы делили с
княжной Ом лачугу, которая мало чем была лучше открытой дороги в зимнюю
стужу. Но Чонг-Монг-Джу разыскал меня и здесь, меня отдубасили, надели
колодки на несколько дней и выгнали затем на дорогу. Это было суровой зимой
-- в эту зиму Фандерфоот замерз на улицах Кейджо.
В Пьенг-Янге я сделался водоносом. Этот древний город, стены которого
стояли еще во времена царя Давида, считался своими жителями чем-то вроде
челна, и рыть колодцы внутри его стен значило потопить город. И потому
каждый день тысячи кули с кувшинами на плечах брели к реке и обратно. Я стал
одним из них, но Чонг-МонгДжу разыскал меня. Меня избили и снова выгнали на
дорогу.
И это повторялось каждый раз. В далеком Виджу я сделался мясником:
убивал собак публично перед своим ларьком, резал и вешал туши для продажи,
дубил шкуры, распяливал их в грязи, которую месили прохожие своими ногами.
Но Чонг-Монг-Джу разыскал меня.
Я был помощником красильщика в Пионхане, золотоискателем на россыпях
Канг-Вуна, канатным мастером в Чиксане. Я плел соломенные шляпы в Подоке,
собирал сено в Хвансай, а в Мазенно продался на рисовую плантацию и
трудился, согнувшись в три погибели, на сырых полях, получая плату меньше
последнего кули. И не было такого места или времени, чтобы длинная рука
ЧонгМонг-Джу не достала меня, не покарала и не швырнула нищим на дорогу!
Мы с княжной Ом после двухлетних поисков нашли однажды
один-единственный корешок дикого горького женьшеня -- местные врачи так
высоко ценят этот корень, что на выручку от одного этого корня мы с княжной
Ом могли бы безбедно жить целый год. И когда я стал продавать его, меня
схватили, отняли корень, а потом избили и держали в колодках дольше
обыкновенного.
Везде и повсюду бродячие члены многолюдного цеха разносчиков доносили
обо мне, о всех моих делах и замыслах Чонг-Монг-Джу в Кейджо. Со времени
моего падения я только дважды встретился с Чонг-Монг-Джу лицом к лицу. В
первый раз это было во вьюжную зиму, ночью, на высоких горах Канг-Вуна. За
несколько медяков я купил себе и княжне Ом ночлег в самом грязном и холодном
углу единственной комнаты гостиницы. Мы только собрались было приступить к
нашему скудному ужину из конских бобов и дикого чесноку, сваренного вместе с
мясом быка, наверное, издыхавшего от старости, когда снаружи послышался звон
бронзовых колокольчиков и топот копыт. Дверь отворилась, и вошел
Чонг-Монг-Джу, олицетворение благополучия и власти; он стал стряхивать снег
со своих бесценных монгольских мехов. Тотчас же очистили место для него и
дюжины его спутников -- места было достаточно; но тут его взор упал на
княжну Ом и меня.
-- Вон этих гадов, что в углу, -- вон отсюда! -- скомандовал он.
И его конюхи выгнали нас кнутами на дорогу в снег. Как вы увидите,
спустя много лет нам пришлось еще раз встретиться.
Мне не было спасения. Перейти северную границу мне не позволили. Ни
разу не позволили сесть и в сампан у моря. Цех разносчиков разнес приказ
Чонг-Монг-Джу во все деревни, так что не было ни одной души, которая бы не
знала его. Я был обреченный человек.
Как хорошо я знаю каждую дорогу и горную тропинку Чо-Сена, все его
города и самые маленькие деревушки! Сорок лет скитался я и голодал в
Чо-Сене, и вместе со мной неизменно скиталась и голодала княжна Ом. Чего
только мы не ели с голодухи! Гнилые отбросы собачьего мяса, которые в
насмешку бросали нам мясники; минари -- водяной кресс, растущий в вонючих,
застоявшихся лужах; гнилой кимчи, от которого тошнило последнего мужика.
Увы, я крал даже кости у собак, ползая по большим дорогам, ища оброненных
зернышек риса, и в морозные ночи воровал у лошадей их дымящуюся бобовую
похлебку!
Не нужно удивляться тому, что я не умер. У меня были две поддержки:
первая -- княжна Ом, не покидавшая меня, вторая -- полная уверенность, что
наступит момент, когда мои пальцы сомкнутся на глотке ЧонгМонг-Джу!
Вечно прогоняемые от городских ворот Кейджо, где я подстерегал
Чонг-Монг-Джу, мы скитались годами и десятилетиями по всему Чо-Сену, и
каждый вершок дороги был теперь знаком нашим сандалиям. Наша история
известна была всей стране. Не было человека, который не знал бы нас и
наложенной на нас кары. Кули и разносчики выкрикивали оскорбления по адресу
княжны Ом, и им не раз случалось испытать цепкость моих пальцев, впивавшихся
в узел на их темени, и изведать крепость моих кулаков на их скулах. А
старухи в далеких горных деревнях, глядя на нищую женщину, шедшую рядом со
мной, на погибшую княжну Ом, вздыхали и качали головой, и глаза их
затуманивались слезами. Встречались молодые женщины, с состраданием
смотревшие на мои широкие плечи, на мои синие глаза и длинные желтые волосы
-- на того, кто некогда был принцем Кориу и владыкой провинции. И целые
толпы ребятишек бежали по пятам за нами, с криками и издевательствами,
осыпая нас грязной руганью.
За Ялу на ширину сорока миль тянулась полоса пустыни, составлявшая
северную границу и шедшая от моря до моря. В действительности это не была
пустыня -- ее сделала пустыней политика изоляции, которую проводил Чо-Сен.
На этой сорокамильной полосе уничтожены были все хутора, деревни и города.
Это была "ничья страна", кишевшая дикими зверями и пересекавшаяся только
отрядами конных тигровых охотников, которые обязаны были убивать всякого
человека, встреченного в этой полосе. Этим путем мы не могли бежать, как не
могли бежать и морем.
Годы проходили, мои семь матросов, товарищи по несчастью, чаще
появлялись в Фузане. Он находится на юго-восточном берегу, где климат мягче.
Но гораздо важнее климата было то, что это ближайший во всем ЧоСене путь к
Японии. Через узкий пролив, которого, однако, нельзя было окинуть даже
взглядом, лежала наша надежда на спасение. Из Японии, куда, несомненно,
время от времени приходили суда из Европы. Как сейчас вижу перед собой на
утесах Фузана этих семерых людей, жадно глядящих на море, по которому им не
суждено было больше плавать.
Временами показывались японские джонки, но ни разу мы не заметили
знакомого паруса старой Европы. Проходили годы, а семь матросов и я с
княжной Ом, вступившие уже из пожилого возраста в старость, все чаще
направляли свои стопы к Фузану. И по мере того как уходили годы, то один, то
другой отсутствовал на обычном месте. Первым умер Ганс Амден. Сообщил нам об
этом Якоб Бринкнер, его спутник по скитаниям. Якоб Бринкнер был последним из
семерки и умер почти девяноста лет, пережив Тромпа всего двумя годами. Я
хорошо помню этих двоих под конец: изможденные, ослабевшие. в отрепьях
нищих, с чашками для сбора милостыни, они рассказывали старинные сказки
детски-пискливыми голосами. Тромп без конца повторял их, как Иоганнес
Маартенс и матросы ограбили царей горы Табонга, лежавших набальзамированными
в золотых гробах и имевших справа и слева от себя по набальзамированной
девушке; и как эти древние цари рассыпались прахом за один час, в течение
которого матросы с проклятием тащили гробы.
Старый Иоганнес Маартенс, наверное, удрал бы через Желтое море со своей
добычей, если 6ы на другой день не случился туман, который погубил его. О,
этот проклятый туман! О нем сложили песню, которую я с ненавистью слушал по
всему Чо-Сену ежедневно вплоть до последнего дня. Вот две строчки из нее:
Густой туман западных людей
Висит над вершиной Веана.
Сорок лет я жил нищим в Чо-Сене. Один я остался в живых из четырнадцати
человек, выброшенных бурей на берег. Из такого же крепкого материала была
сложена и княжна Ом, и мы старились вместе. Она была теперь маленькая,
сморщенная, беззубая старушка; но все же это было чудо, а не женщина, и
сердце мое хранило ей верность до конца. Я же для семидесятилетнего старика
сохранил еще много силы. Лицо мое сморщилось, желтые волосы побелели,
широкие плечи согнулись. Но все же в моих мускулах осталась матросская сила.
Только благодаря ей я и оказался в состоянии сделать то, о чем сейчас
расскажу. В одно весеннее утро на склонах Фузана, у большой дороги, мы с
княжной Ом сели погреться на солнышке. Мы были в нищенских лохмотьях,
покрытых пылью, но все же я весело смеялся какой-то шутке княжны Ом, -- как
на нас пала тень. Это была тень от больших носилок Чонг-Монг-Джу, несомых
восемью кули, с верховыми спереди и позади и пышной свитой по бокам.
Два императора, гражданская война, голод и дюжина дворцовых революций
прошли и исчезли; а Чонг-МонгДжу остался и держал в своих руках власть над
Кейджо. В это весеннее утро на склонах Фузана ему было, вероятно, около
восьмидесяти лет, когда он подал своей парализованной рукой знак остановить
носилки, чтобы поглядеть на тех, кого он так долго истязал.
-- О, царь мой! -- пробормотала мне княжна Ом. Потом визгливо стала
просить милостыню у Чонг-МонгДжу, сделав вид, что не узнает его.
Я понял ее мысль. Не лелеяли ли мы ее все сорок лет? И момент
исполнения настал наконец. Поэтому я сделал вид, что не узнал своего врага,
и, напустив на себя вид впавшего в идиотизм старца, я пополз по пыли к его
носилкам, с визгом прося милостыню.
Свита отогнала бы меня прочь, но Чонг-Монг-Джу остановил своих слуг
дребезжащим голосом. Он оперся на трясущийся локоть, а другой трясущейся
рукой раздвинул занавески. Его сморщенное старческое лицо исказилось
гримасой восторга, когда он взглянул на нас.
-- О, мой царь, -- говорила княжна Ом, нищенски причитая; и я знал, что
вся ее бесконечно испытанная любовь и вера в мой замысел были вложены в эти
причитания.
И в это мгновение во мне поднялся багровый гнев. Неудивительно, что я
так и затрясся в усилиях овладеть собою. К счастью, они приняли эту дрожь за
старческую слабость. Я протянул мою медную чашку для сбора милостыни, еще
жалобнее завизжал и закрыл глаза, чтобы скрыть синий огонь, который, без
сомнения, пылал в них, а тем временем рассчитывал расстояние и силу для
своего прыжка.
И тут меня захлестнуло багровым пламенем. Раздался треск занавесок и
падающих шестов, раздались крики приближенных -- и мои пальцы сомкнулись на
глотке Чонг-Монг-Джу! Носилки опрокинулись, я перестал сознавать, что со
мной, но пальцы мои не разжимались.
Среди подушек, шестов и занавесей первые удары телохранителей почти не
чувствовались мной. Но вскоре подоспели верховые, град ударов рукоятками
бичей посыпался на мою голову, и множество рук схватили и терзали меня. У
меня кружилась голова, но я не потерял сознания и с чувством блаженства все
крепче стискивал своими старыми пальцами тощую, морщинистую, старую шею,
которую так долго искал. Град ударов продолжал сыпаться на мою голову, и в
мозгу моем быстро пронеслась мысль, что я похож на бульдога, сомкнувшего
челюсти. Чонг-Монг-Джу не ушел от меня, и я знаю, что он был мертв еще до
наступления темноты, в которую наконец погрузился и я на склонах Фузана у
Желтого моря.
Смотритель Этертон, когда думает обо мне, то едва ли испытывает при
этом чувство гордости. Я показал ему, что такое дух, я укротил его моим
собственным духом, неуязвимым, торжествующим, победившим все его попытки.
Вот я сижу в Фольсоме, в Коридоре Убийц, ожидая казни; смотритель Этертон
все еще занимает свое положение и царит над Сан-Квэнтином и над всеми
проклятыми душами, томящимися в его стенах; но в глубине души он знает, что
я выше его.
Тщетно пытался смотритель Этертон сломить мой дух. Без сомнения, были
моменты, когда он обрадовался бы, если бы я умер в смирительной куртке.
Пытка продолжалась. Как он мне сказал, и притом не раз, альтернатива
оставалась все та же: динамит или "пеленки"!
Капитан Джэми поседел в тюремных ужасах, и все же наступил момент,
когда он не выдержал нервного напряжения, которому я подвергал его и прочих
палачей. Он пришел в такое отчаяние, что осмелился прекословить смотрителю и
объявил, что умывает руки в этом деле. С этого дня и до конца моей пытки
ноги его не было в моей одиночке.
Наступило время, когда и смотритель Этертон струсил, хотя все еще
старался вырвать у меня признание, где я спрятал несуществующий динамит. В
конце концов его сильно смутил Джек Оппенгеймер. Оппенгеймер был бесстрашный
и прямодушный малый. Он перенес весь ад тюрьмы и обладал такой силой воли,
что никого из палачей не боялся. Моррель выстукал мне подробный отчет об
инциденте. Я в эту пору лежал без сознания в смирительной рубашке.
-- Смотритель Этертон, -- говорил Оппенгеймер, -- ты откусил больше,
чем можешь прожевать! Убить одного Стэндинга мало. Надо убить трех человек,
ибо если ты убьешь его, то рано или поздно Моррель и я расскажем об этом, и
то, что ты сделал, станет известно из конца в конец Калифорнии. Ты выбирай:
либо оставь в покое Стэндинга, либо убей нас всех троих. Стэндинг тебя не
боится, не боюсь тебя и я, не боится и Моррель. Ты трусливая вонючка, и у
тебя кишка тонка сделать грязное мясниково дело, которое ты задумал!
За это Оппенгеймер получил сто часов смирительной куртки, а когда его
развязали, он плюнул в рожу смотрителю и получил еще сто часов подряд. Когда
его на этот раз развязали, смотритель благоразумно не показывался в
одиночке. Что слова Оппенгеймера потрясли его, в этом не может быть
сомнения.
Но настоящим сатаной оказался доктор Джексон; для него я был новинкой,
и ему любопытно было узнать, сколько могу я выдержать, прежде чем сломлюсь.
-- Он может выдержать и двадцать дней подряд! -- объявил он смотрителю
в моем присутствии.
-- Какой вы консерватор, -- вмешался я. -- Я могу выдержать сорок дней.
Да что там! Так, как вы меня стягиваете, я могу выдержать и сто дней! -- И,
вспомнив, как я сорок лет терпел, пока мне представился случай впиться
пальцами в глотку Чонг-Монг-Джу, я добавил: -- Вы -- тюремные щенки, вы не
знаете, что такое человек! Вы думаете, что человек создан по вашему
трусливому подобию. Смотрите -- я человек! А вы -- дохлецы! Я выше вас. Вы
не можете заставить меня запищать. Вам это кажется удивительным только
потому, что вам известно, что сами вы давно бы запищали!
О, я ругал их, называя их жабьими сынами, чертовыми судомойками, грязью
выгребной ямы, ибо я был выше их, я был в н е их! Они были рабы, а я был
свободный дух. Здесь, в одиночке, лежало только мое тело, а не я. Я покидал
тело и мог свободно скитаться в пространстве, в то время как мое бедное
тело, даже не страдая, лежало, мертвое "малой смертью", в смирительной
рубашке.
О многих своих приключениях я простучал своим двум товарищам. Моррель
поверил мне, потому что он сам испытал "малую смерть". Но Оппенгеймер, хотя
и был захвачен моими рассказами, остался скептиком до конца. Он наивно, а
порой и очень трогательно сожалел, что я посвятил свою жизнь агрономии,
вместо того чтобы писать романы.
-- Да послушай же, -- убеждал я его, -- разве я сам что-нибудь знаю об
этом Чо-Сене? Я соображаю только, что это нынешняя Корея, и больше ничего!
Настолько-то я читал! Например, как могу я из опыта моей нынешней жизни
знать о "кимчи"? А я знаю кимчи! Это -- род кислой капусты. Когда она
испорчена, вонь от нее стоит до небес! Говорят тебе, когда я был Адамом
Стрэнгом, я ел кимчи тысячу раз. Мне хорошо знаком хороший кимчи, плохой
кимчи, гнилой кимчи. Я знаю, что наилучший кимчи готовят женщины в Осана.
Ну, откуда я знаю это? Этого нет в содержании моего ума, моей души, души
Дэрреля Стэндинга, это я взял из содержания души Адама Стрэнга, который
через целый ряд рождений и смертей завещал свои переживания мне, Дэррелю
Стэндингу, вместе с опытом разнообразных временных жизней, прожитых в
промежутки. Неужели ты не понимаешь, Джек? Вот как люди зачинаются,
вырастают, как рождается дух!
-- Брось это, -- ответил он мне быстрым повелительным стуком, который я
так хорошо знал. -- Ты теперь послушай, что скажут старшие! Я Джек
Оппенгеймер. Я всегда был Джеком Оппенгеймером. В моем теле нет никого
другого. То, что я знаю, я знаю как Джек Оппенгеймер. Что же я знаю? Я одно
скажу тебе! Я знаю кимчи. Кимчи -- род кислой капусты, изготовляемой в
стране, которую называли Чо-Сен. Женщины в Осана делают самый лучший кимчи,
а когда кимчи испорчен, он воняет до небес. Ты помалкивай, Эд! Погоди, пока
я разделаюсь с профессором! Так вот, профессор. Откуда я знаю всю эту
дребедень о кимчи? Ее нет в содержании моей души.
-- Нет, есть! -- ликовал я. -- Я вложил ее в тебя!
-- Отлично, дружище. Но кто вложил это в твою голову?
-- Адам Стрэнг.
-- Ни в какой степени! Адам Стрэнг -- выдумка; ты это где-нибудь
вычитал.
-- Никогда! -- клялся я. -- О Корее я только и читал, что в военных
корреспонденциях во время японско-русской войны.
-- А ты помнишь все, что читал? -- спрашивал Оппенгеймер.
-- Нет.
-- Что-нибудь забыл?
-- Да, но...
-- Довольно, благодарю вас! -- перебил он на манер адвоката, который
обрывает перекрестный допрос, выудив у свидетеля фатальное признание.
Не было возможности убедить Оппенгеймера в моей искренности! Он
настаивал, что я тут же все выдумываю, хотя восхищался моей манерой
"продолжение следует"; в промежутках, когда я отдыхал от смирительной
куртки, он постоянно просил меня рассказать ему еще несколько глав.
-- Ну, профессор, выкладывай свою дребедень, -- перебивал он
метафизические беседы между мной и Моррелем, -- и расскажи еще что-нибудь о
ки-санг и матросах! Расскажи, кстати, что сталось с принцессой Ом, когда ее
головорез супруг задушил старика скареда и издох!
Сколько раз говорил я, что форма погибает! Я повторю это: форма
погибает. Материя не имеет памяти. Только дух помнит. Вот как здесь, в
тюремной камере, спустя столетия, все, что я знал о принцессе Ом и
Чонг-МонгДжу, держалось в моей душе, от меня перешло в душу Джека
Оппенгеймера, а от него вернулось ко мне на жаргоне Запада. А теперь я
сообщил все это вашей душе, мой читатель. Попробуйте это выжечь из вашей
души, вы не сможете! Сколько вы ни будете жить, то, что я вам сказал, будет
при вас. Душа? Только то и есть прочного, что душа! Материя, вещество
изменяются, кристаллизуются, плавятся, и формы не повторяются. Формы
разлагаются в вечное небытие, из которого нет возврата. Форма есть видение,
она проходит, как прошли физические формы принцессы Ом и Чонг-Монг-Джу. Но
память о них остается, всегда будет оставаться, покуда существует дух; а дух
неразрушим.
-- Одно только ясно, -- заметил Оппенгеймер, выслушав мои рассказы о
приключениях Адама Стрэнга, -- именно что ты больше шатался по китайским
кабакам и притонам, чем полагается респектабельному профессору университета.
Зло заразительно, знаешь! Я полагаю, это и привело тебя сюда!
Прежде чем вернуться к моим приключениям, я должен рассказать об одном
замечательном инциденте, который произошел в одиночке. Замечателен он в двух
отношениях: во-первых, он показывает изумительные умственные способности
этого бродяги Джека Оппенгеймера; а во-вторых -- доказывает действительность
моих переживаний во время оцепенения "в пеленках".
-- Скажи, профессор, -- простучал мне как-то Оппенгеймер. -- Когда ты
рассказываешь эту историю об Адаме Стрэнге, то я вспоминаю, что ты раз играл
в шахматы с братом императора. Похожи ли эти шахматы на наши?
Разумеется, мне пришлось ответить, что я не знаю, что я не помню
деталей, когда возвращаюсь в свое нормальное состояние, и разумеется, он
добродушно засмеялся, сказав, что я его морочу. Но я отчетливо помнил, что в
бытность Адамом Стрэнгом я часто играл в шахматы. Беда была в том, что когда
я приходил в себя в одиночке, то несущественные и случайные детали обычно
испарялись из моей памяти.
Не нужно забывать, что удобства ради я собрал мои предшествовавшие и
повторные переживания в смирительной рубашке в связные, последовательные
рассказы. Я никогда не знал заранее, куда унесут меня мои скитания во
времени. Например, я раз двадцать возвращался к Джессу Фэнчеру и кругу
повозок на Горных Лугах. За десять дней лежания в смирительной куртке я
вновь и вновь возвращался к той или иной жизни. часто перепрыгивал через
целый ряд жизней, которые переживал в другие моменты, вплоть до
доисторических времен.
И вот я решил, когда вернусь в следующий раз из бытия Адама Стрэнга, то
немедленно по возвращении ко мне сознания сосредоточусь на всех видениях и
воспоминаниях об игре в шахматы. И как назло, целый месяц мне пришлось
терпеть насмешки Оппенгеймера, пока это случилось. Но как только меня
выпустили из смирительной куртки и кровообращение мое восстановилось, я
тотчас же начал выстукивать свои сообщения.
Далее, я научил Оппенгеймера игре в шахматы, в которые Адам Стрэнг
играл в Чо-Сене несколькими столетиями раньше. Она отличалась от западной
игры, но в основе своей была такая же и, должно быть, вела свое
происхождение тоже из Индии. Вместо наших шестидесяти четырех квадратов
здесь был восемьдесят один квадрат. У нас на стороне восемь пешек, у них
было девять; и хотя перемещение фигур ограничено, но принцип их перемещения
другой.
В игре Чо-Сена вместо наших шестнадцати фигур было двадцать, и
располагались они тремя рядами, вместо двух. Так, в первом ряду стояло
девять пешек; в среднем ряду стояли две фигуры вроде наших слонов, в
последнем ряду посередине стоял король, имея с каждого боку "золотую
монету", "серебряную монету", "рыцаря" и "копье". Как видим, в шахматах
Чо-Сена нет королевы. Другое важное отличие заключается в том, что взятая
фигура или пешка не убирается с шахматной доски. Она становится
собственностью захватчика, и он играет ею.
Так вот, я научил Оппенгеймера этой игре -- куда более трудной, чем
наша, если принять в соображение постоянный захват и отдачу фигур и пешек.
Одиночные камеры не отапливаются. Было бы упущением избавить каторжника хоть
от какой-нибудь стихийной невзгоды! Увлекаясь шахматами Чо-Сена, мы с
Оппенгеймером незаметно провели много морозных дней в эту и следующую зиму.
Но я никак не мог убедить его, что я действительно пронес эту игру в
Сан-Квэнтине через столетия. Он настаивал, что я о ней где-нибудь читал,
хотя забыл, где именно, но содержание чтения осталось в душе моей и теперь
проявляется в бреднях. Так он бил меня моей собственной психологией.
-- И что может помешать тебе выдумать все это здесь, в одиночке? --
была его следующая гипотеза. -- Разве Эд не изобрел перестукивания и разве
мы не усовершенствовали его? Что, попался? Ты это выдумал; знаешь -- возьми
патент! Я помню, когда я был ночным посыльным, то один парень изобрел глупую
игру, которая называется "свиньи в траве", и зашиб на ней миллион!
-- Это нельзя патентовать, -- отвечал я. -- Без сомнения, азиаты играют
в нее тысячи лет. Неужели ты не веришь, когда я говорю тебе, что я ее не
выдумал?
-- Значит, ты читал о ней или видел, как китайцы играют в нее в этих
кабаках, в которых ты всегда околачивался! -- было его последнее слово.
Впрочем, последнее слово осталось за мной. Здесь, в Фольсоме, имеется
убийца-японец -- или, вернее, был, потому что на прошлой неделе его казнили.
Я с ним говорил об этом; и игра, в которую играл Адам Стрэнг и которой я
научил Оппенгеймера, была очень похожа на японскую игру. Между этими играми
гораздо более сходства, чем у каждой из них с западными шахматами.
Вы помните, читатель, начало моего повествования -- как я был маленьким
мальчиком на ферме в Миннесоте, рассматривал фотографии Святой Земли, и
узнавал места, и указывал перемены, происшедшие в них. Вы помните также
описанную мной сцену исцеления прокаженных, которой я был свидетелем и о
которой сказал миссионеру, что я помню себя взрослым человеком с большим
мечом, сидящим верхом на коне и наблюдающим все происходившее передо мной.
Этот инцидент моего детства был просто "туманным облачком славы" по
выражению Вордсворта. "Не в полноте забвенья" пришел я, маленький Дэррель
Стэндинг, в этот мир! Но эти воспоминания о многих местах и моментах,
всплывшие на поверхности моего собственного сознания, скоро поблекли. Как
это бывает со всеми детьми, мрак телесной темницы сомкнулся надо мной, и я
не помнил уже моего славного прошлого. У каждого человека, рожденного
женщиной, есть такое же славное прошлое, как у меня. Но очень немногие люди,
рожденные женщиной, имели счастье страдать годы в одиночке, в смирительной
рубашке. Это счастье выпало мне на долю. Я получил возможность многое
вспомнить, и, между прочим, то время, когда я сидел на коне и видел
исцеление прокаженных.
Меня звали тогда Рагнар Лодброг. Я действительно был рослый мужчина. Я
на полголовы был выше римлян моего легиона. Но это было позднее, после моего
путешествия из Александрии в Иерусалим, когда я получил начальство над
легионом. Шумная была жизнь! Сколько бы лет я ни писал, сколько бы книг ни
сочинял, я не мог бы описать всего. Поэтому я сокращу повествование и лишь
слегка коснусь начала этих событий.
Передо мной все рисуется ясно и четко, за исключением начала. Матери
моей я не знал. Мне рассказывали, что я родился в бурю на острогрудом
корабле, в северном море, от женщины-полонянки, после морского сражения и
разгрома прибрежной крепости. Имени моей матери я не знал. Она умерла в
разгар бури. Она была родом северная датчанка -- так мне рассказывал старый
Лингорд. Он рассказал мне многое из того, чего я не мог помнить, но вообще
рассказывал мало. Морское сражение и штурм, бой, грабежи, дымные факелы,
бегство кораблей в открытое море, чтобы не разбиться о скалы, отчаянная,
убийственная борьба с яростными бушующими волнами -- кто мог в это время
заметить иноземную женщину, рождающую ребенка и одной ногой стоящую в гробу?
Многие умерли. Люди обращали внимание на живых женщин, а не на мертвых.
Отчетливо врезались в мою детскую память события, немедленно
последовавшие после моего рождения, и те, о которых мне рассказывал старый
Лингорд. Лингорд был слишком стар для работы, но Лингорд был врачом,
могильщиком и повивальной бабкой пленников, связанных на открытой палубе. Я
родился в бурю, под соленой пеной сердитых волн.
Немного часов прошло после моего рождения, когда Тостиг Лодброг впервые
заметил меня. Ему принадлежал узкогрудый корабль и семь других узкогрудых
кораблей, проделавших набег, увозивших награбленное и победивших бурю.
Тостига Лодброга звали также Муспеллем, что означает "Пылающий", ибо он
всегда пылал гневом. Он был храбр и жесток, и его огромная грудь скрывала
сердце, не знавшее пощады. Еще не высох на нем пот сражения, как он,
опершись на свою секиру, съел сердце Нгруна после битвы при Гасфарте. В
припадке безумного гнева он продал своего сына Гарульфа в рабство ютам. Я
помню, как он под прокопченными балками Бруннанбура требовал себе череп
Гутлафа, чтобы пить из него вино. Он не пил приправленного пряностями вина
из другого кубка, кроме этого черепа Гутлафа.
И вот к нему, как только прошла буря, старый Лингорд принес меня по
шатающейся палубе. Прошло всего несколько часов с минуты моего рождения, и я
был завернут в волчью шкуру, пропитанную морской солью.
Будучи рожден прежде времени, я был страшно мал.
-- Ого, карлик! -- вскрикнул Тостиг, оторвав от губ полуосушенный
кувшин с медом, чтобы посмотреть на меня.
День был холодный, но он вынул меня из волчьей шкуры и, зажав мою ножку
между большим и указательным пальцами, болтал мною в воздухе под холодным
ветром.
-- Козявка! -- грохотал он. -- Креветка! Морская вошь! -- И он начал
стискивать меня своими огромными указательным и большим пальцами, из которых
каждый, по утверждению Лингорда, был более толст, чем мои ноги.
Но тут его осенила другая капризная мысль.
-- Малец хочет пить! Пусть напьется!
И он ткнул меня прямо головой в кувшин с медом. Наверное, я утонул бы в
этом напитке мужчин, -- я, не прикасавшийся к материнской груди за короткое
время своей жизни, -- если бы не Лингорд. Но когда Лингорд вытянул меня из
кувшина, Тостиг Лодброг толкнул его в бешеном гневе. Мы покатились по
палубе, и огромные волкодавы, взятые в плен в бою с северными датчанами,
бросились на нас.
-- Го, го! -- грохотал Тостиг Лодброг, в то время как собаки терзали
меня в моей волчьей шкуре и старика.
Но Лингорд вскочил на ноги и спас меня, оставив в добычу собакам волчью
шкуру.
Тостиг Лодброг выпил мед и уставился на меня; Лингорд не стал просить
пощады, отлично зная, что пощады не будет.
-- Мальчик с пальчик! -- вымолвил наконец Тостиг. -- Клянусь Одином,
женщины северных датчан дрянное племя. Они рожают карликов, а не мужчин. На
кой черт эта дрянь? Из него никогда не будет мужчины! Послушай Лингорд,
вырасти из него виночерпия для Бруннанбура. И смотри, чтобы собаки
как-нибудь не слопали его по ошибке, приняв за кусок со стола!
Я рос, не зная женского ухода. Старый Лингорд был мне повивальной
бабкой и нянькой, детской мне служили шаткие палубы, и убаюкивал меня топот
людей в сражение или бурю. Как я пережил дни младенчества, одному Богу
известно! Должно быть, я родился железным в те железные дни, ибо я выжил и
опроверг предсказания Тостига насчет карлика! Я быстро перерос все кубки и
чаши, и Тостигу уже трудно было бы утопить меня в своем кувшине для меда. А
он очень любил эту забаву. Он ее считал остроумной!
Первое, что рисуется в моих воспоминаниях, -- это острогрудый корабль
Тостига Лодброга, его бойцы и зал для пиршеств в Бруннанбуре, в то время как
наши суда лежали у берега замерзшего фиорда. Меня сделали там виночерпием, и
я помню себя ребенком, появляющимся с черепом Гутлафа, доверху налитым
вином. Я подавал его Тостигу, который сидел на главном месте за столом, и
голос его наполнял все здание до потолочных балок. Они положительно были
какие-то бесноватые, эти люди, но мне эта жизнь казалась нормальной, ибо я
не знал другой. Они быстро приходили в ярость и начинали драться. Драки их
носили жестокий характер; они и ели и пили, как звери; и я рос, как они. Да
и как оно могло быть иначе, раз я подавал вино пьяным крикунам и скальдам,
воспевавшим Гиалля, и смелого Хогни, и золото Нифлунга, горланившим песни о
том, как Гудрун отомстил Атли, дав ему поесть сердца своих и его детей!
О, я тоже знавал моменты гнева, воспитанный в этой школе! Мне было
всего восемь лет, когда я показал зубы на попойке хозяев Бруннанбура с
ютами, которые приплыли в качестве друзей с Ярлом Агардом на его трех
длинных кораблях. Я стоял у плеча Тостига Лодброга, держа в руках череп
Гутлафа, дымившийся горячим пряным вином. Я дожидался, пока Тостиг кончит
свои бредни и ругань по адресу северных датчан. Он бесновался, а я ждал,
пока он не вздумал оскорбить женщину, северную датчанку. Тут я вспомнил, что
моей матерью была северная датчанка, перед глазами у меня все побагровело от
гнева, и я запустил в него черепом Гутлафа, так что он чуть не потонул в
вине: вино ослепило и обожгло его, И когда он, ничего не видя, зашатался,
размахивая в воздухе своими огромными кулаками, я трижды ударил его коротким
кинжалом в живот, бедро и ягодицу -- выше я не мог достать.
Ярл Агард выхватил свой клинок, и юты присоединились к нему с криками:
-- Медвежонок, медвежонок! Клянусь Одином, пусть медвежонок дерется!
И вот под крышей Бруннанбура маленький виночерпий северных датчан стал
драться с могучим Лодброгом. Когда он отбросил меня одним ударом и я
отлетел, ошеломленный и бездыханный, на половину длины огромного стола,
опрокидывая кубки и кружки, Лодброг крикнул:
-- Вон его! Бросьте его собакам!
Но Ярл не захотел этого; похлопав Лодброга по плечу, он попросил
подарить меня ему в знак дружбы.
Когда лед на фиорде растаял, я поплыл на юг на корабле Ярла Агарда. Я
сделался его виночерпием и оруженосцем и за неимением другого имени был
назван Рагнаром Лодброгом. Страна Агарда граничила со страной фризов -- это
была унылая равнина, туманная и топкая. Я прожил с ним три года, до самой
его смерти, неизменно следуя за ним -- на охоте ли за болотными волками, на
попойках ли в огромном зале, где Эльгива, его жена, часто сидела со своими
женщинами. Я поплыл с Агардом в набег на юг, вдоль берегов Франции, и здесь
я узнал, что чем южнее, тем и природа, и женщина теплее и мягче.
Агарда мы привезли раненым и умирающим. Мы сожгли его тело на огромном
костре и вместе с его трупом его молодую жену Эльгиву в золотых латах и
поющую. Вместе с нею было сожжено много ее рабов в золотых ошейниках, девять
рабынь, а также восемь рабов -- англов благородного происхождения, плененных
в бою. Были заживо сожжены сокола и с ними два сокольничьих.
Но меня, виночерпия Рагнара Лодброга, не сожгли. Мне было одиннадцать
лет. Я был бесстрашен и никогда еще не носил на своем теле тканой одежды. И
когда разгорелось пламя, и Эльгива запела свою смертную песню, а рабы и
рабыни воплями изъявили свое нежелание умирать, я разорвал свои узы,
спрыгнул с костра и с золотым ошейником, знаком моего рабства, побежал в
болото, спасаясь от спущенных на меня собак.
В болотах жили дикие бесстрашные люди, беглые рабы и отверженцы, на
которых охотились ради забавы, как охотятся на волков.
Три года я не знал ни крова, ни огня, закалился на морозе и украл бы
женщину у ютов, если бы фризы после двухдневной охоты не накрыли меня. Они
сняли с меня золотой ошейник и продали меня за двух гончих Эдви, саксонцу,
который надел на меня железный ошейник, а потом преподнес меня и пятерых
других рабов в подарок Этелю, родом из восточных англов. Я был рабом и
подневольным бойцом, пока, заблудившись в неудачном набеге на восток, не был
продан гуннам, я жил у них свинопасом; потом бежал на юг в огромные леса;
здесь меня приняли, как свободного, в свою среду тевтонцы, -- их было много,
но жили они небольшими кланами и двигались к югу, удаляясь от наступавших
гуннов.
А с юга в дремучие леса пришли римляне, все до одного бойцы, погнавшие
нас обратно к гуннам. Это было столкновение народов вследствие недостатка
места; и мы показали римлянам, что такое бой, хотя, правду сказать, и сами
от них научились многому.
Но я не мог забыть солнце южных краев, которое я видел с корабля
Агарда, и рок судил мне, захваченному в южный поток тевтонцев, попасться в
плен к римлянам. Меня отвезли к морю, которого я не видел с той поры, как
заблудился, уйдя от восточных англов. Меня сделали гребцом на галерах, и
подневольным гребцом я прибыл наконец в Рим.
Долго было бы рассказывать, как я сделался вольноотпущенником,
гражданином и воином, и как на тридцатом году жизни я отправился морем в
Александрию, а из Александрии в Иерусалим. Но мне необходимо было
рассказать, что было со мной после того, как я получил крещение в кувшине с
медом у Тостига Лодброга, иначе вы не знали бы, что за человек въехал в
Яффские ворота, привлекая к себе взоры толпы.
И было на что посмотреть! Они были маленькие, тонкокостые люди -- и
римляне, и евреи, -- и блондинов, вроде меня, им никогда не случалось
видеть. Они расступались передо мною в узких уличках и стояли по сторонам,
глазея на желтоволосого человека с севера или бог знает откуда.
В сущности, войска Пилата все были вспомогательными войсками, если не
считать горсточки римлян во дворце и двух десятков римлян, приехавших со
мной. Я нередко убеждался в том, что вспомогательные войска -- хорошие
солдаты, но они были не всегда надежны, в отличие от римлян. Последние были
недурные бойцы и всегда боролись одинаково, тогда как мы, северяне,
сражались только в минуту настроения. Римлянин постоянен характером и потому
надежен.
В вечер моего прибытия я встретил у Пилата одну женщину из дворца
Антипы -- подругу жены Пилата. Я буду называть ее Мириам, ибо под этим
именем я ее полюбил. Если бы необходимо было описать прелесть женщины, то я
описал бы Мириам. Но как описать душевное волнение? Прелесть женщины
неизъяснима словами. Она не имеет ничего общего с познаванием, завершающимся
рассудочным процессом, ибо возникает она из ощущения и завершается эмоцией,
которая в конце концов представляет собой не что иное, как сверхощущение.
Вообще говоря, всякая женщина представляет прелесть для мужчины. Когда
эта прелесть получает личный характер, то мы называем ее любовью. Мириам
обладала этой личной прелестью для меня. Действительно, я был соучастником
ее прелести! Половину ее составляла моя собственная мужественность, которая
затрепетала, встретив распростертые объятия, и сделала Мириам желанной для
меня.
Мириам была величественная женщина. Я умышленно употребляю это слово.
Она была прекрасно сложена, имела властную осанку и ростом была выше
большинства еврейских женщин. На общественной лестнице она была
аристократкой, но она была аристократкой и по натуре. Все ее поступки были
великодушны и благородны. Она была умна и остроумна, а главное --
женственна. Как вы увидите, эта-то женственность в конце концов погубила ее
и меня. Брюнетка с оливковой кожей, с овальным лицом, с иссиня-черными
волосами и глазами точно две черные бездны. Я никогда еще не встречал более
ярко выраженных типов блондина и брюнетки, как мы с нею.
Мы тотчас же познакомились. Ни размышлениям, ни ожиданиям, ни
колебаниям не было места. Она была моей с первой минуты, как я взглянул на
нее. И так же хорошо она поняла, что я принадлежу ей. Я устремился к ней.
Она приподнялась на ложе, словно ее толкнули ко мне. И наши глаза, голубые и
черные, слились в одном взгляде, пока жена Пилата, тщедушная, усталая
женщина, не засмеялась нервным смехом. И пока я, склоняясь, приветствовал
жену Пилата, мне показалось, что Пилат бросил на Мириам многозначительный
взгляд, словно говоря: "Правда, он такой, как я говорил?" Он знал о моем
предстоящем приезде от Сульпиция Квириния, сирийского легата. Точно так же и
мы с Пилатом знали друг друга еще до того дня, как он отправился наместником
на семитический вулкан в Иерусалим.
Много беседовали мы в этот вечер с Пилатом, который подробно рассказал
мне о положении вещей на местах; казалось, он был одинок, ему хотелось
поделиться своими тревогами с кем-нибудь и даже просить совета. Пилат был
тип солидного римлянина с достаточным воображением, чтобы разумно проводить
железную политику Рима, и нелегко раздражался.
Но в этот вечер ясно было, что он чем-то удручен. Евреи действовали ему
на нервы. У них была слишком вулканическая, судорожная натура. Кроме того,
они были хитры. У римлян прямая, откровенная манера действовать. Евреи
никогда и ни к чему не шли прямо, -- разве что назад, и то когда их толкали
силой. Предоставленные самим себе, они ко всему подходили окружными путями.
Пилат был раздражен тем, что евреи, по его словам, вечно интриговали, чтобы
сделать его, а через него и Рим ответственным за их религиозные раздоры. Мне
было хорошо известно, что Рим не вмешивался в религиозные убеждения
покоренных им народов; но евреи всегда умели запутать любой вопрос и придать
политический характер совершенно не политическим событиям.
Пилат стал подробно рассказывать мне о разнообразных сектах и
фанатических восстаниях и мятежах, то и дело возникавших.
-- Лодброг! -- говорил он. -- Никогда нельзя сказать наперед, что
облачко, поднятое ими, не превратится в грозовую тучу. Я послан сюда
поддерживать порядок и спокойствие. Несмотря на все мои усилия, они
превращают свой край в гнездо шершней! Я бы охотнее согласился управлять
скифами или дикими бриттами, чем этими людьми, вечно волнующимися из-за
вопроса о Боге. Вот и сейчас на севере появился какой-то рыбак,
превратившийся в проповедника и чудотворца; я не удивлюсь, если скоро он
увлечет за собой весь край и добьется того, что меня отзовут в Рим.
Я впервые услышал о человеке, называемом Иисусом, и в ту пору мало
обратил внимания на услышанное. Только впоследствии я вспомнил про него --
когда летнее облачко превратилось в настоящую грозовую тучу.
-- Я наводил справки о нем, -- продолжал Пилат. -- Он не политический
деятель, в этом не может быть сомнения. Но можно быть уверенным, что Каиафа,
а за спиной Каиафы Ханан, сделает из этого рыбака политическую занозу,
которою уколет Рим и погубит меня.
-- О Каиафе я слыхал как о первосвященнике; а кто же такой Ханан? --
спросил я.
-- Это действительный первосвященник; хитрая лисица! -- объяснил Пилат.
-- Каиафа был назначен Валерием Гратом, но Каиафа -- просто тень и рупор
Ханана.
-- Они все не могут забыть тебе этой маленькой истории со скрижалями,
-- поддразнила его Мириам.
Пилат, как человек, задетый за живое, стал подробно рассказывать об
этом эпизоде, который вначале был не больше как эпизод, но впоследствии чуть
не погубил его. Не думая ничего дурного, он пред своим дворцом укрепил два
щита с надписями. Не прошла еще буря, разразившаяся над его головой, как
евреи пожаловались Тиберию, который согласился с ними и сделал выговор
Пилату.
Я очень обрадовался, когда немного позднее получил возможность
беседовать с Мириам. Жена Пилата нашла случай рассказать мне о ней. Мириам
была старинного царского рода. Сестра ее была женой Филиппа, тетрарха
Гаулонитиса и Батанеи. Этот Филипп был братом Антипы, тетрарха Галилеи и
Переи, и оба они были сыновьями Ирода, называемого евреями Великим. Как я
узнал, Мириам бывала запросто при дворах обоих тетрархов, как особа царской
крови. Еще девочкой она была обручена Архелаю, тогдашнему этнарху
Иерусалима. Она обладала порядочным состоянием, так что брак этот не был
принудительным. Вдобавок она была человеком с волей, и без сомнения, ее было
нелегко уговорить в таком вопросе, как замужество.
Должно быть, это носилось в самом воздухе, которым мы дышали, ибо очень
скоро мы с Мириам заговорили о религии. Право, евреи в те дни были такими же
специалистами по части веры, как мы по части драки и попоек! Во все
пребывание мое в этой стране не было минуты, когда у меня не шумело бы в
голове от бесчисленных споров о жизни и смерти, о законе и Боге. Пилат не
верил ни в Бога, ни в черта, ни во что решительно. Для него смерть была
просто мраком непрерывного сна. И все же в бытность в Иерусалиме он нередко
сам заражался пылом религиозных споров. Да что там! Когда я ехал в Идумею,
со мной был мальчишка, жалкое создание, который никак не мог научиться
садиться в седло, -- и однако он мог, как заправский ученый, не переводя
дух, с заката до зари толковать о головоломных разногласиях в учениях всех
раввинов от Шемайи до Гамалиеля!
Но обратимся к Мириам.
-- Ты веришь, что ты бессмертен, -- сказала она мне. -- Так почему же
ты боишься говорить об этом?
-- Зачем же обременять свой ум мыслями о достоверных вещах? -- возразил
я
-- Но разве ты уверен? -- не отставала она. -- Расскажи мне об этом: на
что похоже ваше бессмертие?
И когда я рассказал ей о Нифельгейме и Мусцелле, о рождении гиганта
Ильгира из снежных хлопьев, о корове Андгумбле, о Фенрире и Локи и замерзших
иогунах, -- когда я рассказал ей обо всем этом, и о Торе, и об Одине, и о
нашей Валгалле, она захлопала в ладоши и, сверкая глазами, воскликнула:
-- О ты, варвар! Ты, большой ребенок! Ты, белокурый гигант, порождение
мороза! Ты веришь в старые бабьи сказки. Но вот дух, твой бессмертный дух,
-- куда он отправится, когда тело умрет?
-- Как я уже говорил -- в Валгаллу, -- отвечал я. -- И тело мое тоже
будет там.
-- Будет есть? Пить? Сражаться?
-- И любить, -- добавил я. -- У нас должны быть женщины в небесах,
иначе на что же небеса?
-- Мне не нравятся твои небеса, -- отвечала она. -- Это безумное место,
звериное место, место мороза, бурь и ярости!
-- Ну, а твое-то небо? -- спросил я.
-- Это небо вечного лета, зрелых плодов и цветов!
Я покачал головой и проворчал:
-- Но мне не нравится твое небо. Это скучное, изнеженное место, место
для слабосильных людей, для евнухов и для жирных, плачущих теней мужчины!
Должно быть, мои замечания пленили ее, потому что глаза у нее стали
искриться, а мой взгляд, вероятно, выдавал, что я догадываюсь о ее намерении
подразнить меня.
-- Мое небо, -- продолжала она, -- обитель блаженных!
-- Обитель блаженных -- Валгалла! -- ответил я. -- Подумай, кому
интересны цветы там, где цветы всегда существуют? На моей родине, после того
как спадут железные оковы зимы и солнце прогонит долгую ночь, первые
цветочки, проглянувшие из-под тающего льда, -- источник радости, и мы
смотрим, смотрим на них без конца!
-- А огонь! -- восклицал я. -- Великий славный огонь! Нечего сказать,
хорошо ваше небо, где человек не может даже оценить ревущей печки под
плотной крышей, за которою гудит ветер и носится вьюга!
-- Очень вы простой народ, -- возражала она. -- Вы строите крышу и
разводите огонь в снежном сугробе и называете это небом. У нас на небесах не
приходится прятаться от ветра и снега!
-- Нет, -- отвечал я. -- Мы строим кровли и разводим огонь для того,
чтобы уходить от них на мороз и вьюгу и возвращаться с мороза и вьюги!
Человек создан для борьбы с морозом и бурями! Свой огонь и кровлю создает он
в борьбе -- я знаю! Однажды я три года подряд не знал ни крова, ни огня. Мне
было шестнадцать лет, и я стал мужчиной прежде, чем надел ткань на свое
тело. Я родился в бурю, после битвы, и пеленками моими была волчья шкура.
Посмотри на меня, и ты поймешь, какие люди живут в Валгалле!
И она посмотрела на меня с явным восхищением и воскликнула:
-- О ты, огромный желтый гигант! -- При этом она задумчиво прибавила:
-- Я почти готова жалеть, что в моем раю нет таких мужчин!
-- Мир велик, -- утешил я ее. -- В нем найдется место для многих небес.
Мне кажется, каждому дано небо по желанию его сердца! Настоящая родина
действительно за гробом. Я не сомневаюсь в том, что мне еще придется
покинуть наши пиршественные чертоги, сделать набег на твои солнечные и
полные цветов берега и похитить тебя -- так похитили мою мать...
В промежутках я глядел на нее, а она глядела на меня, не отводя глаз.
Кровь так и кипела во мне. Клянусь Одином, это была н а с т о я щ а я
женщина!
Не знаю, что за этим последовало бы, ибо Пилат, прекративший свою
беседу с Амбивием и с некоторого времени улыбавшийся, нарушил молчание.
-- Раввин, тевтобургский раввин! -- насмешливо проговорил он. -- Новый
проповедник и новое учение пришли в Иерусалим! Пойдут новые несогласия,
мятежи и побиение пророка камнями! Спаси нас боги, ведь это настоящий
сумасшедший дом! Лодброг! Не ожидал я этого от тебя! Ты шумишь и кипятишься,
как любой безумец в пустыне, о том, что с тобой будет после того, как ты
умрешь. Живи только одну жизнь зараз, Лодброг, это избавит тебя от хлопот!
-- Продолжай, Мириам, продолжай! -- восклицала жена Пилата.
Она вошла во время спора с крепко сжатыми руками, и у меня промелькнула
мысль, что она уже отравлена религиозным безумием Иерусалима; во всяком
случае, как я впоследствии узнал, она очень интересовалась религиозными
вопросами. Это была худощавая женщина, словно снедаемая лихорадкой. Мне
казалось, что если она поднимет ладони между мной и светом, так они окажутся
прозрачными.
Она была очень добрая женщина, но страшно нервная и иногда просто
бредила темными знамениями и приметами. Ей даже бывали видения и слышались
голоса. Что касается меня, то у меня не хватило терпения выслушивать этот
вздор. Но она была хорошая женщина, и сердце у нее было не злое.
Я был отправлен с поручением к Тиверию и, к сожалению, очень мало видел
Мириам. По возвращении я узнал, что она уехала в Батанию ко двору Филиппа,
где жила ее сестра. Я опять попал в Иерусалим, и, хотя у меня, собственно,
не было дел у Филиппа, человека слабого и покорного воле римлян, я съездил в
Батанию, надеясь увидеть Мириам.
Потом мне пришлось поехать в Идумею. Я ездил и в Сирию по приказу
Сульпиция Квириния, который в качестве императорского легата хотел через
меня получить из первых рук доклад о положении дел в Иерусалиме. Так,
постоянно путешествуя, я имел случай наблюдать многие странности евреев,
помешанных на Боге.
Это была их особенность. Они не довольствовались тем, чтобы оставлять
эти дела своим священникам, но сами становились священниками и
проповедовали, если находили слушателей. А слушатели всегда находились в
изобилии!
Они бросали свои дела, чтобы шататься по стране нищими, ссориться и
спорить с раввинами и талмудистами в синагогах и на папертях храмов. В
Галилее, мало известном краю, жители которого слыли глупыми, я впервые
пересек след человека, называемого Иисусом. По-видимому, он был плотником, а
после рыбаком, и его товарищи по рыбацкому ремеслу побросали свои невода и
последовали за ним в его бродячей жизни. Некоторые видели в нем пророка, но
большинство утверждало, что он помешанный. Мой жалкий конюх, претендовавший
на обширные знания в Талмуде, посмеивался над Иисусом, величал его царем
нищих, называя его учение эбионизмом -- по его словам, оно сводилось к тому,
что только бедные наследуют царство небесное, богачи же и сильные мира сего
будут вечно гореть в каком-то огненном озере.
Я заметил, что в этой стране каждый называл своего ближнего
сумасшедшим. И в самом деле, на мой взгляд, все они смахивали на помешанных.
Они изгоняли дьявола заклинаниями, исцеляли болезни наложением рук, без
вреда для себя пили смертельные яды и играли с ядовитыми змеями или
утверждали, что могут это делать. Они уходили голодать в пустыню. Но оттуда
появлялись вновь, провозглашая новые учения, собирая вокруг себя толпы,
образуя новые секты, которые в свою очередь раскалывались по вопросам учения
еще на новые секты.
-- Клянусь Одином, -- сказал я раз Пилату, -- немного наших северных
морозов и снега охладило бы им головы! Тут слишком мягкий климат! Вместо
того чтобы строить кровли и охотиться за мясом, они вечно строят учения.
-- И меняют природу Бога, -- угрюмо подтвердил Пилат. -- К черту
учения!
-- Так я и говорю, -- согласился я с ним. -- Если я выберусь из этой
безумной страны с неповрежденным умом, то разрублю пополам всякого, кто
посмеет спросить меня, что случится, после того как я умру!
В жизни я не видел таких смутьянов! Все существующее под солнцем было
для них либо священным, либо нечистым! И эти люди, умевшие вести хитроумные
споры, неспособны были понять римскую идею государства. Все политическое
было религией; все религиозное было политикой. Таким образом, у каждого
римского прокуратора хлопот были полны руки. Римских орлов, римские статуи,
даже щиты, поставленные Пилатом по обету, они считали умышленным
оскорблением своей религии.
Переписи, производимые римлянами, они считали мерзостью. Но перепись
нужно было сделать, ибо она служила основой обложения. Опять беда! Обложение
налогами было преступлением против их закона и Бога. О, этот закон! Это был
не римский закон, это был их закон, который они называли Божиим законом. У
них были зилоты, умертвлявшие всякого, нарушившего этот закон. А для
прокуратора наказать зилота, пойманного на месте преступления, значило
поднять мятеж или восстание.
У этих странных людей все делалось именем Божьим. Среди них были люди,
которых мы называли тауматургами -- чудотворцами. Они творили чудеса, чтобы
доказать свое учение. Мне всегда казалось бессмыслицей доказывать таблицу
умножения посредством превращения жезла в змею или хотя бы в две змеи. А
между тем это проделывали чудотворцы, невероятно возбуждая простонародье.
Великое небо, сколько сект и секточек! Фарисеи, иессеи, саддукеи --
целый легион! И стоило им основать новую секту, как вопрос уже делался
политическим. Копоний, четвертый прокуратор перед Пилатом, с большим трудом
подавил мятеж гаулонитов, поднятый таким образом и распространившийся из
Гамалы.
Когда я в последний раз въезжал в Иерусалим, мне нетрудно было заметить
сильное возбуждение среди евреев. Они собирались толпами, трещали и спорили.
Некоторые предвещали светопреставление. Другие ограничивались тем, что
предсказывали неминуемое разрушение храма.
Находились и горячие революционеры, объявлявшие, что царству римлян
пришел конец и начинается новое, иудейское царство.
Пилата также я застал в сильной тревоге. Совершенно ясно было, что он
придавлен тяжкими заботами. Но должен вам сказать, что он отражал
хитросплетения евреев с большим искусством; насколько я его знаю, он мог
разбить многих спорщиков в синагогах.
-- Только бы пол-легиона римлян, и я взял бы Иерусалим за горло!.. А
потом был бы отозван за свой труд, надо думать!
Как я и говорил, он не очень доверял вспомогательным войскам, а римских
солдат у него была жалкая горсточка.
Я опять поселился во дворце и, к великой радости, нашел там Мириам. Но
это доставило мне мало утехи: разговоры только и вертелись, что около
нараставших событий. И было о чем говорить, ибо город шумел, как разозленное
гнездо шершней! Приближался пост, называемый Пасхой, и тысячи людей
стекались из провинции, чтобы, по обычаю, провести этот праздник в
Иерусалиме. Разумеется, эти пришельцы все были очень раздражительный народ,
иначе они не так легко склонились бы на такое паломничество. Город битком
набит был ими, так что многие расположились лагерем за его стенами. Что
касается меня, то я не мог определить, насколько в этом брожении были
виноваты проповеди странствующего рыбака, а насколько -- ненависть иудеев к
Риму.
-- Только на одну десятую, а может быть, и меньше, виноват в этом
Иисус! -- ответил Пилат на мой вопрос. -- Главную причину волнения надо
искать в Каиафе и Ханане. Они знают, чего хотят. Они заваривают кашу --
трудно сказать, для какой цели, если не для того, чтобы наделать мне хлопот!
-- Да, это несомненно, что ответственны Каиафа и Ханан, -- говорила
Мириам, -- но ведь ты, Понтий Пилат, только римлянин и не можешь понять!
Если бы ты был иудеем, ты бы понял, что в основе всего лежат более серьезные
вопросы, чем несогласия сектантов или желание наделать хлопот тебе и Риму.
Первосвященники и фарисеи, знатные и именитые евреи, Филипп и Антипа, я сама
-- мы боремся за самую жизнь!
-- Может быть, этот рыбак помешанный. Если так, то в его безумии есть
хитрость. Он проповедует учение бедности. Он угрожает нашему закону, а наш
закон -- это наша жизнь, как ты недавно узнал. Мы бережем наш закон, как ты
берег бы себя, если бы чья-нибудь рука сдавила тебе горло. Вот за что
борются Каиафа, Ханан и все они: или этот рыбак, или они! Они должны
уничтожить его, иначе он уничтожит их!
-- Не странно ли это -- простой человек, рыбак? -- воскликнула жена
Пилата. -- Что он за человек, если обладает такой властью? Мне хотелось бы
увидать его. Я хотела бы своими собственными глазами увидеть столь
замечательного человека!
Пилат нахмурил брови, и ясно было, что возбуждение его жены только
усиливает его беспокойство.
-- Если хочешь увидеть его, обойди городские притоны, -- злобно
усмехнулась Мириам. -- Ты застанешь его хлещущим вино в компании бездомных
женщин. Никогда еще в Иерусалиме не появлялось столь странного пророка!
-- Что ж тут дурного? -- спросил я, против воли становясь на сторону
рыбака. -- Разве я не упивался вином и не проводил странных ночей во всех
провинциях? Мужчина есть мужчина, и повадки его всегда и везде мужские --
иначе я сам помешанный, что я отрицаю.
Мириам покачала головой.
-- Он не помешанный, много хуже: он опасен. Его эбионизм опасен. Он
разрушит все установленное. Он революционер. Он готов уничтожить то
немногое, что осталось нам от иудейского государства и храма.
Но Пилат возразил:
-- Он не политический деятель, я собрал о нем справки. Он -- ясновидец.
В нем нет ни капли бунтарства. Он даже признает налоги римлян.
-- Но я все же не понимаю, -- стояла на своем Мириам. -- У него нет
революционных замыслов; революционером его делает исполнение его планов,
если оно удастся. Сомневаюсь, чтобы он сам предвидел последствия. Но этот
человек -- язва, и, как всякую язву, его нужно истребить!
-- Насколько я слышал, он добрый, простой человек, не имеющий в сердце
зла, -- утверждал я.
Тут я рассказал ей об исцелении десяти прокаженных, чему я был
свидетелем в Самарии, по пути в Иерихон,
Жена Пилата, как зачарованная, слушала мой рассказ. До нашего слуха
доносились отдельные вопли и крики собравшейся на улице толпы, и мы поняли,
что солдаты очищают улицу.
-- И ты веришь в это чудо? -- спросил Пилат. -- Ты веришь, что в одно
мгновение гнусные язвы оставили прокаженных?
-- Я видел их исцеленными, -- ответил я. -- Я последовал за ними, чтобы
удостовериться. На них не осталось проказы.
-- Видел ли ты их больными? До этого исцеления? -- настаивал Пилат.
Я покачал головой.
-- Мне только так рассказывали, -- согласился я. -- Когда я их видел
впоследствии, все они имели вид людей, некогда бывших прокаженными. Они
находились в состоянии какого-то одурения. Один, например, сидел на солнце,
ощупывал свое тело и все глядел на гладкую кожу, словно не мог поверить
глазам своим. Когда я задал ему вопрос, он не мог ни ответить, ни смотреть
на что-нибудь, кроме этой своей кожи. Он был как ошалелый. Он сидел на
солнце и все глядел и глядел на себя!
Пилат презрительно улыбнулся, и я заметил, что на лице Мириам также
показалась презрительная улыбка. Но жена Пилата сидела как мертвая, еле дыша
и широко раскрыв свои невидящие нас глаза.
Тут заговорил Амбивий.
-- Каиафа утверждает -- только вчера он говорил мне об этом, -- будто
этот рыбак обещает низвести Бога на землю и создать здесь новое царство,
которым будет править Бог...
-- И это конец римского владычества! -- вставил я.
-- Таким путем Каиафа и Ханан замышляют впутать Рим, -- объяснила
Мириам. -- Но это неправда! Это ложь, которую они выдумали.
Пилат кивнул головой и спросил:
-- Разве не имеется в ваших древних книгах пророчества, которое здешние
священники могли бы применить к намерениям этого рыбака?
Мириам ответила утвердительно и привела цитату. Я рассказываю этот
случай в доказательство глубокого знакомства Пилата с народом, среди
которого он с таким трудом поддерживал порядок.
-- Я слышала, -- продолжала Мириам, -- что Иисус предсказывает конец
мира и начало Царствия Божия не здесь, а в небесах.
-- Мне об этом докладывали, -- заметил Пилат. -- Это верно. Этот Иисус
признает римские налоги. Он утверждает, что Рим будет править, пока не
кончится всякая власть вместе с концом мира. Теперь мне ясен подвох, который
подстраивает Ханан.
-- Некоторые из его последователей утверждают даже, что он сам Бог, --
вставил Амбивий.
-- Мне не доносили, чтоб он это говорил! -- возразил Пилат.
-- А почему бы нет? -- вмешалась его жена. -- Почему нет? И раньше
случалось, что боги сходили на землю.
-- Послушай, -- сказал Пилат. -- Я знаю из надежных источников, что
после того, как этот Иисус сотворил чудо, накормив толпу несколькими хлебами
и рыбой, глупые галилеяне собирались сделать его царем. Против его воли они
хотели сделать его царем. Спасаясь от них, он бежал в горы. Это не безумие.
Он был слишком умен, чтобы принять участь, которую они настойчиво навязывали
ему!
-- Вот это и есть тот самый подвох, который готовит тебе Ханан, --
повторила Мириам. -- Они требуют, чтобы он сделался царем иудейским -- это
нарушение римского закона, за которое Рим должен разделаться с ним.
Пилат пожал плечами.
-- Король нищих или, вернее, король мечтателей! Он не глупец, он
ясновидец, но не властитель мира сего. Желаю ему владычества в грядущем, ибо
этот мир не подчинен Риму!
-- Он утверждает, что собственность -- грех, -- вот что задело
фарисеев, -- опять вмешался Амбивий.
Пилат от души рассмеялся.
-- Однако этот царь нищих и его последователи-нищие уважают
собственность, -- пояснил он. -- Недавно они завели даже казначея для своих
богатств. Его звали Иуда, и говорят, что он обворовал их общую казну и унес
с собою.
-- Но Иисус не крал? -- спросила жена Пилата.
-- Нет, -- отвечал Пилат. -- Украл Иуда-казначей.
-- А кто Иоанн? -- спросил я. -- Он появился впервые в Тивериаде, но
Антипа казнил его.
-- Это другой, -- отвечала Мириам. -- Он родился возле Хеврона. Это был
энтузиаст и отшельник. Не то он, не то его последователи утверждали, что он
Илия, воскресший из мертвых. Илия -- это был один из наших древних пророков.
-- Что ж, он бунтовал? -- спросил я.
Пилат улыбнулся и покачал головой, потом произнес:
-- Он повздорил с Антипой из-за Ирода. Иоанн был нравоучитель.
Рассказывать долго, но он заплатил за это головой. Нет, в этом деле не было
ничего политического!
-- Некоторые утверждают также, что Иисус называет себя сыном Давидовым,
-- сказала Мириам. -- Но это вздор: никто в Назарете не верит этому. Видишь
ли, вся его семья, в том числе его замужние сестры, живут там, и они знают
его. Это простые люди, совсем простонародье.
-- О, если бы таким же простым был доклад обо всех этих сложных делах,
который я должен послать Тиверию, -- пробурчал Пилат. -- А теперь этот рыбак
явился в Иерусалим, в город, битком набитый паломниками, готовыми на смуту,
а Ханан еще подливает масла в огонь.
-- Но прежде чем вы с ним разделаетесь, он добьется своего, --
пророчески заметила Мириам. -- Он вам задал задачу, и вам придется исполнить
ее.
-- И она заключается?.. -- спросил Пилат.
-- В казни этого рыбака.
Пилат упрямо покачал головой, и жена его вскричала:
-- Нет! Нет! Это была бы позорная несправедливость! Человек никому не
сделал зла. Он ничем не погрешил против Рима!
Она умоляюще взглянула на Пилата, который продолжал кивать головой.
-- Пусть они сами снимают ему голову, как это сделал Антипа, --
проворчал он. -- Не в рыбаке вопрос. Но я не желаю быть орудием их
махинаций. Если они должны уничтожить его, пусть уничтожают. Это их дело!
-- Но ведь ты не допустишь этого? -- горячо воскликнула жена Пилата.
-- Я не оберусь хлопот объясняться с Тиверием, если стану вмешиваться,
-- был его ответ.
-- Что бы там ни было, -- заметила Мириам, -- тебе придется писать
объяснения, и скоро: Иисус уже прибыл в Иерусалим, и с ним несколько его
рыбаков.
Пилат не смог скрыть раздражения, вызванного этим известием.
-- Мне неинтересны его передвижения, -- объявил он. -- Надеюсь, что
никогда не увижу его!
-- Поверь, что Ханан разыщет его для тебя, -- отвечала Мириам, -- и
приведет к твоим воротам!
Пилат пожал плечами. На этом беседа закончилась. Жена Пилата,
озабоченная и взволнованная, позвала Мириам в свои внутренние покои, так что
мне ничего не оставалось делать, как лечь в постель и заснуть под гул и
жужжание города помешанных.
События быстро развивались. За ночь атмосфера в городе еще больше
накалилась. В полдень, когда я поехал с полдюжиной моих людей, улицы были
полны народа, и он расступался передо мной с большей неохотой, чем когда бы
то ни было. Если бы взгляды могли убивать, то я в этот день был бы погибший
человек. Они открыто плевали при виде меня, и отовсюду ко мне неслось
ворчанье и крики.
Я был не столько предметом удивления, сколько ненависти, тем более, что
на мне были латы римлянина. Будь это в другом городе, я бы приказал моим
людям разогнать ножнами этих ревущих фанатиков. Но это был Иерусалим в жару
лихорадки, это был народ, неспособный отделить идею государства от идеи
Бога.
Саддукей Ханан хорошо сделал свое дело! Что бы он и синедрион ни
говорили о внутреннем положении, ясно было -- черни хорошо втолковали, что
виной всему Рим.
Вдобавок я встретился с Мириам. Она шла пешком в сопровождении одной
только женщины. В такое смутное время ей не следовало одеваться так, как
подобало ее положению. Через сестру она была родственницей Антипы, которого
мало кто любил. Поэтому она оделась очень скромно и закрыла лицо, чтобы
сойти за женщину из народа. Но от моих глаз она не могла скрыть своего
стройного стана, своей осанки и походки, настолько непохожей на походку
других женщин.
Мы могли даже обменяться несколькими торопливыми словами, ибо в то
мгновение нам загородили дорогу и моих людей с лошадьми стеснили и
затолкали. Мириам укрылась в углу стены дома.
-- Что ж, они уже поймали рыбака? -- спросил я.
-- Нет, но он за городской стеной. Он въехал в Иерусалим на осле,
предшествуемый и сопровождаемый толпами, и некоторые глупцы приветствовали
его царем израильским. Это предлог, которым Ханан не замедлит припереть к
стенке Пилата. И хотя он еще не арестован, приговор ему уже написан. Этот
рыбак -- погибший человек!
-- Пилат не станет арестовывать его!
Мириам покачала головой.
-- Об этом позаботится Ханан! Они приведут его в синедрион. И приговор
будет -- смерть. Вероятно, его побьют камнями.
-- Но синедрион не имеет права казнить!
-- Иисус -- не римлянин! -- ответила она. -- Он иудей! По законам
Талмуда он подлежит смерти, ибо богохульно преступил закон.
Я продолжал качать головой.
-- Синедрион не имеет права.
-- Пилат желает, чтобы он присвоил себе это право.
-- Но ведь тут вопрос в законности, -- настаивал я. -- Ведь ты знаешь,
как римляне придирчивы на этот счет!
-- В таком случае Ханан обойдет этот вопрос, -- улыбнулась она, --
заставит Пилата распять его. И в том и в другом случае все пройдет гладко.
Нахлынувшая волна народа смяла наших коней и нас самих. Какой-то
фанатик упал, мой конь попятился и чуть не упал, топча его. Человек
вскрикнул, и громкие угрозы по моему адресу превратились в сплошной рев. Но
я через плечо успел крикнуть Мириам:
-- Вы жестоки с человеком, который, по вашим же словам, никому не
сделал зла!
-- Я жестока к тому злу, которое произойдет от него, останься он в
живых, -- отвечала она.
Я едва уловил ее слова, ибо ко мне бросился человек, схватил узду моего
коня и мою ногу и попытался стащить меня с лошади. Наклонившись вперед, я
ударил его по щеке. Рука моя закрыла ему все лицо, удар опустился с большой
силой. Жители Иерусалима не привыкли к хорошим затрещинам. Я часто потом
задавал себе вопрос, не сломал ли я этому субъекту шею...
Я встретил Мириам на следующий день. Мы встретились во дворе Пилатова
дворца. Она, казалось, находилась в каком-то сне. Едва ли ее глаза заметили
меня. Едва ли она узнала меня. Она имела такой странный вид, взор ее был так
туманен и рассеян, что она мне напомнила прокаженных, которые были исцелены
однажды передо мною в Самарии.
Сделав усилие, она овладела собою, но чисто внешним образом. В глазах
ее застыла непередаваемая мысль. Никогда еще я не видел у женщины таких
глаз!
Она бы прошла мимо меня, не поздоровавшись со мной, если бы я не
загородил ей дороги. Остановившись, она машинально пробормотала несколько
слов, но глаза ее глядели как бы сквозь меня, куда-то вдаль, словно
зачарованные каким-то видением.
-- Я видела его, Лодброг, -- прошептала она. -- Я видела его!
-- Да помогут ему боги, чтобы это не сглазило его, кто бы он ни был! --
засмеялся я.
Она не обратила внимания на мою неуместную шутку и хотела пройти, но я
опять загородил ей дорогу.
-- Да кто он такой? -- спрашивал я. -- Кто-нибудь воскресший из
мертвых, чтобы наполнить таким странным светом твои глаза?
-- Человек, воскресавший из мертвых других! -- отвечала она. -- Истинно
верю я, что он, Иисус, воскрешал мертвых! Он -- князь света, сын Божий! Я
видела его. Истинно верю, что он сын Божий!
Я мало вынес из ее слов, кроме того, что она встретила этого
странствующего рыбака и заразилась его безумием, ибо это была не та Мириам,
которая называла его язвой и требовала, чтобы его истребили, как всякую
язву!
-- Он околдовал тебя! -- гневно воскликнул я.
Глаза ее как будто увлажнились, и взор стал более глубоким, когда она
утвердительно кивнула головой.
-- О, Лодброг, его чары не поддаются никакому описанию! Стоит только
взглянуть на него -- и ты поймешь, что это сама душа доброты и милосердия! Я
видела его! Я слышала его! Я раздам все свое имение бедным и последую за
ним.
Столько было уверенности в ее тоне, что я ей поверил, как поверил
изумлению самарийских прокаженных, глядевших на свое исцеленное тело; и мне
стало досадно, что такая великая женщина так легко свихнулась благодаря
какому-то бродячему незнакомцу.
-- Ну и следуй за ним, -- насмешливо ответил я. -- Без сомнения, ты
наденешь венец, когда он завоюет свое царство!
Она утвердительно кивнула головой, а мне захотелось ударить ее за это
безумие. Я отодвинулся в сторону, и она медленно прошла мимо, бормоча:
-- Его царство не здесь: он сын Давидов. Он сын Божий. Он тот, кем
именовал себя, в нем все то, что говорили о нем великого и доброго.
-- Мудрец с Востока! -- хихикнул Пилат. -- Он мыслитель -- этот
неграмотный рыбак. Я разузнал о нем все. У меня самые свежие донесения. Ему
нет надобности творить чудеса! Он переспорил самых редких софистов. Они
расставили ему западни, а он посмеялся над их западнями. Вот. послушай!
И он рассказал мне, как Иисус привел в смятение своих недругов, когда
те привели ему на суд женщину, уличенную в прелюбодеянии.
-- А подати! -- ликовал Пилат. -- "Воздайте кесарево кесарю, а Божие
Богу!" -- ответил он им. Эту штуку подстроил Ханан -- а он разрушил его
планы! Наконец-то появился иудей, понимающий наш римский взгляд на
государство!
Затем я увидел жену Пилата. Заглянув ей в глаза, я понял, после того
как видел Мириам, что и эта женщина видела чудесного рыбака.
-- В нем божество, -- прошептала она мне. -- В нем чувствуется бытие
Божие!
-- Да разве он Бог? -- тихонько спросил я, ибо нужно было что-нибудь
сказать.
Она покачала головой.
-- Я не знаю. Он не говорил этого. Но одно я знаю: из такого теста
лепятся боги!
"Заклинатель женщин", -- решил я про себя, уходя от жены Пилата,
погруженной в мечты и видения.
Последние дни известны всем, читающим эти строки. и вот в эти дни я
узнал, что Иисус был также заклинателем мужчин. Он очаровал Пилата! Он
очаровал меня!
После того, как Ханан отослал Иисуса к Каиафе и синедрион, собравшийся
в доме Каиафы, осудил Иисуса на смерть, Иисус, в сопровождении ревущей
толпы, был отправлен к Пилату.
Пилат, и в своих интересах, и в интересах Рима, не хотел казнить его.
Пилат мало интересовался рыбаком и очень был заинтересован в сохранении мира
и порядка. Что значила для Пилата человеческая жизнь? Или жизни многих
людей? В Риме он прошел железную школу, и правители, которых Рим посылал
управлять покоренными народами, были люди железные. Пилат думал и чувствовал
правительственными абстракциями. И все же Пилат, нахмурясь, вышел к толпе,
приведшей рыбака, и тотчас же подпал под влияние этого человека.
Я при этом присутствовал и знаю. Пилат видел его впервые. Пилат вышел в
гневе. Наши солдаты уже готовы были очистить двор от шумной черни. И как
только глаза Пилата упали на рыбака, Пилат был покорен -- нет, он
растерялся! Он стал отрицать за собою право суда, потребовал, чтобы иудеи
судили рыбака по своему закону и поступили с ним по своему закону, ибо рыбак
был иудей, а не римлянин. Но никогда еще иудеи не были так послушны римской
власти! Они кричали, что под властью Рима не имеют права казнить. Между тем
Антипа обезглавил чело века и нисколько за это не пострадал.
Пилат оставил их перед дверью, под открытым небом и повел одного Иисуса
в судилище. Что там происходило, я не знаю, но когда Пилат оттуда вышел, я
увидел в нем перемену. В то время как раньше он не желал казнить рыбака
потому, что не хотел быть орудием Ханана, теперь он не хотел казнить его из
уважения к нему самому. Теперь он старался спасти рыбака. А толпа все время
кричала: "Распни его! Распни его!"
Вам, читатель, известна искренность стараний Пилата. Вы знаете, как он
пытался одурачить толпу, сперва высмеяв Иисуса как безвредного дурачка, а
затем предложив освободить его по обычаю, который требовал освобождения
одного узника в праздник Пасхи. И вы знаете, что нашептывания священников
заставили толпу поднять крик о том, чтобы отпустить на свободу убийцу
Варраву.
Тщетно Пилат боролся против роли, которую ему навязывали священники.
Смехом и шутками он надеялся превратить дело в фарс. Он с издевкой называл
Иисуса царем иудейским и приказал побить его плетьми. Он надеялся, что все
кончится смехом и в смехе забудется.
С радостью должен сказать, что ни один римский солдат не принял участия
в том, что последовало. Солдаты вспомогательной армии увенчали и облачили
Иисуса в мантию, вложили в его руки жезл власти и, преклонив колени,
приветствовали его как царя иудейского. Это была попытка умилостивить толпу,
хотя она не удалась. Глядя на эту сцену, я также испытал на себе очарование
Иисуса. Несмотря на жестокую смехотворность своего положения, он хранил
царственную осанку. И, глядя на него, я успокоился. Я был утешен и
удовлетворен и нимало не смущался. Это должно было совершиться. Все шло
хорошо. Ясность Иисуса среди смятения и страданий стала моей ясностью. У
меня почти не появлялось мысли спасти его.
С другой стороны, я слишком много насмотрелся чудес в своей бурной,
разнообразной жизни, чтобы на меня подействовало это чудо. Я был невозмутим.
Мне нечего было сказать. Не нужно было произносить приговор. Я знал, что
происходят вещи, превосходящие мое понимание, и что они должны совершиться.
Однако Пилат продолжал бороться. Смятение усиливалось. Вопли о крови
гремели во дворе, и все требовали распятия. Опять Пилат удалился в зал суда.
Его усилия превратить дело в фарс были тщетны, и он попытался сослаться на
то, что не имеет права судить. Иисус не был жителем Иерусалима, он родился
подданным Антипы, и Пилат требовал отправки Иисуса к Антипе.
Но в это время смятение охватило весь город. Наши войска перед дворцом
были сметены уличными толпами. Начался мятеж, который в мгновенье ока мог
превратиться в гражданскую войну и революцию. Мои двадцать легионеров стояли
наготове. Они так же мало любили фанатичных иудеев, как я, и с удовольствием
послушались бы моего приказа очистить двор Пилата обнаженной сталью.
И когда Пилат снова вышел, то слов, которыми он требовал передачи суда
Антипе, не было слышно, ибо толпа теперь ревела, что Пилат изменник, что
если он отпустит рыбака на свободу, то он не друг Тиверию! Прямо передо
мною, когда я прислонился к стене, бородатый, шелудивый, длинноволосый
фанатик то и дело подпрыгивал и не переставая вопил: "Тиверий император! Нет
царя! Тиверий император! Нет царя!" Я потерял терпение. Крик этого человека
оскорблял меня. Подавшись в сторону, как бы случайно, я наступил своей ногой
на его ногу и страшно придавил ее. Безумец, казалось, ничего не заметил. Он
слишком обезумел, чтобы чувствовать боль. "Тиверий император! Нет царя!" --
продолжал он кричать.
Я видел, что Пилат заколебался. Пилат -- римский наместник -- в
настоящий момент был человеком с человеческим гневом против жалких тварей,
требовавших крови такого простого и кроткого, мужественного и доброго
человека, как этот Иисус.
Он остановил на мне взгляд, словно собирался подать мне знак открыть
военные действия; и я чуть-чуть подался вперед, освободив из-под своей ноги
раздавленную ногу соседа. Я готов был исполнить это полувысказанное желание
Пилата и кровавым натиском очистить двор от ревевшей в нем гнусной черни.
Меня остановила не нерешительность Пилата. Остановил и меня, и Пилата
-- Иисус! Иисус посмотрел на меня. Он приказал мне! Говорю вам, этот
бродячий рыбак, этот странствующий проповедник из Галилеи, повелевал мною!
Он ни слова не произнес, но приказ его был так же грозен и безошибочен, как
трубный глас. И я остановил свою ногу и удержал свою руку, ибо кто я был
такой, чтобы остановиться на пути столь величественно ясному и уверенному в
себе человеку, как он? И я почувствовал все его обаяние, все, что в нем
очаровало Мириам, и жену Пилата, и, наконец, самого Пилата.
Остальное вам известно. Пилат умыл свои руки в знак того, что он
неповинен в крови Иисуса, и мятежники приняли его кровь на свою голову.
Пилат отдал приказ к распятию. Толпа была удовлетворена, а за толпой
потирали руки Каиафа, Ханан и синедрион. Не Пилат, не Тиверий, не римские
солдаты распяли Христа. Это сделали духовные правители и духовные политиканы
Иерусалима. Я это видел! Я это знаю! Наперекор своим собственным интересам,
Пилат спас бы Иисуса, как и я спас бы его, если бы сам Иисус не пожелал,
чтобы его не спасали.
И Пилат в последний раз насмеялся над этим ненавидимым им народом. На
кресте Иисуса он прибил надпись на еврейском, греческом и латинском языках:
"Царь Иудейский". Тщетно ворчали священники. Под этим именно предлогом они
вырвали согласие у Пилата, и тем же предлогом воспользовался Пилат, чтобы
выразить презрение к иудейскому народу. Пилат предал смертной казни
абстракцию, никогда не существовавшую в действительности. Эта абстракция
была ложью и выдумкой, созданной священниками. Ни священники, ни Пилат не
верили в нее. Иисус отрицал ее. Абстракция эта была -- "Царь Иудейский".
Буря во дворе улеглась. Безумие погасло. Революция была предотвращена.
Священники были довольны, толпа удовлетворена, а мы с Пилатом негодовали и
чувствовали себя усталыми после всего этого дела. Однако же и меня, и его
ждала другая буря. Прежде чем увели Иисуса, одна из женщин Мириам позвала
меня к ней.
-- О, Лодброг, я слышала, -- такими словами встретила меня Мириам. Мы
были одни, она прижалась ко мне, ища приюта и силы в моих объятиях. -- Пилат
сдался. Он собирается распять его. Но есть еще время. Твои воины наготове.
Поспеши с ними. При нем находятся только центурион и горсточка солдат. Они
еще не вышли. Как только они выйдут, следуй за ними. Они не должны дойти до
Голгофы! Но ты дай им выбраться за городские стены. Затем отмени приказ.
Возьми с собой лишнего коня для него. Остальное будет легко. Уезжай вместе с
ним в Сирию или в Идумею -- куда-нибудь, лишь бы спасти его!
Она обвила мою шею своими руками и соблазнительно близко придвинула к
моему свое запрокинутое лицо, и в ее расширенных глазах я читал великое
обещание.
Неудивительно, что я не сразу нашелся ответить. В это мгновение только
одна мысль сверлила в моем мозгу. После всей непостижимой драмы,
разыгравшейся на моих глазах, вот что на меня обрушилось. Я понимал ее
хорошо. Дело было яснее ясного. Великая женщина будет моею... если я изменю
Риму! Ибо Пилат был наместник, приказ его был отдан; а его голос был голос
Рима.
Я уже говорил, что в конце концов Мириам и меня погубила ее
женственность, ее непередаваемая женственность. Она всегда была так
рассудительна, так проницательна, так уверена в себе и во мне, что я забыл
или, вернее, еще раз усвоил себе вечный урок, что женщина всегда женщина,
что в великие, решительные минуты женщина не рассуждает, а чувствует; что
последнее святилище и самое сокровенное побуждение к поступкам лежат не в
голове женщины, а в ее сердце.
Мириам не поняла моего молчания; тело ее слегка подалось в моих
объятиях, и она добавила, как бы вспомнив:
-- Возьми двух запасных коней, Лодброг. Я поеду на другом с тобою... с
тобою на край света, куда бы ты ни поехал!
Это была царская взятка! И за нее от меня требовали гнусного,
презренного поступка. Но я продолжал молчать. Не то чтобы я находился в
смятении или сомнении. Я просто ощутил великую печаль, великую внезапную
печаль, ибо сознавал, что держу в своих объятиях ту, которую больше никогда
не буду держать.
Ныне в Иерусалиме только один человек может спасти его, -- продолжала
она, -- этот человек ты, Лодброг!
И так как я все еще не отвечал, она тряхнула меня, словно желая вывести
из отупения. Она так тряхнула меня, что мои доспехи загремели.
-- Да говори же, Лодброг, говори! -- приказала она. -- Ты силен и
бесстрашен. Ты насквозь мужчина. Я знаю, ты презираешь гадов, желающих
погубить его. Скажи только слово -- и дело будет сделано, и я буду любить
тебя всегда, буду любить за это дело!
-- Я римлянин, -- медленно проговорил я, хорошо сознавая, что эти слова
отнимают ее у меня навсегда.
-- Ты раб Тиверия, ищейка Рима, -- вспылила она, -- но ты ничем не
обязан Риму, ибо ты не римлянин. Вы, желтые гиганты севера, -- не римляне!
-- Римляне -- старшие братья северных юнцов, -- ответил я. -- Я ношу
доспехи и ем хлеб Рима. -- И я тихо добавил: -- Да зачем столько гнева и
шума из-за одной человеческой жизни? Все люди должны умереть. Умереть так
просто, так легко! Сегодня или через сто лет -- не все ли равно? В конце
концов всех нас ждет это.
Она так и затрепетала в моих объятиях.
-- Ты не понимаешь, Лодброг! Это не простой человек. Я говорю тебе,
этот человек выше людей -- это живой Бог не людей, но над людьми!
Я прижал ее к себе, сознавая, что отказываюсь от этой прелестной
женщины, и промолвил:
-- Мы с тобою женщина и мужчина. Жизни наши от мира сего. А от всех
потусторонних миров -- одно безумие. Пусть же эти безумные мечтатели идут
путем своих грез. Не отказывай им в том, чего они желают паче всего, паче
мяса и вина, паче песен и битв, даже паче женской любви. Не отказывай им в
вожделении их сердца, влекущего их сквозь тьму могилы к грезам о жизни за
этим миром. Пусть они идут. А мы с тобой останемся здесь для всей сладости,
которую мы открыли друг в друге. Скоро наступит тьма, и ты уйдешь к своим
солнечным берегам, полным цветов, а я уйду к шумному столу Валгаллы!
-- Нет, нет! -- воскликнула она, вырываясь. -- Ты не понимаешь. Все
величие, вся доброта, все божество в этом человеке, -- больше, чем
человеке... И ему умереть такой позорной смертью? Только рабы и воры так
умирают! Он не раб и не вор! Он бессмертен! Он Бог! Истинно говорю тебе, он
-- Бог!
-- Ты говоришь, что он бессмертен? -- отвечал я. -- Значит, если он
нынче умрет на Голгофе, то во времени это не сократит его бессмертия на
ширину волоска. Ты говоришь, что он Бог? Боги не могут умереть. Судя по
всему, что я о них слышал, несомненно, что боги не умирают!
-- О! -- воскликнула она. -- Ты не хочешь понять! Ты просто исполинский
кусок мяса!
-- Не говорят разве, что это событие было предсказано встарь? --
спросил я, ибо от евреев я уже научился тому, что считал их тонкостью ума.
-- Да, да, -- подтвердила она пророчество о Мессии. -- Он -- Мессия!
-- Кто же я в таком случае, чтобы опровергать пророков? -- спросил я.
-- Превращать Мессию в лже-Мессию? Разве пророчества твоего народа так
нетверды, что я, глупый иноземец, желтый северянин в римских доспехах, могу
опровергнуть пророчество и сделать так, чтобы не исполнилось то самое, чего
хотели боги и что предсказано мудрецами?
-- Ты не понимаешь! -- твердила она.
-- Слишком хорошо понимаю! -- отвечал я. -- Разве я больше этих богов,
чтобы перечить их воле? В таком случае боги -- пустое, боги -- игрушки
людей! Я -- человек. И я поклоняюсь богам, всем богам, ибо я верю во всех
богов -- иначе как могли бы существовать все боги?
Мириам разом рванулась, выскользнув из моих рук, и мы стояли,
отделившись друг от друга и прислушиваясь к реву улицы, в то время как Иисус
и солдаты вышли и пошли своим путем. На душе у меня была тяжкая грусть от
сознания, что такая великая женщина может быть так глупа. Она хотела стать
выше Бога!
-- Ты не любишь меня! -- медленно проговорила она, и еще раз всплыло в
ее глазах обещание себя, слишком глубокое и слишком широкое, чтобы быть
выраженным словами.
-- Ты даже не понимаешь, до чего я люблю тебя, кажется мне! -- был мой
ответ. -- Я горжусь любовью к тебе, ибо я знаю, что я достоин любить тебя и
достоин всей любви, которую ты можешь дать мне. Но Рим -- моя приемная мать,
и если бы я изменил ей, малого стоила бы моя любовь к тебе!
Рев, преследовавший Иисуса и солдат, замер в отдалении улицы. И когда
все звуки стихли, Мириам повернулась и пошла, не оглянувшись на меня и не
бросив мне слова.
В последний раз вспыхнуло во мне бешеное желание ее. Я бросился и
схватил ее. Я хотел поднять ее на коня и ускакать с нею и моими людьми в
Сирию, прочь от этого проклятого города безумств. Она сопротивлялась. Я сжал
ее. Она ударила меня в лицо, а я продолжал держать ее, не выпуская, потому
что сладки мне были ее удары. И вдруг она перестала бороться. Она стала
холодна и неподвижна, и я понял, что нет любви в женщине, которую обвивали
мои руки. Для меня она умерла. Я тихо выпустил ее. Она медленно шагнула
назад. Словно не видя меня, она повернулась, пошла по затихшей комнате и, не
оглядываясь, раздвинула занавески и скрылась.
Я, Рагнар Лодброг, никогда не учился читать или писать. Но во дни своей
жизни я слышал великие речи. Как вижу теперь, я никогда не научился ни
великим речам иудеев, содержащимся в их законах, ни речам римлян,
содержащимся в их философии и в философии греков. Но я говорил со всей
простотой и прямотой, как может говорить только человек, пронесший свою
жизнь от кораблей Тостига Лодброга через весь мир до Иерусалима и обратно. Я
сделал простой и ясный доклад Сульпицию Квиринию, когда прибыл в Сирию для
доклада о событиях, происходивших в Иерусалиме.
Во временном прекращении жизни нет ничего нового не только в
растительном мире и в низших формах животной жизни, но даже в высокоразвитом
и сложном организме самого человека. Каталептический транс есть
каталептический транс, чем его ни вызвать. С незапамятных времен факиры
Индии умеют добровольно вызывать в себе такое состояние. Давно уже факиры
умеют зарывать себя живыми в землю. Другие люди в подобных же трансах
ставили в тупик врачей, объявлявших их покойниками и отдававших приказы, в
силу которых их живыми зарывали в землю.
По мере того, как продолжались мои эксперименты со смирительной
рубашкой в Сан-Квэнтине, я немало раздумывал об этой проблеме остановки
жизни. Помнится, я читал где-то, что крестьяне северной Сибири умеют
предаваться спячке в долгие зимы, совершенно как медведи и другие животные.
Какой-то ученый исследовал этих крестьян и нашел, что во время периодов
"долгого сна" дыхание и пищеварение в сущности прекращаются, сердце же
бьется так слабо, что неспециалист не может даже ощутить его биение.
В этом трансе физиологические процессы настолько близки к абсолютному
прекращению, что количество потребляемого воздуха и пищи можно считать, в
сущности, ничтожным. На этом рассуждении отчасти и основано было мое
вызывающее поведение перед смотрителем Этертоном и доктором Джексоном. Вот
почему я дерзнул предложить им оставить меня на сто дней в смирительной
рубашке. И они не посмели принять мой вызов.
Тем не менее я умудрился обходиться без воды и пищи в течение десяти
дней пребывания в куртке. Я находил положительно невыносимым, чтобы из
глубины грез в пространстве и времени меня извлекала гнусная
действительность в лице презренного тюремного врача, прижимающего сосуд с
водой к моим губам. Поэтому я предупредил доктора Джексона, что я,
во-первых, намерен обходиться в смирительной рубашке без воды, а во-вторых,
что я буду сопротивляться усилиям напоить меня.
Разумеется, дело не обошлось без борьбы, но после нескольких попыток
доктор Джексон сдался. После этого место, занимаемое в жизни Дэрреля
Стэндинга смирительной рубашкой, едва ли составляло больше нескольких
мгновений. Как только меня зашнуровывали, я сейчас же начинал наводить на
себя "малую смерть". Благодаря привычке это стало простым и легким делом. Я
так быстро прекращал в себе жизнь и сознание, что избавлял себя от страшной
муки, вызываемой задержкой кровообращения. Невероятно быстро меня осеняла
тьма. После этого Дэррель Стэндинг видел свет только тогда, когда надо мною
склонялись лица людей, развязывавших меня, и в уме пробегала мысль, что в
это мгновение протекло целых десять дней.
Но какие чудесные десять дней проводил я в других местах! О, эти
странствия по длинной цепи существований! Долгие периоды тьмы, постепенно
увеличивающие облачка света и порхания моих "я" в снопах сияния.
Я много раздумывал об отношении этих других "я" ко мне и об отношении
всего моего опыта к современному учению об эволюции.
Поистине можно сказать, что мой опыт находится в полном согласии с
нашими выводами об эволюции.
Как человек, я -- организм, способный к развитию. Я начался не тогда,
когда родился, и не тогда, когда был зачат. Я рос, развиваясь, на протяжении
бесчисленных мириад тысячелетий. Все опыты всех этих жизней и бесчисленное
множество других жизней пошли на созидание душевного и духовного содержания
моего "я". Вы понимаете? Они составляют мое содержание. Материя не помнит,
ибо дух есть память. Я -- дух, составленный из воспоминаний о моих
бесчисленных воплощениях.
Откуда взялся во мне, Дэрреле Стэндинге, багровый гнев, испортивший мне
жизнь и бросивший меня в камеру осужденных? Конечно, он не тогда появился,
не тогда был создан, когда был зачат младенец, которому суждено было стать
Дэррелем Стэндингом. Этот древний багровый гнев много старее моей матери,
много древнее древнейшей и первой праматери людей. Моя мать, зачиная меня,
не создавала присущего мне пылкого бесстрашия. И все матери за все время
развития человечества не создали страха или бесстрашия в мужчинах. Страх и
бесстрашие, любовь, ненависть, гнев -- все эмоции, развиваясь задолго до
первых людей, стали содержанием того, чему суждено было сделаться человеком.
Я весь в моем прошлом. Все мои предыдущие "я" отражаются во мне своими
голосами, отголосками, побуждениями. За каждым моим способом действовать, за
пылом страсти, за искрой мысли кроются тень и отзвук длинного ряда других
"я", предшествовавших мне и составивших меня.
Материал жизни пластичен, -- и в то же время этот материал никогда не
забывает. Придавайте ему какую угодно форму -- старое воспоминание
останется! Все виды лошадей, от огромных першеронов до карликовых
шотландских пони, развились из первых диких лошадей, прирученных первобытным
человеком. И все же до сего дня человеку не удалось уничтожить в лошади
привычку лягаться. А я, составленный из этих первых укротителей лошадей, не
могу уничтожить в себе их багровый гнев.
Я -- человек, рожденный женщиной. Дни мои сочтены, но сущность моя
неразрушима. Я был женщиной, рожденной от женщины. Я был женщиной и рождал
детей. И я опять буду рожден. Бесчисленное множество раз я буду рождаться, а
окружающие меня олухи воображают, будто, свернув мне шею веревкой, они могут
прекратить мое существование!
Да, меня повесят... скоро. Теперь конец июля. Через некоторое время они
попытаются обмануть меня. Они поведут меня из этой одиночки в баню, согласно
установленному в тюрьме обычаю еженедельно водить в баню. Но обратно в
камеру не приведут. Меня переоденут в свежее платье и отведут в камеру
смертников. Там они приставят ко мне особую стражу. Днем и ночью, во сне и в
бодрственном состоянии я буду находиться под надзором. Мне не позволят
укрываться одеялом с головой, чтобы я не надул государство, удушив себя сам.
Я непрерывно буду находиться под действием яркого света. И, уже
окончательно измотав меня, в одно прекрасное утро они выведут меня в рубашке
без ворота и сбросят с табуретки. О, я знаю! Веревка, при помощи которой они
это сделают, будет хорошо вытянута. Уже не первый месяц вешатель Фольсомской
тюрьмы растягивает ее тяжелыми гирями, чтобы вымотать из нее всякую
упругость.
Да, меня сбросят на длинной веревке. У них имеются хитроумные таблицы
вроде таблиц процентов, показывающие длину падения соответственно весу
жертвы. Я страшно истощен, и им придется сбросить меня вниз, чтобы сломать
мне позвоночник. Затем присутствующие снимут свои шляпы, и когда я
закачаюсь, доктор приложит ухо к моей груди, чтобы считать мои замирающие
сердцебиения, и наконец объявит, что я мертв.
Это забавно! Как смешна претензия этих жалких червячков, полагающих,
будто они могут убить меня!
Я не могу умереть. Я бессмертен, как бессмертны и они; разница лишь в
том, что я это знаю, а они не знают.
Ба! Я сам был некогда вешателем или, вернее сказать, палачом. Я очень
хорошо помню это. Я работал мечом, не веревкой. Меч -- более мужественный
способ, хотя все способы одинаково недействительны. Разве можно заколоть дух
сталью или задушить веревкой?
Наряду с Оппенгеймером и Моррелем, которые гнили со мною в эти черные
годы, я считался самым опасным узником Сан-Квэнтина, с другой стороны, меня
считали самым упрямым -- упрямее даже Оппенгеймера и Морреля. Под упрямством
я подразумеваю выносливость. Ужасны были попытки сломить физически и духовно
моих товарищей, но еще страшнее были попытки сломить меня. Ибо я все вынес!
Динамит или "крышка" -- таков был ультиматум смотрителя Этертона. А в конце
не вышло ни того, ни другого. Я не мог показать динамита, а смотритель
Этертон не мог добиться "крышки".
И случилось это не потому, что было выносливо мое тело, а потому, что
вынослив был мой дух. И потому еще, что в прежних существованиях мой дух был
закален, как сталь, жесткими, как сталь, переживаниями. Одно такое
переживание долго было для меня каким-то кошмаром. Оно не имело ни начала,
ни конца. Неизменно я видел себя на скалистом, размытом бурунами островке,
до того низком, что в бурю соленая пена долетала до самых высоких мест
островка. Часто и помногу шли дожди. Я жил в пещере и отчаянно страдал, ибо
не имел огня и питался сырым мясом. Я страдал непрерывно. Это была середина
какого-то переживания, к которому я не мог найти нити. И так как, погружаясь
в "малую смерть", я не имел власти направлять мои скитания, то часто я видел
себя переживающим именно этот отвратительный эпизод. Единственными
счастливыми моими минутами были те, когда светило солнце, -- тогда я грелся
на камнях и у меня прекращался тот почти непрерывный озноб, от которого я
жестоко страдал.
Единственным моим развлечением было весло и складной нож. Над этим
веслом я провел много времени, вырезая на нем крохотные буквы, и делал
зарубки в конце каждой недели. Много было этих зарубок! Я оттачивал нож на
плоском камне, и никогда ни один парикмахер не дрожал так над своей любимой
бритвой, как я дрожал над этим ножом. Ни один скряга не ценил так своего
сокровища, как я ценил свой нож. Он был для меня дорог, как самая жизнь. В
сущности, в нем и была вся моя жизнь.
Путем повторных усилий мне удалось восстановить повесть, вырезанную на
этом весле. Вначале расшифровать удавалось очень мало; потом это стало
легче, и я начал соединять в одно разрозненные обрывки. В конце концов я
разобрал все. Вот что на нем значилось:
"Осведомляю лицо, в руки которого может попасть
это весло, что Даниэль Фосс, уроженец Эльктона
в Мериленде, одном из Соединенных Штатов Аме
рики, отплывший из порта Филадельфии в 1809 году
на бриге "Негосиатор", с назначением к островам
Дружбы, был выброшен в феврале следующего года
на этот пустынный остров, где он построил хижину
и жил много лет, питаясь тюленями. Он -- послед
ний, оставшийся в живых из экипажа означенного
брига, который наткнулся на ледяной остров и за
тонул 25 ноября 1809 года".
Вот эта повесть. Благодаря ей я многое узнал о себе. Одного только
пункта я, к моей досаде, никак не мог выяснить. Находится ли этот остров в
южной части Тихого океана или в южной части Атлантики? Я недостаточно знаком
с путями парусных судов, чтобы сказать с уверенностью, должен ли был плыть
бриг "Негосиатор" на острова Дружбы мимо мыса Доброй Надежды или мимо мыса
Горна. Сознаюсь в своем невежестве: только после того, как меня посадили в
Фольсом, я узнал, в каком океане находятся острова Дружбы. Убийца-японец, о
котором я уже упоминал раньше, служил парусным мастером на судах Артура
Сиуолла, и он говорил мне, что вероятный курс корабля лежал мимо мыса Доброй
Надежды. Если это так, то тогда дата отплытия из Филадельфии и дата крушения
легко бы определили самый океан. К несчастью, датой отплытия показан просто
1809 год. Крушение могло произойти как в том океане, так и в другом.
Только однажды в своих трансах получил я намек на период,
предшествующий времени, проведенному на острове. Начинается это в момент
столкновения брига с ледяной горой; и я расскажу об этом хотя бы для того,
чтобы дать представление о моем замечательно хладнокровном и обдуманном
поведении. Как вы увидите, это поведение и дало мне в ту пору возможность в
конце концов пережить весь экипаж корабля.
Я проснулся на своей койке от страшного треска, как и остальные шесть
человек, спавшие внизу после вахты. Мы все мгновенно вскочили и поняли, что
случилось. Другие же ничего не подозревали, когда, полураздетые, выбежали на
палубу. Но я знал, чего следует ждать, -- и ждал; я знал, что если нам
суждено спастись, то только в баркасе. В этом ледяном море никто плавать не
мог и никто в скудной одежде не мог бы долго прожить в открытой лодке. Кроме
того, я хорошо знал, сколько времени требуется для спуска лодки на воду.
И вот при свете бешено качавшейся сальной плошки, под шум на палубе и
крики "тонем", я начал рыться в своем морском сундуке, ища подходящего
платья. Перерыл я и сундуки моих товарищей, зная, что они им больше не
понадобятся. Работая быстро и сосредоточенно, я вынимал только самые теплые
и толстые части костюма. Я напялил на себя четыре лучших шерстяных рубашки,
какими только мог похвастаться бак, три пары панталон и три пары толстых
шерстяных носков. Ноги мои после этого стали так огромны, что я не мог уже
надеть на них своих собственных отличных сапог. Вместо этого я напялил новые
сапоги Николая Вильтона, которые были больше и толще моих. Поверх своей
куртки я напялил еще куртку Иеремии Нэлора, а поверх всего толстый
брезентовый плащ Сэта Ричардса, который он совсем недавно заново просмолил.
Две пары толстых рукавиц, шарф Джона Робертса, связанный для него его
матерью, и бобровая шапка Джозефа Доуэса поверх моей собственной -- ибо она
была с наушниками и с отворотами над шеей -- дополнили мое снаряжение. Крики
на палубе усиливались, но я еще на минуту задержался, чтобы набить карманы
прессованным табаком, какой только попадался под руку. Затем я вылез на
палубу. И пора было!..
Луна, показавшаяся из разорванных туч, осветила жуткую, безотрадную
картину. Повсюду поломанные снасти, повсюду лед. Паруса, шкоты и реи
фок-мачты, еще державшиеся в своем гнезде, были окаймлены сосульками, и я
испытал чуть не облегчение, что больше мне уже не придется тащить тяжелые
снасти и разбивать лед, дабы мерзлые веревки могли пройти по мерзлым шкивам.
Ветер, дувший с неудержимостью шторма, жег тело с силой, показавшей близость
айсбергов. Огромные волны казались такими холодными в свете луны!
Баркас спускался с бакборта, и я видел, что матросы, хлопотавшие на
обледенелой палубе около бочки с припасами, побросали припасы, торопясь
убраться. Напрасно кричал на них капитан Николь! Огромная волна, хлынувшая с
наветренной стороны, решила вопрос и заставила их кучками броситься за борт.
Я схватил капитана за плечи и, держась за него, крикнул ему в ухо, что если
он сядет в лодку и не даст людям отчалить, так я займусь провиантом.
Впрочем, времени оставалось мало. Мне едва удалось с помощью второго
штурмана Аарона Нортрупа спустить полдюжины бочек и бочонков, как с лодки
мне крикнули, что пора спускаться. И они были правы. С наветренной стороны
на нас несло высокую, как башня, ледяную гору, а с подветренной стороны,
близко-близко, виднелся другой айсберг, на который нас несло.
Аарон Нортруп поспешил прыгнуть первый. Я задержался на мгновение,
чтобы выбрать место в середине лодки, где люди скучились гуще всего, --
расчет был тот, что они своими телами смягчат мое падение. Я вовсе не желал
отправляться со сломанной ногой в рискованное путешествие на баркасе! Чтобы
лодка была свободней у весел, я проворно пробрался на корму. Впрочем, у меня
для этого имелись другие, вполне уважительные, причины. На корме было куда
уютнее, чем на узком носу! Наконец, лучше всего находиться на корме, ибо с
носа следовало ожидать неизбежного в этих случаях волнения.
На корме находился штурман Уольтер Дрек, корабельный врач Арнольд
Бентам, Аарон Нортруп и капитан Николь, сидевший у руля. Врач склонился над
Нортрупом, лежавшим на дне и стонавшим. Прыжок его оказался весьма
неудачным, и он сломал свою правую ногу у бедренного сустава.
Впрочем, им в эту пору некогда было заниматься, ибо мы плыли в бурном
море между двумя островами льда, надвигавшимися один на другой. Николаю
Вильтону, который греб, было тесно; я удобнее расставил бочки и, став на
колени, прибавил своего веса к веслу. Впереди Джон Робертс трудился над
носовым веслом. Схватив его за плечи, ему помогали сзади Артур Гаскинс и
мальчик Бенни Гардуотер. Они так поглощены были этой задачей, что не раз,
случалось, мешали движениям других гребцов.
Продвигаться было трудно, но мы отдалились от опасности на добрую сотню
ярдов, так что я мог теперь обернуться и посмотреть на безвременную гибель
"Негосиатора". Бриг сдавило между двумя льдинами, как мальчик сдавливает
черносливину между большим и указательным пальцами. За ревом ветра и гулом
волн мы ничего не слыхали, хотя толстые ребра брига и палубные балки должны
были ломаться с таким треском, которого было бы довольно, чтобы разбудить
спящую деревню в тихую ночь.
Бесшумно, легко и уступчиво сближались бока брига, палуба выпячивалась
вверх, и наконец раздавленные останки погрузились в воду и исчезли между
соединившимися льдинами. С сожалением смотрел я на гибель нашего убежища от
непогоды, и в то же время мне было приятно думать, что я уютно устроился под
четырьмя рубахами и тремя куртками.
Но даже для меня ночь оказалась ужасной! Я был одет теплее всех в
лодке. Что должны были испытывать другие, об этом я не хотел много
раздумывать. С риском натолкнуться в темноте на другие льдины, мы отливали
воду и держали лодку носом к волне. А я то и дело тер свой замерзающий нос
то одной рукавицей, то другой. Вспоминая свой домашний уют в Эльктоне, я
молился Богу.
Утром мы произвели осмотр. Во-первых, все обмерзли, кроме двух или
трех. Аарон Нортруп, который не мог двигаться из-за сломанной ноги, был в
особенно тяжелом положении. По мнению врача, обе ноги Аарона Нортрупа должны
были безнадежно замерзнуть.
Баркас глубоко сидел в воде, отягченный всем экипажем корабля,
насчитывавшим двадцать одного человека. Двое из них были мальчики. Бенни
Гардуотеру едва было тринадцать, а Лишу Диккери, семья которого жила в
близком соседстве с моими родными в Эльктоне, только что исполнилось
шестнадцать. Припасы наши состояли из трехсот фунтов говядины и двухсот
фунтов свинины. Полдюжины смоченных соленой водой хлебов, взятых поваром, не
могли идти в счет. Кроме того, имелись три больших бочки воды и бочонок
пива.
Капитан Николь откровенно признался, что в этом неисследованном океане
он не знает суши поблизости. Оставалось одно -- плыть по направлению к более
мягкому климату, что мы и сделали, поставив наш маленький парус под свежий
ветер, который погнал нас на северо-восток. Вопрос о пропитании был решен
простым арифметическим подсчетом. Мы не считали Аарона Нортрупа, ибо знали,
что он скоро умрет. Если съедать в день по фунту провизии, то наших пятисот
фунтов хватит нам на двадцать пять дней; а если по полфунта -- то на
пятьдесят дней. И мы решили остановиться на полфунте. Я делил и раздавал
мясо на глазах капитана, и Богу известно, что делал это добросовестно, хотя
некоторые из матросов сейчас же начали ворчать. Время от времени я делил
между людьми прессованный табак, которым набил свои карманы, -- об этом я
мог только пожалеть -- особенно зная, что табак отдан тому или иному,
который, без сомнения, мог прожить еще только один день или в лучшем случае
-- два или три.
Дело в том, что в нашей открытой лодке люди очень скоро начали умирать
не от голода, но от убийственного холода и невзгод. Вопрос стоял так, что
выживут только самые крепкие и удачливые. Я был крепок телосложением и
удачлив в том отношении, что был тепло одет и не сломал себе ноги, подобно
Аарону Нортрупу; он, впрочем, был настолько крепок, что, обмерзши первым из
нас, умирал много дней. Первым умер Вэнс Хатавей. Мы нашли его на рассвете
скрюченным в три погибели на носу и уже закоченевшим. Вторым умер мальчик
Лиш Диккери. Другой мальчик, Бенни Гардуотер, продержался десять или
двенадцать дней.
В лодке было так холодно, что вода и пиво замерзли, и трудно было
математически точно делить куски, которые я откалывал ножом Нортрупа.
Кусочки льда мы клали в рот и сосали до тех пор, пока они не таяли. Иногда
налетали страшные шквалы, и снегу было хоть отбавляй. От всего этого во рту
у нас развились воспалительные процессы, слизистые оболочки постоянно были
сухи и горели. Вызванную ими жажду ничем нельзя было унять! Сосать снова лед
и снег -- значило только усиливать воспаление. Я думаю, эта напасть главным
образом погубила Лиша Диккери. Он помешался и двадцать четыре часа бредил
перед смертью. Умирая, он требовал воды, а между тем в воде не было
недостатка. Я, насколько мог, противился искушению пососать льду и
довольствовался кусочком табаку, заложенным за щеку.
С покойников мы снимали платье. Нагими явились они на свет и нагими
пошли за борт баркаса, в холодные воды океана. Их платье мы разыгрывали
жребием. Это было сделано по приказу капитана Николя, в предупреждение ссор.
Глупым сантиментам не было места. Всякий испытывал тайное
удовлетворение после каждой новой смерти. Всего удачливее на жребии оказался
Израиль Стикин, и когда наконец и он умер, то после него остался целый склад
одежды. Она дала новую передышку оставшимся.
Мы продолжали плыть к северо-востоку под напором свежего западного
ветра, но наши поиски теплого климата казались тщетными. Даже брызги морской
воды замерзали на дне лодки, и я продолжал рубить пиво и питьевую воду ножом
Нортрупа. Свой нож я припрятал. Это был клинок хорошей стали, с острым
лезвием и прочной отделкой, и мне не хотелось подвергать его риску
сломаться.
К этому времени половина нашей компании была уже брошена за борт; борта
лодки заметно поднялись над водой, и ею не так было трудно управлять в
штормы. Наконец, больше было места, чтобы растянуться.
Вечным предметом неудовольствий был провиант. Капитан, штурман и я,
переговорив, решили не увеличивать ежедневной порции в полфунта мяса. Шесть
матросов, от имени которых выступал Товий Сноу, доказывали, что после смерти
доброй половины экипажа нужно удвоить паек и, стало быть, выдавать теперь по
фунту. Мы же указывали на то, что удваиваются наши шансы на спасение, если
мы сможем продержаться на полуфунтовом пайке.
Конечно, восемь унций соленого мяса нельзя сказать, чтобы очень
способствовали сохранению жизни и сопротивлению суровому холоду. Мы страшно
ослабели и поэтому зябли еще больше. Нос и щеки у нас почернели, -- так
сильно они были обморожены. Согреться было немыслимо, хотя теперь у нас было
вдвое больше одежды.
Через пять недель после гибели "Негосиатора" произошла серьезная
катастрофа из-за провизии. Я спал (дело было ночью), когда капитан Николь
поймал Джеда Гечкинса на краже свинины из бочки. Что его к этому
подстрекнули остальные пятеро матросов, они доказали своими действиями. Как
только Джед Гечкинс был накрыт, все шестеро бросились на нас с ножами! В
тусклом свете звезд эта схватка врукопашную приобрела жуткий характер, и
лодка только чудом не опрокинулась. Я возблагодарил судьбу за рубашки и
куртки, послужившие мне теперь как бы броней. Удары ножа, наносимые в эту
толщу ткани, едва только оцарапали мою кожу.
Прочие были защищены подобным же образом, и битва окончилась бы только
всеобщим изувечением, если бы штурман Вальтер Дэкон, сильный мужчина, не
додумался окончить дело тем, что выбросил мятежников за борт. К нему
примкнули в этом деле капитан Николь, доктор и я -- и в одно мгновение
пятеро из мятежной шестерки уже находились в воде, цепляясь за шкафут.
Капитан Николь и доктор возились с шестым, Иеремией Нэлором, и бросили его
за борт, в то время как штурман колотил доской по пальцам тех, кто ухватился
за шкафут. С минуту я был свободен от всякого дела и мог поэтому видеть
трагический конец штурмана. Когда он поднял доску, чтобы ударить по пальцам
Сэта Ричардса, этот последний, опустившись глубже в воду, затем внезапно
подскочил и, ухватившись обеими руками, почти забрался в лодку, схватил в
свои объятия штурмана и, метнувшись назад, потащил его за собой. Он, без
сомнения, не ослабил своих тисков, и оба они утонули.
Таким образом из всего судового экипажа в живых остались только трое:
капитан Николь, Арнольд Бентам (доктор) и я. Семеро погибли во мгновение ока
благодаря попытке Джеда Гечкинса воровать провиант. А мне жаль было, что
такая масса хорошего теплого платья попала в море! Каждый из нас с
благодарностью надел бы на себя добавочную порцию ткани. Капитан Николь и
доктор были честные, хорошие люди. Часто, когда двое из нас спали, тот, кто
не спал и сидел у руля, мог красть мясо. Но этого не случилось ни разу! Мы
безусловно доверяли друг другу и скорее бы умерли, чем обманули это доверие.
Мы продолжали довольствоваться полфунтами мяса в сутки и пользовались
каждым попутным бризом, чтобы продвинуться немного к северу. Только
четырнадцатого января, через семь недель после крушения, мы добрались до
более теплых широт. Но настоящего тепла еще не было, просто не было такого
резкого холода, как раньше.
Здесь западные ветры покинули нас, и мы много дней носились по морю в
сравнительном штиле. Море чаще всего было спокойно, или же налетал небольшой
встречный ветер; иногда же на несколько часов задувал порывистый бриз. Мы
так ослабели, что не могло быть и речи о том, чтобы грести и вести на веслах
большую лодку. Мы только берегли провиант и ждали, когда наконец Господь
обернется к нам более милостивым ликом. Все трое мы были верующими
христианами и каждое утро перед раздачей провианта читали молитвы. Кроме
того, каждый часто и подолгу молился про себя.
В конце января наш провиант почти совсем истощился. Свинина была
съедена, и бочкой из-под нее мы пользовались для того, чтобы запасаться
дождевой водой. Говядины осталось несколько фунтов. За все девять недель,
проведенных в этой лодке, мы ни разу не видели суши и не подняли паруса.
Капитан Николь признался, что в конце шестидесяти трех дней расчетов и
догадок он все еще не знает, где мы находимся.
Двадцатого февраля мы съели последний кусок. Предпочту умолчать о
деталях многого из того, что происходило в последующие восемь дней. Я
коснусь лишь инцидента, показывающего, что за люди были мои спутники. Мы так
долго голодали, что, когда провиант вышел, у нас не осталось уже запаса, из
которого мы могли бы черпать выносливость, и с этой минуты мы стали сильно
слабеть.
Двадцать четвертого февраля мы спокойно обсудили положение. Мы все трое
были мужественными людьми, полными жизни, и умирать нам не хотелось. Никому
из нас не хотелось жертвовать собой для двух остальных. Но мы единогласно
признали: нам нужна еда; мы должны решить это дело метанием жребия; и мы
бросим жребий наутро, если не поднимется ветер.
Наутро поднялся ветер, небольшой, но устойчивый, так что оказалось
возможным делать узла два северным курсом. Такой же бриз дул в утро двадцать
шестого и двадцать седьмого числа. Мы страшно ослабели, но остались при
своем решении и продолжали плыть вперед.
Но утром двадцать восьмого мы поняли, что час наш настал. Лодка
беспомощно покачивалась на совершенно затихшем море, и застывший воздух не
подавал ни малейших надежд на бриз. Я вырезал из своей куртки три куска
ткани. В кромке одного из них виднелась коричневая нитка. Кто вытащит этот
кусок, тому и погибнуть! И я положил лоскутки в мою шапку, покрыв ее шапкой
капитана Николя.
Все было готово, но мы медлили; каждый из нас долго и горячо молился
про себя, ибо мы знали, что предоставляем решение Господу. Я сознавал, что
поступаю честно и достойно, но знал, что таково же поведение и моих двух
товарищей, и недоумевал: как Бог разрешит столь щекотливое дело?
Капитан, как оно и следовало, тянул жребий первым. Засунув руку в
шапку, он закрыл глаза, помешкал немного, и губы его шевелились, шепча
последнюю молитву. Он вытащил пустой номер. Это было правильно -- я не мог
не сознаваться, что это было правильное решение; ибо жизнь капитана хорошо
была известна мне; я знал, что это честный, прямодушный и богобоязненный
человек.
Остались мы с доктором. По корабельному этикету, он должен был тянуть
следующим. Опять мы помолились. Молясь, я мысленно окинул взором всю свою
жизнь и наскоро подвел итог моим порокам и достоинствам.
Я держал шляпу на коленях, накрыв ее шляпой капитана Николя. Доктор
засунул руку и копался в течение некоторого времени, а я любопытствовал:
можно ли нащупать коричневую нитку, выделив ее из прочих нитей бахромки?
Наконец он вытащил руку. Коричневая нитка оказалась в его куске ткани!
Я мгновенно ощутил великое смирение и благодарность Господу за оказанную им
мне милость и дал обет добросовестнее, чем когда-либо, исполнять все его
заповеди. В следующую же секунду я почувствовал, что доктор и капитан
связаны друг с другом более тесными узами положения и близости, чем со мною,
и что они до некоторой степени разочарованы исходом метания жребия... Наряду
с этой мыслью шевелилось убеждение, что исход нисколько не повлияет на
выполнение плана, на который решились эти славные люди.
Я оказался прав! Доктор обнажил руку и лезвие ножа и приготовился
вскрыть себе большую вену. Но прежде он сказал небольшую речь.
-- Я уроженец Норфолька, в Виргинии, -- сказал он, -- где еще живы, я
думаю, моя жена и трое детей. Одной только милости прошу от вас: если Богу
угодно будет избавить кого-нибудь из вас от гибельного положения и
ниспослать вам счастье увидеть отчизну -- пусть он ознакомит мою несчастную
семью с моей скорбной судьбой...
Затем он попросил у нас несколько минут отсрочки, чтобы уладить свои
счеты с Богом. Ни я, ни капитан Николь не в состоянии были вымолвить слова;
глаза наши застилали слезы, и мы только кивнули в знак согласия.
Без сомнения, Арнольд Бентам держал себя спокойнее всех. Я лично
страшно волновался и уверен, что капитан Николь страдал не меньше моего, но
что же было делать? Вопрос был решен самим Господом.
Но когда Арнольд Бентам кончил свои последние приготовления и собрался
приступить к делу, я не мог больше выдержать и вскричал:
-- Погодите! Мы столько страдали -- неужели мы не можем потерпеть еще
немного? Сейчас только утро. Подождем до сумерек! И в сумерки, если ничто не
изменит нашей страшной участи, делайте, Арнольд Бентам, как мы условились!
Он посмотрел на капитана Николя, и тот утвердительно кивнул головой.
Капитан не мог произнести ни слова, но его влажные синие глаза были
красноречивее слов.
Я не считал и не мог считать преступлением того, что было решено
жребием, того, что мы с капитаном Николем воспользовались смертью Арнольда
Бентама. Я верил, что любовь к жизни, вопиющая в нас, внедрена была в нашу
грудь не кем иным, как Богом. Такова воля Божия -- а мы, его жалкие
создания, можем только повиноваться ему и творить его волю! Но Бог
милосерден. В своем милосердии он спас нас от страшного, хотя и правого
поступка...
Не прошло и четверти часа, как с запада подул ветер, слегка морозный и
влажный. Еще через пять минут наполнился парус, и Арнольд Бентам сел к рулю.
-- Берегите последний остаток ваших сил! -- промолвил он. -- Дайте мне
использовать оставшиеся у меня ничтожные силы, чтобы повысить ваши шансы на
спасение...
И он правил рулем под все более свежевшим бризом, в то время как мы с
капитаном Николем лежали врастяжку на дне лодки, предаваясь болезненным
грезам и видениям обо всем, что было нам мило в том мире, от которого мы
были теперь отрезаны.
Бриз все свежел и наконец начал дергать и рвать парус. Облака, бежавшие
по небу, предвещали шторм. К полудню Арнольд Бентам лишился чувств, но
прежде чем лодка успела повернуться на порядочной волне, мы с капитаном
Николем всеми четырьмя нашими ослабевшими руками ухватились за руль. Мы
решили чередоваться; капитан Николь, по должности, первым взялся за руль,
затем я ему дал передышку. После этого мы сменяли друг друга каждые
пятнадцать минут. Мы слишком ослабели и дольше не могли просидеть у руля в
один прием.
Перед вечером ветер произвел опасное волнение. Мы бы повернули лодку,
если бы положение наше не было таким отчаянным, и положили ее в дрейф на
морском якоре, импровизированном из мачты и паруса; огромные волны грозили
залить лодку.
Время от времени Арнольд Бентам начинал просить нас поставить плавучий
якорь. Он знал, что мы работаем только в надежде, что жребий не будет
приведен в исполнение. Благородный человек! Благородный человек был и
капитан Николь, суровые глаза которого съежились в какие-то стальные точки.
И мог ли я быть менее благороден в такой благородной компании? В этот долгий
и гибельный вечер я много раз возблагодарил Бога за то, что мне дано было
узнать этих двух людей! С ними был Бог, с ними было право, -- и какова бы ни
была моя участь, я был больше чем вознагражден их обществом, Подобно им, я
не хотел умирать, но и не боялся смерти. Некоторое недоверие, которое я
питал к этим людям, давным-давно испарилось. Жестока была школа, и жестоки
люди -- но это были хорошие люди.
Я первый увидел. Арнольд Бентам, согласившийся принять смерть, и
капитан Николь, близкий к смерти, лежали, как трупы, на дне лодки, а я сидел
у руля. Лодку подняло на гребень вспененной волны -- и вдруг я увидел перед
собой омываемый волнами скалистый островок! Он был меньше чем в миле
расстояния. Я закричал так, что оба моих товарища поднялись на колени и,
схватившись руками за борт, уставились в ту сторону, куда я смотрел.
-- Греби, Даниэль, -- пробормотал капитан Николь, -- там должна быть
бухточка, там может оказаться бухточка! Это наш единственный шанс!
И когда мы оказались вблизи подветренного берега, где не видно было
никаких бухточек, он опять пробормотал:
-- Греби к берегу, Даниэль! Там наше спасение.
Он был прав. Я повиновался. Он вынул часы, посмотрел на них, я спросил
о времени. Было пять часов. Он протянул свою руку Арнольду Бентаму, который
едва-едва мог ее пожать; оба посмотрели на меня, в то же время протягивая
свои руки. Я знал, что это было прощание; ибо какие шансы были у столь
ослабевших людей добраться живыми через омываемые бурунами скалы к вершине
торчащего утеса.
В двадцати футах от берега лодка перестала повиноваться мне. В одно
мгновение она опрокинулась, и я чуть не задохся в соленой воде. Моих
спутников я больше не видал. По счастью, у меня в руках оказалось рулевое
весло, которого я не успел выпустить, и волна в надлежащий момент и
надлежащем месте выбросила меня на пологий скат единственного гладкого утеса
на всем этом страшном берегу. Меня не поранило, меня не расшибло! И хотя
голова моя кружилась от слабости, я нашел в себе силы отползти подальше от
жадной волны.
Я стал на ноги, понимая, что я спасен, -- благодарил Бога и так,
шатаясь, стоял. А лодку уже разбило в щепки. И хотя я не видел капитана
Николя и Арнольда Бентама, но догадывался, как страшно были разбиты и
искромсаны их тела. На краю вспененной волны я увидел весло и, рискуя
сорваться, потянул его к себе. Потом упал на колени, чувствуя, что лишаюсь
сознания. Но все же, инстинктом моряка, я потащил свое тело по острым
камням, чтобы лишиться чувств там, куда не достигали волны.
В эту ночь я сам был полумертвец; почти все время я находился в
оцепенении, лишь смутно чувствуя минутами страшную стужу и сырость. Утро
принесло мне ужас и изумление. Ни одного растения, ни единой былинки не
росло на этой страшной скале, поднявшейся со дна океана! Имея в ширину
четверть мили и полмили в длину, остров представлял собой просто груду
камней. Нигде я не видел ни малейших следов благодатной природы. Я умирал от
жажды, но не находил пресной воды. Тщетно пробовал я языком каждую впадину и
ямку в камне. По милости штормов и шквалов каждое углубление в камнях
острова было наполнено водой соленою, как море.
От лодки не осталось ничего -- даже щепки не осталось на память о
лодке. Со мной остались лишь мой длинный крепкий нож и весло, спасшее меня.
Шторм улегся, и весь этот день, шатаясь и падая, ползая до тех пор, пока
руки и колени не покрылись у меня кровью, я тщетно искал воды.
В эту ночь, более близкий к смерти, чем когда-либо, я укрывался от
ветра за выступом скалы. Страшный ливень немилосердно поливал меня. Я снял с
себя мои многочисленные куртки и разостлал их по камням, чтобы напитать их
дождем; но когда я стал выдавливать эту влагу в свой рот, то убедился, что
ткань насквозь пропиталась солью океана. Я лег на спину и раскрыл рот, чтобы
поймать те немногие капли дождя, которые падали мне на лицо. Это были муки
Тантала, но все же слизистые оболочки моего рта увлажнились, и это спасло
меня от сумасшествия.
На следующий день я чувствовал себя совершенно больным. Я давно уже
ничего не ел и вдруг начал пухнуть. Распухли мои руки, ноги, все тело. При
малейшем нажатии пальцы мои углублялись на целый дюйм в тело, и появившаяся
таким образом ямка очень долго не исчезала. Но я продолжал трудиться во
исполнение воли Божией, требовавшей, чтобы я остался в живых. Голыми руками
я тщательно удалял соленую воду из малейших ямок, в надежде, что следующий
дождь наполнит их водою, пригодною для питья.
При мысли о своей страшной участи и о милых, оставленных дома, в
Эльктоне, я впадал в черную меланхолию и часто забывался на целые часы. И
это было хорошо, ибо не давало мне чувствовать мук, которых я в противном
случае не пережил бы.
Ночью меня разбудил шум дождя, и я ползал от ямки к ямке, лакая пресную
воду или слизывая ее с камня. Вода была солоноватая, но пригодная для питья.
Это и спасло меня, ибо утром я проснулся в обильном поту, но почти
совершенно исцеленным от лихорадки.
Потом показалось солнце -- впервые с минуты моего прибытия на этот
остров! -- и я разложил большую часть своего платья сушиться. Я напился воды
вдоволь и рассчитал, что при умелом обращении мне хватит запаса на десять
дней. Каким богачом я себя чувствовал, имея этот запас солоноватой воды! И
кажется, ни один богатый купец при возвращении всех своих кораблей из
благополучного странствия не чувствовал себя таким богатым при виде складов,
наполненных до потолочных балок, и битком набитых денежных сундуков, как я,
когда открыл выброшенный на камни труп тюленя, издохшего, вероятно, уже
несколько дней. Первым делом я не преминул возблагодарить на коленях Бога за
это проявление его неослабевающей милости.
Одно мне ясно: Господь не желал моей гибели! Он с самого начала не
желал этого.
Зная ослабленное состояние своего желудка, я ел очень умеренно,
понимая, что естественный аппетит мой убьет меня, если я поддамся ему.
Никогда, кажется, ко мне в рот не попадало более лакомых кусочков! Я
откровенно сознаюсь, что проливал слезы радости при виде этой гнилой падали.
Вновь ожила во мне надежда. Я тщательно сохранил части, оставшиеся от
трупа. Тщательно прикрыл мои каменные цистерны плоскими камнями, чтобы под
солнечными лучами не испарилась драгоценная влага и ветер не разметал ее
брызгами. Я собирал крохотные кусочки обрывков водорослей и сушил их на
солнце, чтобы создать хоть какую-нибудь подстилку для моего бедного тела на
жестких камнях, на которых приходилось спать. И платье мое было теперь сухо
-- впервые за много дней; я наконец заснул тяжелым сном истощенного
человека, к которому возвращается здоровье.
Я проснулся новым человеком. Отсутствие солнца не угнетало меня, и я
скоро убедился, что Господь не забыл меня и во время моего сна приготовил
мне другое чудесное благодеяние. Не доверяя своим глазам, я тер их кулаками
и опять глядел на море: насколько охватывал взор, все камни по берегу были
покрыты тюленями! Их были целые тысячи, а в воде играли другие тысячи, и
шум, который они производили, был оглушителен. Я сразу понял -- вот лежит
мясо, остается только брать его, -- мясо, которого хватило бы на десятки
судовых экипажей!
Я немедленно схватил свое весло -- кроме него, на всем острове не было
ни кусочка дерева -- и осторожно стал приближаться к этому чудовищному
складу провизии. Я скоро убедился, что эти морские звери не знают человека.
При моем приближении они не обнаружили никаких признаков тревоги, и убивать
их веслом по голове оказалось детской игрушкой.
Когда я таким образом убил третьего или четвертого тюленя, на меня
вдруг напало непостижимое безумие. Я, как ошалелый, стал избивать их без
конца! Два часа подряд я неустанно работал веслом, пока сам не стал валиться
от усталости. Не знаю, сколько я бы еще мог их избить, но через два часа,
как бы повинуясь какому-то сигналу, все уцелевшие тюлени побросались в воду
и быстро исчезли.
Я насчитал свыше двухсот убитых тюленей, и меня смутило и испугало
безумие, побудившее меня учинить такое избиение. Я согрешил ненужной
расточительностью и после того, как освежился этой хорошей, здоровой пищей,
принес свое раскаяние существу, милосердием которого был так чудесно спасен.
Я работал до сумерек и ночью, освежевывая тюленей, разрезая мясо на полосы и
раскладывая их на вершинах камней для сушки на солнце. В щелях и трещинах
скал на наветренной стороне острова я нашел немного соли и этой солью натер
мясо для предохранения от порчи.
Четверо суток трудился я таким образом и в конце этого времени ощутил
немалую гордость при виде того, что ни одна кроха мясного запаса не была
растрачена зря! Непрерывный труд оказался благодетельным для моего тела,
быстро окрепшего на здоровой пище. И вот еще признак перста судьбы: за все
восемь лет, которые я провел на этом бесплодном острове, ни разу не было
такого долгого периода ясной погоды и постоянного ведра, как в период,
непосредственно последовавший за избиением тюленей!
Прошло много месяцев, пока тюлени вновь посетили мой остров. Тем
Временем я, однако, не предавался праздности. Я выстроил себе каменный шалаш
и рядом с ним кладовую для хранения вяленого мяса. Этот шалаш я покрыл
тюленьими шкурами, так что кровля не пропускала воды. И когда дождь стучал
по крыше, я не переставал думать о том, что поистине царская, по цене мехов
на лондонском рынке, кровля предохраняет выброшенного морем матроса от
разгула стихии!
Я очень скоро убедился в необходимости вести какойнибудь счет времени,
без чего я потерял бы всякое представление о днях недели, не мог бы отличить
их один от другого и не знал бы воскресных дней.
Я мысленно вернулся к счету времени, практиковавшемуся в лодке
капитаном Николем: многократно и старательно перебрал в уме все события, все
дни и ночи, проведенные на острове. По семи камням, стоявшим за моей
хижиной, я вел свой недельный календарь. В одном месте весла я делал
небольшую зарубку на каждую неделю, а на другом конце весла помечал месяцы,
добавляя нужное число дней каждый месяц, по истечении четырех недель.
Таким образом, я мог праздновать как следовало воскресенье. На весле я
вырезал краткую молитву, соответствующую моему положению, и по воскресеньям
не забывал распевать ее. Бог в своем милосердии не забыл меня, и я за эти
восемь лет ни разу не забывал в надлежащее время вспоминать Господа.
Изумительно, сколько требовалось работы, чтобы удовлетворить самые
немудрые потребности человека в еде и крове! В тот первый год я редко бывал
праздным. Жилище, представлявшее собою просто логовище из камней,
потребовало тем не менее шести недель работы. Сушение и бесконечные
скобления тюленьих шкур, чтобы они сделались мягкими и гибкими для выделки
одежды, занимали у меня все свободное время на протяжении многих месяцев.
Затем оставался вопрос о водоснабжении. После каждого сильного шторма
летящие брызги солили мои запасы дождевой воды, и иногда мне очень круто
приходилось в ожидании, пока выпадут новые дожди без сопровождения сильных
ветров. Зная, что капля по капле и камень долбит, я выбрал большой камень,
гладкий и плотный, и при помощи меньших камней начал выдалбливать его. В
пять недель невероятного труда мне удалось таким образом выдолбить
вместилище, заключавшее в себе галлона полтора воды. Потом я таким же
образом сделал себе кувшин на четыре галлона. Это потребовало девяти недель
работы. Время от времени я делал сосуды помельче. В одном сосуде,
вместимостью в восемь галлонов, через семь недель работы открылась трещина.
Только на четвертом году пребывания на острове, когда я наконец
примирился с возможностью, что мне придется провести здесь всю свою жизнь, я
создал свой шедевр. Он отнял у меня восемь месяцев, но был непроницаем и
вмещал свыше тридцати галлонов! Эти каменные сосуды были для меня большим
счастьем -- иногда я забывал о своем унизительном положении и начинал
гордиться ими. Они казались мне изящнее, чем самая дорогая мебель
какой-нибудь королевы! Я сделал себе также небольшой каменный сосуд,
емкостью не больше кварты, чтобы им наливать воду в мои большие сосуды. Если
я скажу, что эта квартовая посуда весила тридцать фунтов, то читатель
поймет, что собирание дождевой воды было весьма нелегкой задачей.
Таким образом я сделал свою дикую жизнь настолько комфортабельной,
насколько это было возможно. Я устроил себе уютный и надежный приют; что
касается провизии, у меня всегда был под рукой шестимесячный запас, который
я предохранял от порчи солением и высушиванием.
Хотя я был лишен общества людей и около меня не было ни одного живого
существа -- даже собаки или кошки, -- я все же мирился со своей участью
легче, чем в данном положении с нею примирились бы тысячи других людей. В
пустынном месте, куда меня забросила судьба, я чувствовал себя гораздо
счастливее многих, за гнусные преступления обреченных влачить существование
в одиночном заключении, наедине с грызущей совестью.
Как ни печальны были мои перспективы, я все же надеялся, что
провидение, выбросившее меня на эти бесплодные скалы как раз в тот момент,
когда голод довел меня до нравственной гибели и меня чуть не поглотила
пучина морская, в конце концов пошлет кого-нибудь мне на помощь.
Но если я был лишен общества ближних и всяких жизненных удобств, я не
мог не видеть, что в моем отчаянном положении имеются и некоторые
преимущества. Я мирно владел всем островом, как мал он ни был. По всей
вероятности, никто не явится оспаривать мое право, кроме, разве, земноводных
тварей океана. И так как остров был почти неприступен, то ночью мой покой не
нарушался страхами нападения людоедов или хищных зверей.
Но человек странное, непонятное существо! Я, просивший у Бога, как
милости, гнилого мяса и достаточного количества не слишком солоноватой воды,
как только поел в изобилии соленого мяса и попил пресной воды, я уже начал
испытывать недовольство своей судьбой! Я начал испытывать потребность в
огне, во вкусе вареного мяса. Я ловил себя на том, что мне хочется лакомств,
какие составляли мои ежедневные трапезы в Эльктоне. Наперекор всем своим
стараниям, я не переставал мечтать о вкусных вещах, которые я ел, и о тех,
которые буду есть, если когда-нибудь спасусь из этой пустыни!
Я полагаю, что во мне говорил ветхий Адам -- проклятие праотца, который
был первым ослушником заповедей Божиих. Всего удивительнее в человеке его
вечное недовольство, его ненасытность, отсутствие мира с собою и с Богом,
вечное беспокойство и бесполезные порывы, ночи, полные тщетных грез,
своевольных и неуместных желаний. Сильно меня угнетала также тоска по
табаку. День был для меня большей мукой, ибо во сне я иногда получал то, о
чем тосковал: я тысячи раз видел себя во сне владельцем бочек табаку,
корабельных грузов, целых плантаций табаку!
Но я боролся с собою. Я неустанно молил Господа ниспослать мне
смиренное сердце и умерщвлял свою плоть неослабным трудом. Не будучи в
состоянии исправить душу свою, я решил усовершенствовать мой бесплодный
остров. Четыре месяца работал я над сооружением каменной стены длиною в
тридцать футов и вышиною в двенадцать. Она служила защитою хижине в период
сильных штормов, когда весь остров дрожал как буревестник в порывах урагана.
И время это не было потрачено даром. После этого я спокойно лежал в уютном
прикрытии, в то время как весь воздух на высоте сотни футов над моей головой
представлял собою сплошной поток воды, гонимый ветром на восток.
На третий год я начал строить каменный столб. Вернее, это была
пирамида, четырехугольная пирамида, широкая в основании и не слишком круто
суживающаяся к вершине. Я вынужден был строить именно таким образом, ибо ни
дерева, ни какого-либо орудия не было на всем острове, и лесов поставить я
не мог. Только к концу пятого года моя пирамида была закончена. Она стояла
на вершине островка. Теперь, вспоминая, что эта вершина лишь на сорок футов
возвышалась над уровнем моря и что вышка моей пирамиды на сорок футов
превышала высоту вершины острова, я вижу, что без помощи орудий мне удалось
удвоить высоту острова. Кто-нибудь, не подумав, скажет, что я нарушал планы
Бога при сотворении мира. Я утверждаю, что это не так, ибо разве я не входил
в планы Бога, как часть их, вместе с этой кучей камней, выдвинутых из недр
океана? Руки, которыми я работал, спина, которую я гнул, пальцы, которыми я
хватал и удерживал камни, -- разве они не входили в состав Божиих планов? Я
много раздумывал над этим и теперь знаю, что был тогда совершенно прав.
На шестом году я расширил основание моей пирамиды, так что через
полтора года после этого высота моего монумента достигла пятидесяти футов
над высотою острова. Это была не Вавилонская башня. Она служила двум целям:
давала мне пункт наблюдения, с которого я мог обозревать океан, высматривая
корабли, и усиливала вероятность того, что мой остров будет замечен небрежно
блуждающим взглядом какого-нибудь моряка. Кроме того, постройка пирамиды
способствовала сохранению моего телесного и душевного здоровья. Так как руки
мои никогда не были праздны, то на этом острове сатане нечего было делать.
Он терзал меня только во сне главным образом видениями различной снеди и
видом гнусного зелья, называемого табаком.
В восемнадцатый день июня месяца, на шестом году моего пребывания на
острове, я увидел парус. Но он прошел слишком далеко на подветренной
стороне, чтобы моряки могли разглядеть меня. Я не испытывал разочарования --
одно появление этого паруса доставило мне живейшее удовлетворение. Оно
убедило меня в том, в чем я до этого несколько сомневался, а именно: что эти
моря иногда посещаются мореплавателями.
Между прочим, в том месте, где тюлени выходили на берег, я построил две
боковые низкие стенки, суживавшиеся в ступеньки, где я с удобством мог
убивать тюленей, не пугая их собратий, находившихся за стеною, и не давая
возможности раненому или испугавшемуся тюленю убежать и распространить
панику. На постройку этой западни ушло семь месяцев.
С течением времени я привык к своей участи, и дьявол все реже посещал
меня во сне, чтобы терзать ветхого Адама безбожными видениями табаку и
вкусной снеди. Я продолжал есть тюленину и находить ее вкусной, пить пресную
дождевую воду, которую всегда имел в изобилии. Я знаю, Бог слышал меня, ибо
за все время пребывания на острове я ни разу не болел, если не считать двух
случаев, вызванных обжорством, о чем я расскажу ниже.
На пятом году, еще до того, как я убедился, что корабли иногда посещают
эти воды, я начал высекать на моем весле подробности наиболее замечательных
событий, случившихся со мной с той поры, как я покинул мирные берега
Америки. Я старался сделать эту повесть как можно более четкой и
долговечной, причем буквы брал самые маленькие. Иногда вырезание шести или
даже пяти букв отнимало у меня целый день.
И на тот случай, если судьбе так и не угодно будет дать мне желанный
случай вернуться к друзьям и к моей семье в Эльктоне, я награвировал, то
есть вырезал, на широком конце весла повесть о моих злоключениях, о которой
уже говорил.
Это весло, оказавшееся столь полезным для меня в моем бедственном
положении и теперь заключавшее в себе летопись участи моей и моих товарищей,
я всячески берег. Я уже не рисковал более убивать им тюленей. Вместо этого я
сделал себе каменную палицу, фута в три длины и соответствующего диаметра,
на отделку которой у меня ушел ровно месяц. Чтобы уберечь весло от влияний
погоды (ибо я пользовался им в ветреные дни как флагштоком, укрепляя на
вершине моей пирамиды; к нему я привязывал флаг, сделанный из одной из моих
драгоценных рубашек), я сделал для него покрышку из хорошо обработанных
тюленьих шкур.
В марте шестого года моего заключения я пережил один из сильнейших
штормов, каких когда-либо был свидетелем человек. Шторм начался около девяти
часов вечера тем, что с юго-запада налетали черные облака и сильный ветер;
около одиннадцати он превратился в ураган, сопровождаемый непрерывными
раскатами грома и самой ослепительной молнией, какую я когда-либо видел.
Я боялся за целость моего островка! Со всех сторон напирали огромные
волны, не доставая лишь до верхушки моей пирамиды. Здесь я чуть не погиб и
не задохся от напора ветра и брызг. Я видел, что уцелел только благодаря
тому, что соорудил пирамиду и таким образом вдвойне увеличил высоту острова.
Утром я имел еще больше причин быть благодарным судьбе. Вся запасенная
мною дождевая вода стала соленой, за исключением крупного сосуда,
находившегося на подветренной стороне пирамиды. Я знал, что если буду
экономить, то мне хватит воды до следующих дождей, как бы они ни запоздали.
Хижину мою почти совсем размыли волны, а от огромного запаса тюленины
осталось лишь немного мясной каши. Но я был приятно поражен, найдя на скалах
выброшенную во множестве рыбу. Я набрал и этих рыб не более и не менее как
тысячу двести девятнадцать штук; я разрезал их и провялил на солнце, как это
делают с трескою. Эта благоприятная перемена диеты не замедлила дать свои
результаты. Я объелся, всю ночь мучился и едва не умер.
На седьмой год моего пребывания на острове, в том же марте, опять
налетела такая же буря. И после нее, к моему изумлению, я нашел огромного
мертвого кита, совершенно свежего, выброшенного на берег волнами!
Представьте себе мой восторг, когда во внутренностях огромного животного я
нашел глубоко засевший гарпун обыкновенного типа, с привязанной к нему
веревкой в несколько десятков футов.
Таким образом, во мне снова ожили надежды, что я в конце концов найду
случай покинуть пустынный остров. Без сомнения, эти моря посещаются
китоловами, и если только я не буду падать духом, то рано или поздно меня
спасут. Семь лет я питался тюленьим мясом -- и теперь, при виде огромного
множества разнообразной и сочной пищи, я опять поддался слабости и поел ее в
таком количестве, что опять чуть не умер! И все это были лишь заболевания,
вызванные непривычностью пищи для моего желудка, приучившегося переваривать
только одно тюленье мясо и ничего другого.
Я наготовил на целый год китового мяса. Под лучами солнца я растопил в
расщелинах камней много жиру, в который, добавляя соль, макал полоски мяса
во время еды. Из драгоценных обрывков моих рубашек я мог даже ссучить
фитиль; имея стальной гарпун и камень, я сумел бы высечь огонь для ночи. Но
в этом не было нужды, и я скоро отказался от этой мысли. Мне не нужен был
свет с наступлением темноты, ибо я привык спать с солнечного захода до
восхода и зимою, и летом.
Здесь я, Дэррель Стэндинг, должен прервать свое повествование и
отметить один свой вывод. Так как личность человека непрерывно растет и
представляет собою сумму всех прежних существований, взятых в одно, то каким
образом смотритель Этертон мог сломить мой дух в своем застенке? Я -- жизнь,
которая не исчезает, я -- то строение, которое воздвигалось веками прошлого
-- и какого прошлого! Что значили для меня десять дней и ночей в
смирительной куртке? Для меня, некогда бывшего Даниэлем Фоссом и в течение
восьми лет учившегося терпению в каменной школе далекого Южного океана?
В конце восьмого года пребывания на острове, в сентябре, когда я только
что разработал честолюбивые планы поднять свою пирамиду до шестидесяти футов
над вершиною острова, я в одно утро проснулся и увидел корабль со спущенными
парусами и в таком расстоянии, что с него мог быть услышан мой крик. Чтобы
меня заметили, я подбрасывал весло вверх, прыгал со скалы на скалу, --
словом, всячески проявлял жизнь и деятельность, пока не убедился, что
офицеры, стоявшие на шканцах, смотрят на меня в подзорные трубки. Они
ответили мне тем, что указали на крайний западный конец острова, куда я и
поспешил, увидев лодку и в ней человек шесть экипажа. Как я впоследствии
узнал, корабль привлекла моя пирамида, и он несколько изменил свой курс,
чтобы ближе рассмотреть столь странную постройку, имевшую большую высоту,
чем одинокий остров, на котором она стояла.
Но прилив был слишком силен, чтобы лодка могла пристать к моему
негостеприимному берегу. После нескольких безуспешных попыток матросы
сигнализировали мне, что должны вернуться на корабль. Представьте себе мое
отчаяние при невозможности покинуть пустынный остров! Я схватил свое весло
(которое давно уже решил пожертвовать Филадельфийскому музею, если
когда-нибудь вырвусь из пустыни) и вместе с этим веслом очертя голову
бросился в пену прибоя. И так мне везло, так еще много оставалось во мне
силы и гибкости, что я добрался до лодки!
Не могу не рассказать здесь любопытного случая. Корабль к этому времени
так далеко отнесло, что нам пришлось целый час плыть до него. В течение
этого часа я предался наклонностям, убитым во мне многими годами, и попросил
у второго штурмана, сидевшего на руле, кусочек жевательного табаку. Он
сделал это, протянув мне также свою трубку, наполненную первостатейным
виргинским листовым табаком. Не прошло и десяти минут, как я отчаянно
заболел! И причина не возбуждала сомнений: организм мой совершенно отвык от
табаку, и я теперь страдал от отравления табаком, какое случается с каждым
мальчиком во время первых попыток курения. Опять я получил основание быть
благодарным Господу -- и с того дня по день моей смерти я не употреблял и
даже не желал этого гнусного зелья.
Я, Дэррель Стэндинг, должен теперь закончить повествование об
изумительных деталях жизни, которую я вторично пережил, лежа без сознания в
смирительной куртке тюрьмы Сан-Квэнтина. Часто приходил мне в голову вопрос:
остался ли Даниэль Фосс верен своему решению и отдал ли свое резное весло
Филадельфийскому музею?
Узнику одиночки очень трудно сообщаться с внешним миром. Однажды со
сторожем, в другой раз с краткосрочником, сидевшим в одиночке, я передал,
заставив заучить наизусть, письмо с запросом, адресованным хранителю музея.
И хотя мне были даны самые торжественные клятвы, но оба эти человека надули
меня. Только после того, как Эд Моррель, по странному капризу судьбы, был
освобожден из одиночки и назначен главным старостой всей тюрьмы, я получил
возможность отправить письмо. Ниже я привожу ответ, присланный мне
хранителем Филадельфийского музея и тайком врученный мне Эдом Моррелем:
"Правда, у нас имеется весло, какое вы описываете, но мало кто знает о
нем, ибо оно не выставлено в залах для публики. Я занимаю свой пост уже
восемнадцать лет и также не знал о его существовании.
Просмотрев наши архивы, я убедился, что такое весло было пожертвовано
неким Даниэлем Фоссом из Эльктона в Мериленде в 1821 году. Только после
продолжительных поисков нашли мы это весло на чердаке среди разного хлама.
Зарубки и повествования вырезаны на весле совершенно так, как вы описываете.
У нас имеется также брошюра, присланная нам, написанная означенным
Даниэлем Фоссом и напечатанная в Бостоне фирмою Н. Коверли Мл. в 1834 г. В
этой брошюре описаны восемь лет жизни человека, выброшенного на пустынный
остров. Очевидно, этот моряк, на старости лет впав в нужду, распространял
эту брошюру среди благотворителей.
Меня очень интересует, каким образом вы узнали об этом весле, о
существовании которого не подозревали мы, работающие в этом музее. Прав ли
я, предположив, что вы прочли о нем рассказ в каком-нибудь дневнике, позднее
изданном означенным Даниэлем Фоссом? Я буду рад всякому сообщению по этому
предмету и немедленно распоряжусь о том, чтобы весло и брошюра попали в
выставочные залы.
Преданный вам О с и я С э л с б е р т и"1.
Наступило время, когда я принудил смотрителя Этертона к безусловной
сдаче, обратившей в пустую фразу его ультиматум -- динамит или "крышка". Он
оставил меня в покое, как человека, которого нельзя убить смирительной
рубашкой. У него люди умирали через несколько часов пребывания в
смирительной рубашке. Он умерщвлял несколькими днями "пеленок", хотя жертв
его неизменно развязывали и увозили в больницу, прежде чем они
испус---------------
1. После казни профессора Дэрреля Стэндинга, когда рукопись
его мемуаров попала в наши руки, мы написали мистеру Осии Сэл
сберти, хранителю Филадельфийского музея, и получили ответ, под
тверждающий существование весла и брошюры. -- Примечание издателя.
-------------------- кали дух... А там доктор выдавал свидетельство о том,
что они умерли от воспаления легких, брайтовой болезни или порока сердечного
клапана.
Но меня смотрителю Этертону так и не удалось убить! Так и не возникло
необходимости перевезти в тележке мое изувеченное и умирающее тело в
больницу! Но должен сказать, что смотритель Этертон приложил все свои
старания и дерзнул на самое худшее. Было время, когда он заключал меня в
двойную рубашку. Об этом замечательном случае я должен рассказать.
Случилось так, что одна из газет Сан-Франциско (искавшая выгодного
рынка, как всякая газета, как всякое коммерческое предприятие) вздумала
заинтересовать радикальную часть рабочего класса тюремной реформой. В
результате, так как Рабочий Союз обладал в то время большим политическим
влиянием, угодливые политиканы Сакраменто назначили сенатскую комиссию для
обследования состояния государственных тюрем.
Эта сенатская комиссия _обследовала_ (простите мой иронический курсив)
Сан-Квэнтин. Оказалось, что такой образцовой темницы мир не видел. Сами
арестанты об этом свидетельствовали! И нельзя было их винить за это. Они по
опыту знали, ч т о влекут за собой подобные обследования. Они знали, что у
них будут болеть бока и все ребра вскоре после того, как они дадут свои
показания... если эти показания будут не в пользу тюремной администрации.
О, поверьте мне, читатель, это старая сказка! Старой сказкой была она в
Древнем Вавилоне за много лет до нашего времени -- и я очень хорошо помню
время, когда я гнил в тюрьме, в то время как дворцовые интриги потрясали
двор.
Как я уже говорил, каждый арестант свидетельствовал о гуманности
управления смотрителя Этертона. Их свидетельства о доброте смотрителя, о
хорошей и разнообразной еде и о варке этой еды, о снисходительности сторожей
вообще, о полном благоприличии, удобствах и комфорте пребывания в тюрьме
были так трогательны, что оппозиционные газеты Сан-Франциско подняли
негодующий вопль, требуя большей строгости в управлении нашими тюрьмами --
иначе, мол, честные, но ленивые граждане соблазнятся и будут искать случая
попасть в тюрьму!..
Сенатская комиссия явилась даже в одиночку, где нам троим нечего было
ни терять, ни приобретать. Джек Оппенгеймер плюнул им в рожи и послал членов
комиссии, всех вместе и каждого порознь, к черту. Эд Моррель рассказал им,
какую гнусную клоаку представляет собою тюрьма, обругал смотрителя в лицо.
Комиссия рекомендовала дать ему отведать старинного наказания, которое было
изобретено прежними смотрителями в силу необходимости управиться как-нибудь
с закоренелыми типами вроде Морреля.
Я остерегся оскорбить смотрителя. Я свидетельствовал искусно и как
ученый, начав с самого начала и шаг за шагом заставляя моих сенатских
слушателей с нетерпением дожидаться следующих деталей, и так ловко сплел я
свой рассказ, что они не имели возможности вставить слово или вопрос... и
таким образом заставил их выслушать все до конца!
Увы, ни словечка из того, что я рассказал, не просочилось за тюремные
стены! Сенатская комиссия дала прекрасную аттестацию смотрителю Этертону и
всему СанКвэнтину. Открывшая крестовый поход сан-францисская газета уверила
своих читателей из рабочего класса, что Сан-Квэнтин -- белее снега, и хотя
смирительная рубашка является еще законным средством наказания ослушников,
но в настоящее время, при гуманном и справедливом управлении смотрителя
Этертона, к смирительной рубашке никогда, ни в коем случае, ни при каких
обстоятельствах не прибегают.
И в то время, как бедные ослы из рабочего класса читали и верили, в то
время, как сенатская комиссия и спала и ела у смотрителя за счет государства
и налогоплательщиков, мы с Эдом Моррелем и Джеком Оппенгеймером лежали в
наших смирительных куртках, стянутых еще туже и еще мстительнее, чем
когда-либо раньше.
-- Да ведь это смеху подобно! -- простучал мне Эд Моррель концом своей
подошвы.
-- Плевать мне на них! -- выстукивал Джек.
Что касается меня, то я также выстукал свое горькое презрение и смех.
Вспомнив о тюрьмах Древнего Вавилона, я усмехнулся про себя космической
улыбкой и отдался охватившей меня волне "малой смерти", делавшей меня
наследником всех богов и полным господином времени.
Да, дорогой брат мой из внешнего мира, в то время как благоприятный для
смотрителя отчет печатался на станке, а высокопоставленные сенаторы жрали и
пили, мы, три живых мертвеца, заживо погребенные в наших одиночках, исходили
потом, мучаясь в смирительных рубашках...
После обеда, разгоряченный вином, смотритель Этертон самолично явился
посмотреть, что с нами. Меня он, по обыкновению, застал в летаргии. Тут
впервые встревожился сам доктор Джексон. Мне вернули сознание нашатырным
спиртом, пощекотавшим мне ноздри. Я усмехнулся в физиономии, склонившиеся
надо мною.
-- Притворяется! -- прохрипел смотритель; и по тому, как горело его
лицо и как он еле ворочал языком, я понял, что он пьян.
Я облизал губы, требуя воды, потому что мне хотелось говорить.
-- Вы осел! -- проговорил я наконец с холодной отчетливостью. -- Вы
осел, трус, гнусность, собака настолько низкая, что жаль тратить плевка в
вашу физиономию! Джек Оппенгеймер чересчур благороден с вами! Что касается
меня, то я без стыда передаю вам единственную причину, по которой я не плюю
вам в рожу: я не хочу унизить себя или мой плевок!
-- Мое терпение наконец истощилось! -- проговорил он. -- Я убью тебя,
Стэндинг!
-- Вы пьяны, -- возразил я, -- и я бы вам посоветовал, если вам уж
нужно сказать эту фразу, не брать в свидетели такого множества тюремных
собак. Они еще выдадут вас когда-нибудь, и вы лишитесь места!
Но он был всецело под властью вина.
-- Наденьте на него другую куртку! -- скомандовал он. -- Ты погиб,
Стэндинг, но ты умрешь не в куртке. Мы тебя вынесем хоронить из больницы!..
На этот раз поверх одной куртки на меня набросили другую, которую
стянули спереди.
-- Боже, боже, смотритель, какая холодная погода! -- издевался я. --
Какой страшный мороз! Я поистине благодарен вам за вторую куртку! Мне будет
почти хорошо.
-- Туже! -- приказывал он Элю Гетчинсу, который шнуровал меня. -- Топчи
ногами эту вонючку! Ломай ему ребра!
Должен признаться, что Гетчинс добросовестно постарался.
-- Ты будешь клеветать на меня? -- бесновался смотритель, и лицо его
еще более покраснело от вина и гнева. -- Смотри же, чего ты добился! Дни
твои сочтены наконец, Стэндинг! Это конец, ты слышишь? Это твоя гибель!
-- Сделайте милость, смотритель, -- прошептал я (я был почти без
сознания от страшных тисков), -- заключите меня в третью рубашку. -- Стены
камеры так и качались вокруг меня, но я изо всех сил старался сохранить
сознание, которое выдавливали из меня куртками. -- Наденьте еще одну
куртку...смотритель...так...будет...э, э, мне теплее!..
Шепот мой замер, и я погрузился в "малую смерть".
После этого пребывания в смирительной куртке я стал совсем другим
человеком. Я уже не мог как следует питаться, чем бы меня ни кормили. Я так
сильно страдал от внутренних повреждений, что не позволял выслушивать себя.
Даже сейчас, когда я пишу эти строки, у меня отчаянно болят ребра и живот.
Но моя бедная, измученная машина продолжает служить. Она дала мне
возможность дожить до этих дней и даст возможность прожить еще немного до
того дня, когда меня выведут в рубашке без ворота и повесят за шею на хорошо
растянутой веревке.
Но заключение во вторую куртку было последней каплей, переполнившей
чашу. Оно сломило смотрителя Этертона. Он сдался и признал, что меня нельзя
убить. Как я сказал ему однажды:
-- Единственный способ избавиться от меня, смотритель, -- это
прокрасться сюда ночью с топориком!
Джек Оппенгеймер тоже позабавился над смотрителем:
-- Знаешь, смотритель, тебе, должно быть, страшно просыпаться каждое
утро и видеть себя на своей подушке!
А Эд Моррель сказал смотрителю:
-- Должно быть, твоя мать чертовски любила детей, если вырастила тебя!
Когда куртку развязали, я почувствовал какую-то обиду. Мне недоставало
моего мира грез. Но это длилось недолго. Я убедился, что могу прекращать в
себе жизнь напряжением воли, дополняя ее механическим стягиванием груди и
живота при помощи одеяла. Этим способом я приводил себя в физиологическое и
психологическое состояние, подобное тому, какое вызывала смирительная
рубашка. Таким образом я в любой момент и, не испытывая прежних мук, мог
отправиться в скитание по безднам времени.
Эд Моррель верил всем моим приключениям, но Джек Оппенгеймер остался
скептиком до конца. На третий год пребывания в одиночке я нанес визит
Оппенгеймеру. Мне удалось сделать это только единственный раз, да и в тот
раз без всякой подготовки, вполне неожиданно.
После того как я потерял сознание, я увидел себя в его камере. Я знал,
что мое тело лежит в смирительной рубашке в моей собственной камере. И хотя
я раньше никогда его не видел, я понял, что этот человек -- Джек
Оппенгеймер. Стояла жаркая погода, и он лежал раздетый поверх своего одеяла.
Меня поразил трупный вид его лица и скелетоподобного тела. Это была даже не
оболочка человека. Это был просто остов человека, кости человека, еще
связанные между собой, лишенные всякого мяса и покрытые кожей, походившей на
пергамент.
Только вернувшись в свою камеру и придя в сознание, я припомнил все это
и понял: как существует Джек Оппенгеймер, как существует Эд Моррель, так
существую и я. Меня охватила дрожь при мысли, какой огромный дух обитает в
этих хрупких погибающих наших телах -- телах трех неисправимых арестантов!
Тело -- дешевая, пустая вещь. Трава есть плоть, и плоть становится травою;
но дух остается и выживает. Все эти поклонники плоти выводят меня из
терпения! Порция одиночки в Сан-Квэнтине быстро обратила бы их к правильной
оценке и к поклонению духу.
Вернемся, однако, в камеру Оппенгеймера. У него было тело человека
давно умершего, сморщившееся, словно от зноя пустыни. Покрывавшая его кожа
имела цвет высохшей грязи. Острые желто-серые глаза казались единственной
живой частью его организма. Они ни минуты не оставались в покое. Он лежал на
спине, а глаза его, как дротики, метались то туда, то сюда, следя за полетом
нескольких мух, игравших в полутьме над ним. Над его правым локтем я заметил
рубец, а другой рубец на правой лодыжке.
Спустя некоторое время он зевнул, перевернулся на бок и стал
осматривать отвратительную язву над ляжкой; он начал чистить ее и оправлять
грубыми приемами, к каким прибегают жильцы одиночек. В этой язве я признал
ссадины, причиняемые смирительной рубашкой. На мне в тот момент, когда я это
пишу, имеются сотни таких же.
Затем Оппенгеймер перевернулся на спину, бодро захватил один из
передних верхних зубов -- это был главный зуб -- между большим и
указательным пальцами и начал расшатывать его. Опять он зевнул, вытянул
руку, перевернулся и постучал к Эду Моррелю.
Разумеется, я понимал. что он выстукивает.
-- Я думал, ты не спишь! -- выстукивал Оппенгеймер. -- А что с
профессором?
Я еле расслышал глухие постукивания Морреля, который докладывал, что
меня зашнуровали в куртку с час тому назад и что я, по обыкновению, уже глух
ко всяким стукам.
-- Он славный парень, -- продолжал выстукивать Оппенгеймер. -- Я всегда
был подозрительно настроен к образованным людям -- но он не испорчен своим
образованием. Он молодец! Он храбрый парень, и ты в тысячу лет не заставишь
его сфискалить или проболтаться!
Эд Моррель согласился со всем этим и прибавил кое-что от себя. И здесь,
прежде чем продолжать, я должен сказать, что много лет и много жизней я
прожил, и в этих многочисленных жизнях я знавал минуты гордости; но самым
гордым моментом в моей жизни был момент, когда эти два мои товарища по
одиночке похвалили меня! У Эда Морреля и Джека Оппенгеймера были великие
души, и не было для меня большей чести, как то, что они приняли меня в свою
компанию! Цари посвящали меня в рыцари, императоры возводили в дворянство, и
сам я, как царь, знал великие моменты. Но ничто мне не кажется столь
блестящим, как это посвящение, произведенное двумя пожизненными арестантами
в одиночке, которых мир считал находящимися на самом дне человеческой
сточной ямы!..
Впоследствии, оправляясь после этого лежания в смирительной рубашке, я
привел свое посещение камеры Джека в доказательство того, что дух покидал
мое тело. Но Джек оставался непоколебимым.
-- Это угадывание, в котором есть нечто большее, чем угадывание! -- был
его ответ, когда я описал ему все его действия в ту пору, когда дух мой
навещал его камеру. -- Это ты себе представляешь! Ты сам провел почти три
года в одиночке, профессор, и легко можешь себе представить, что делает
человек, чтобы убить время! В том, что ты описываешь, нет ничего такого,
чего я и Эд не проделывали бы тысячи раз, начиная с лежания без одежды в
зной и до наблюдения мух, ухода за ранами и постукивания!
Моррель поддерживал меня, но все было напрасно.
-- Не обижайся, профессор, -- выстукивал Джек, -- я не говорю, что ты
врешь. Я говорю только, что ты грезил и представлял себе все это. Я знаю, ты
веришь тому, что говоришь, и думаешь, что все случилось на самом деле. Но
меня это ни в чем не убеждает! Ты это воображаешь, но не знаешь, что
воображаешь. Это нечто такое, что ты знаешь все время, но не сознаешь этого,
пока не придешь в свое сонное обморочное состояние.
-- Замолчи, Джек! -- выстучал я в ответ. -- Ты знаешь, что я никогда не
видел тебя в глаза. Ведь это так?
-- Я должен верить твоему слову, профессор. Может быть, ты видел меня и
не знал, что это я.
-- Дело в том, -- продолжал я, -- что я, если бы и видел тебя в одежде,
не мог бы рассказать тебе о рубце над правым локтем и о рубце на правой
лодыжке!
-- О, вздор! -- отвечал он. -- Все это ты найдешь в моих тюремных
приметах, равно как и мой портрет -- в Коридоре Мошенников. Тысячи
полицейских начальников и сыщиков знают это все!
-- Я никогда не слыхал! -- уверял я.
-- Ты не помнишь, что слыхал об этом, -- поправил он меня. -- Но все же
ты знаешь. Хотя бы ты даже забыл это -- бессознательно это сохранилось в
твоем мозгу; оно где-то спрятано для справок, только ты забыл -- где. Чтобы
вспомнить, тебе надо одурманиться. Случалось ли тебе когда-нибудь забывать
имя человека, известное тебе так же хорошо, как имя родного брата? Мне
случалось! Был, например, маленький присяжный, осудивший меня в Окленде в ту
пору, когда я получил свои пятьдесят лет. В один прекрасный день я убедился,
что забыл его имя! Представь себе, я целые недели лежал и ломал себе над
этим голову! Но то, что я не мог выудить его из памяти, еще не значит, что
его в ней не было! Оно просто было положено не на место, только и всего. И
вот тебе доказательство: в один прекрасный день, когда я даже не думал о
нем, оно вдруг выскочило из мозга на кончик языка! "Стэси!" -- громко
выкрикнул я. Джозеф Стэси, вот это имя!" Понял меня? Ты рассказываешь мне о
рубцах, известных тысячам людей. Я не знаю, как ты о них узнал, и думаю --
ты сам этого не знаешь. Но все равно! Тем, что ты мне расскажешь то, что мне
известно, ты меня не убедишь. Тебе нужно рассказать гораздо больше, чтобы я
проглотил остальные твои выдумки!
Гамильтонов закон бережливости при взвешивании доказательств! Этот
воспитавшийся в трущобах каторжник до того был развит духовно, что
самостоятельно разработал закон Гамильтона и правильно применил его!
И все же -- и это всего замечательнее -- Джек Оппенгеймер обладал
интеллектуальной честностью. В тот вечер, когда я подремывал, он подал мне
обычный сигнал.
-- Вот что, профессор: ты сказал мне, что видел, как я дергал свой
расшатавшийся зуб. Вот где ты поставил меня в тупик! Это единственное, чего
я не могу себе представить, как ты узнал. Зуб расшатался всего три дня
назад, и я не сказал об этом ни одной живой душе!..
Паскаль как-то сказал: "Рассматривая поступательный ход человеческой
эволюции, философский ум должен смотреть на человечество как на единого
человека, а не как на конгломерат индивидуумов".
Вот я сижу в Коридоре Убийц в Фольсоме и под сонное жужжание мух
переворачиваю в уме эту мысль Паскаля, -- как она верна! Совершенно так, как
человеческий зародыш в десять лунных месяцев с изумительной быстротой в
мириадах форм и подобий повторяет всю историю органической жизни от растения
до человека; как мальчик в краткие годы своего отрочества повторяет историю
первобытного человека своими играми и жестокими действиями, от необдуманного
причинения боли мелким тварям вплоть до племенного сознания, выражающегося
стремлением собираться в шайки, -- так и я, Дэррель Стэндинг, повторил и
пережил все, чем был первобытный человек, и все, что он делал, и так же, как
вы и прочее человечество, дожил до цивилизации двадцатого века.
Поистине каждый из нас, жителей этой планеты, носит в себе нетленную
историю жизни от самых ее зачатков. Эта история записана в наших тканях и в
наших костях, в наших функциях и в наших органах, в наших мозговых клетках и
в нашей душе, во всяческого рода физиологических и психологических атавизмах
и импульсах. Некогда, читатель, мы были с вами подобны рыбам, выплывали из
моря на сушу и переживали великие приключения, в толще которых мы находимся
еще и теперь. Следы моря еще держатся на нас, как и следы змея той далекой
эпохи, когда змей еще не был змеем, а человек человеком, когда празмей и
прачеловек были одним и тем же. Было время, когда мы летали по воздуху, и
было время, когда мы жили на деревьях и боялись потемок. Следы всего этого,
точно выгравированные, остались во мне и в вас и будут переходить в наше
семя после нас до скончания веков на земле.
То, что Паскаль понял своим взором провидца, я пережил. Я сам видел
того человека, которого Паскаль узрел философским оком. О, я пережил повесть
более правдивую, более чудесную и для меня более реальную, хотя и
сомневаюсь, сумею ли я рассказать вам и сумеете ли вы, мой читатель,
охватить ее, когда я расскажу. Я говорю, что видел себя тем самым человеком,
на которого намекает Паскаль. Я лежал в продолжительном трансе в
смирительной рубашке -- и видел себя в тысяче живых людей, проходя через
тысячи жизней; я сам был историей человеческого существования,
развивающегося в течение веков.
И какими же царственными представляются мне мои воспоминания, когда я
окидываю взглядом эти минувшие тысячелетия! За один прием куртки я переживал
бесчисленные жизни, заключенные в тысячелетних одиссеях первобытного люда.
Задолго до того, как я был Эзиром с белыми как лен волосами, который жил в
Асгарде, до того, как я был рыжеволосым Ваниром, жившим в Ванагейме, задолго
до всего этого я вспоминаю другие свои бытия, которые, как пух одуванчика по
ветру, проносились пред лицом наступавшего полярного льда.
Я умирал от стужи и холода, битв и потопа. Я собирал ягоды на холодном
хребте мира и откапывал съедобные корешки на жирных торфяниках и лугах. Я
нацарапывал изображения северного оленя и волосатого мамонта на клыках,
добытых охотой, и на каменных стенах пещер, под гул и рев бури. Я разбивал
мозговые кости на месте царственных городов, погибших за много веков до
моего времени, или тех, которым суждено было погибнуть через много веков
после моей смерти. Я оставил кости этих моих преходящих тел на дне прудов, в
ледниковых песках, в озерах асфальта. Я пережил века, ныне называемые
учеными палеолитической, неолитической и бронзовой эпохами. Я помню, как мы
с нашими прирученными волками пасли северных оленей на северном берегу
Средиземного моря, где сейчас находятся Франция, Италия и Испания. Это было
до того, как ледяной покров начал таять и отступать к полюсу. Я пережил
много равноденствий и много раз умирал, читатель... но только я все это
помню, а вы -- нет!
Я был Сыном Сохи, Сыном Рыбы и Сыном Древа. Все религии, от начал
человека, живут во мне. И когда пастор в часовне Фольсома служит Богу по
воскресеньям на современный лад, то я знаю, что в нем, в этом пасторе, еще
живут культы Сохи, Рыбы и Древа и даже все культы Астарты и Ночи.
Я был арийским начальником в Древнем Египте, когда мои солдаты рисовали
непристойности на резных гробницах царей, умерших и зарытых в незапамятные
времена, и я, арийский начальник Древнего Египта, сам построил себе два
склепа -- один в виде фальшивой могучей пирамиды, о которой могло
свидетельствовать поколение рабов. А второй -- скромный, тайный, высеченный
в камне пустынной долины рабами, умершими тотчас же после того, как их
работа была доведена до конца... И теперь, сейчас, в Фольсоме, в то время
как демократия грезит волшебными снами над миром двадцатого века, я думаю:
сохранились ли еще в каменном склепе сокровенной пустынной долины кости,
некогда принадлежавшие мне и двигавшие мое тело, когда я был блестящим
арийским начальником?
И во время великого передвижения человечества на юг и восток от
пылающего солнца, погубившего всех потомков домов Асгарда и Ванагейма, я был
царем на Цейлоне, строителем арийских памятников под властью арийских царей
на древней Яве и древней Суматре. И я умирал сотней смертей на Великом Южном
море задолго до того, как возрождался для строительства памятников, какие
умеют строить только арийцы, на вулканических островах тропиков, которых я,
Дэррель Стэндинг, назвать не могу, потому что слишком мало искушен сейчас в
географии южных морей.
О, если бы я умел обрисовать при помощи бренных слов все то, что я знаю
и чувствую в своем сознании, все, что осталось от могучего потока времени,
предшествующего нашей писаной истории! Да, уже и тогда у нас была история.
Наши старцы, наши жрецы, наши мудрецы рассказывали нашу историю в сказках и
записывали эти сказки на звездах, чтобы наши потомки после нас не забывали
их. С небес ниспадал живительный дождь и солнечный свет. И мы изучали небо,
научились по звездам рассчитывать время и угадывать времена года. Мы
называли звезды в честь наших героев, в честь наших скитаний и приключений и
в честь наших страстных побуждений и вожделений.
Увы! Мы считали нетленными небеса, на которых записывали наши скромные
стремления и скромные дела, которые мы творили или мечтали творить. Когда я
был Сыном созвездия Тельца, помню, я целую жизнь провел, глядя на звезды.
Позднее и раньше в других жизнях я распевал со жрецами и бардами заветные
песни о звездах, на которых, как мы думали, записаны наши нетленные
летописи. И вот в конце всего этого я сижу над книгой по астрономии, взятой
из тюремной библиотеки, и узнаю, что даже небеса -- вещь тленная и
преходящая.
Вооруженный этой совершенной наукой, я, воскресая из "малой смерти"
моих прежних существований, могу теперь сравнить тогдашние и теперешние
небеса. И звезды меняются! Я видел бесчисленные полярные звезды, целые
династии их. В настоящее время Полярная звезда находится в Малой Медведице.
Но в те далекие дни я видел Полярную звезду в Драконе, в Геркулесе, в Лире,
в Лебеде и в Цефее. Нет, даже звезды не вечны! И все же воспоминание и следы
их нетленны во мне, они в духе моем и в памяти моей, которая вечна. Только
дух вечен. Все же остальное, как материя, исчезает и должно исчезать.
О, как ясно я вижу сейчас человека, который явился в древнем мире,
белокурый, свирепый, убийца и любовник, пожирающий мясо и выкапывающий
корни, бродяга и разбойник, который с палицей в руке скитался по свету
тысячелетиями в поисках мяса и убежища для своих детенышей.
Я -- этот человек; я -- сумма этих людей; я -- безволосое двуногое,
развившееся из тины и создавшее любовь и закон из анархии жизни, визжавшей и
вопившей в джунглях. Я -- все, чем человек был и чем он стал. Я вижу себя в
перспективе поколений ставящим силки и убивающим дичь и рыбу; расчищающим
первые поля среди леса; выделывающим грубые орудия из камня и костей;
строящим деревянные хижины, покрывающим их листьями и соломой; возделывающим
поле и пересаживающим в него дикие травы и съедобные корешки, этих праотцов
риса, проса, пшеницы, ячменя и всех съедобных корнеплодов; учащимся
вскапывать землю, сеять, жать и складывать в житницы, разбивать волокна
растений, превращать их в нити и ткать из них ткани, изобретать системы
орошения; обрабатывающим металлы, создающим рынки и торговые пути, строящим
корабли и кладущим начало мореплаванию. Я же был организатором сельской
жизни, сливал отдельные селения, пока они не становились племенами, сливал
племена в народы, вечно ища законы вещей, вечно создавая людские законы,
дабы люди могли жить совместно и соединенными силами убивать и истреблять
всякого рода ползучую, пресмыкающуюся, ревущую тварь, которая иначе
истребила бы человека.
Я был этим человеком во всех его рождениях и стремлениях. Я и сейчас
этот человек, ожидающий своей смерти по закону, составить который я сам
помогал много тысяч лет назад и благодаря которому и уже много-много раз
умирал прежде. И когда я созерцаю теперь эту свою бесконечную прошлую
историю, я замечаю на ней великие и сложные влияния, и на первом плане --
любовь к женщине, любовь мужчины к женщине своего рода. Я вижу себя в
прошлых веках любовником -- вечным любовником! Да, я был и великим бойцом,
но мне, когда я сижу здесь сейчас и все это продумываю, начинает казаться,
что я был прежде всего и больше всего великим любовником. Я потому был
великим бойцом, что любил великой любовью!
Иногда мне кажется, что история человека -- это история любви к
женщине. Все воспоминания моего прошлого, которые я теперь записываю, суть
воспоминания о моей любви к женщине. Всегда, в десятках тысяч моих жизней и
образов, я любил ее, я люблю ее и сейчас. Сны мои полны женщиной; мои
фантазии наяву, с чего бы ни начинались, всегда приводят меня к женщине. Нет
спасения от нее -- от вечной, сверкающей, великолепной фигуры женщины!
Не заблуждайтесь! Я не пылкий неоперившийся юнец. Я пожилой человек с
разбитым здоровьем и разрушенным телом и скоро умру. Я ученый и философ. Я,
как и все поколения философов до меня, знаю цену женщине, ее слабости, ее
подлости, ее бесчестности, ее гнусности, ее прикованности к земле и ее
глазам, никогда не видящим звезд. Но -- и этот вечный неопровержимый факт
остается -- ноги ее прекрасны, ее руки и грудь -- рай, очарование ее сильнее
всего, что когда-либо ослепляло мужчин; и как полюс притягивает магнитную
стрелку, так и женщина -- хочешь не хочешь -- притягивает к себе мужчину.
Женщина заставила меня смеяться над смертью, расстоянием, презирать
усталость и сон; из любви к женщине я убивал мужчин, многих мужчин, или
купал нашу свадьбу в их горячей крови, или смывал ею пятно благоволения
женщины к другому. Я шел на бесчестие, изменял своим товарищам и звездам
ради женщины -- ради себя, вернее, так я желал ее. Я лежал в колосьях
ячменя, томясь желанием, только для того, чтобы видеть, как она пройдет
мимо, и утолить свое зрение ее чудесной раскачивающейся походкой, видом ее
развевающихся волос, черных как ночь, или темных, или льняных, или
отливающих золотом в лучах солнца.
Ибо женщина прекрасна для мужчины! Она сладость для его уст, она аромат
для его ноздрей. Она огонь в его крови; голос ее выше всякой музыки для его
ушей; она может потрясти его душу, непоколебимо стоящую в присутствии
титанов света и тьмы. Смотря на звезды, блуждая по далеким воображаемым
небесам, человек охотно отводит женщине место на небесах в виде Валькирии
или Гурии, ибо он не представляет себе небес без нее. И меч на поле битвы
поет не так сладко, как женщина поет мужчине одним своим смехом в лунном
сиянии, или любовными всхлипываниями в сумраке ночи, или покачивающейся
походкой под солнцем, когда он, с закружившейся от желания головой, лежит в
траве и смотрит на нее.
Я умирал от любви. Я умирал за любовь, как вы увидите. Скоро меня,
Дэрреля Стэндинга, выведут вон и умертвят. И эта смерть будет смертью за
любовь. О, не зря я был возбужден, когда убивал профессора Гаскелля в
лаборатории Калифорнийского университета. Он был мужчиной, и я был мужчиной.
И была между нами прекрасная женщина. Вы понимаете? Была женщина, а я был
мужчиной и любовником, я унаследовал всю ту любовь, которая существовала в
мрачных лесных чащах, полных дикого воя, когда любовь еще не была любовью, а
человек -- человеком.
О, я знаю, в этом нет ничего нового. Часто, очень часто в своем
длительном прошлом отдавал я жизнь, и честь, и власть за любовь. Мужчина
отличен от женщины. Она льнет к непосредственному и знает только насущные
потребности. Мы знаем честь, которая выше ее чести, и гордость, которая выше
самых фантастических грез ее гордости. Глаза наши видят далеко, видят
звезды; глаза женщины не видят ничего дальше твердой земли под ее ногами,
груди любовника на ее груди и здорового младенца на ее руке. И все же --
такова уж алхимия веков -- женщина волшебно действует на наши грезы.
Женщина, как верно говорят любовники, дороже всего мира. И это правильно,
иначе мужчина не был бы мужчиной, бойцом и завоевателем, прокладывающим свой
кровавый путь по трупам более слабых существ, -- ибо не будь мужчина
любовником, царственным любовником, он никогда не мог бы сделаться
царственным бойцом. Лучше всего мы деремся, и лучше всего умираем, и лучше
всего живем за то, что мы любим.
Этот единый мужчина воплощен во мне. Я вижу мои многочисленные "я",
составившие меня. И вечно я вижу женщину, многих женщин, создавших меня и
погубивших меня, любивших меня и любимых мною.
Помню -- о, это было давно, когда человеческий род был еще очень юн! --
я изготовил силки и вырыл яму с остроконечным колом посредине, чтобы поймать
кинжалозубого тигра с длинными клыками и длинной шерстью. Он был главной
опасностью для нас; он ночью подкрадывался к нашим кострам, подкапывал
берег, где мы в соленой отмели находили съедобные ракушки.
И когда рев и вой кинжалозубого заставил нас проснуться над угасающим
костром, и я вылез посмотреть, удалась ли моя затея с ямой и колом, то
женщина, обхватив меня ногами, обвив руками, дралась со мною и удерживала,
не давая мне выйти во тьму, как мне того хотелось. Она была только для
теплоты полуприкрыта шкурой животных, убитых мною; она была черна и грязна
от дыма костров; она не мылась со времени весенних дождей, с изгрызанными,
изломанными ногтями; на руках ее были мозоли, как на ногах зверя, и руки эти
похожи были на когтистые лапы; но глаза ее были сини, как летнее небо, как
глубокое море, и что-то было в ее глазах, и в руках, обвивавших меня, и в
сердце, бившемся рядом с моим, -- было нечто, удержавшее меня... несмотря на
то, что с вечера до самой зари кинжалозубый ревел от боли и ярости, и мои
товарищи шушукались и хихикали со своими женщинами, посмеивались над тем,
что я не верю в свое предприятие и изобретательность и не смею ночью выйти к
яме и колу, которые изготовил для того, чтобы поймать кинжалозубого. Но моя
женщина, моя дикая подруга, удерживала меня, и глаза ее влекли меня, руки ее
сковывали меня, -- и обвивавшие меня ноги и бьющееся сердце отвлекли меня от
моей грезы, от мужского подвига, от цели, заманчивее всех других целей -- от
того, чтобы взять и убить зверя на колу в яме.
Некогда я был Ушу, стрелок из лука. Я хорошо это помню. Я отбился от
своего народа в огромном лесу, вышел на равнину и был взят в плен незнакомым
народом, родственным моему: кожа у них тоже была белая, волосы желтые и речь
не слишком отличалась от нашей. Была там Игарь; я привлек ее своими песнями
в сумерках, ибо ей суждено было сделаться матерью нового рода. Она была
широкоплеча и полногруда, и ее не мог не увлечь мускулистый, с широкой
грудью мужчина, распевавший о своей доблести, об убийстве врагов и добывании
мяса и обещавший ей таким образом еду и защиту на то время, когда она будет
вынашивать потомство, которому суждено охотиться за мясом и жить после нее.
Эти люди не знали мудрых уловок моего племени; они добывали свое мясо
силками и ямами, убивая зверей палицами и камнями, им были неведомы свойства
быстролетной стрелы, зазубренной на одном конце, чтобы ее можно было
натягивать на крепко скрученную из оленьей жилы тетиву.
Покуда я пел, иноземные мужчины посмеивались. И только она, Игарь,
поверила мне. Я взял ее одну на охоту к водопою, куда приходили олени. Мой
лук задрожал и запел в засаде -- и олень пал, мгновенно сраженный, и сладко
было горячее мясо для нас, и я овладел ею здесь, у водопоя.
И из-за Игари я остался с чужим народом. Я научил их делать луки из
красного пахучего дерева, похожего на кедр. Я научил их держать оба глаза
открытыми и прицеливаться левым, делать тупые стрелы для мелкой дичи и
остроконечные стрелы из костей для рыбы в прозрачной воде и насаживать
острые куски обсидиана на стрелы для охоты на оленей и дикую лошадь, на лося
и на старого кинжалозубого тигра. Они смеялись над обтачиванием камней, пока
я насквозь не прострелил лося и обточенный камень не вышел наружу, а
оперенное древко стрелы не застряло во внутренностях животного. Все племя
тогда хвалило меня!
Я был Ушу-стрелок, а Игарь была моей женой и подругой. Мы смеялись под
солнцем по утрам, когда наши мальчик и девочка, желтые как медовые пчелы,
валялись и катались по желтому полю горчицы, а ночью она лежала в моих
объятиях, любила меня и уговаривала меня использовать искусство обрабатывать
дерево и делать наконечники для стрел из камней, чтобы я мог сидеть в лагере
и предоставить другим мужчинам приносить мне мясо с опасной охоты; и я
послушался ее, пополнел, у меня сделалась одышка, и в длинные ночи,
ворочаясь в бессоннице, я горевал над тем, что мужчины чужого племени
приносили мне мясо за мою мудрость, но смеялись над моей толщиной и
нежеланием охотиться.
И в старости, когда наши сыновья превратились в мужей, а дочери стали
матерями, когда с юга, как волны морские, на нас нахлынули смуглые люди с
плоскими лбами, с хохлатыми головами, и мы бежали перед ними на горные
склоны, Игарь, подобно моим подругам до и после нее, обвившись вокруг меня
всем телом, старалась удержать меня подальше от битвы.
И я оторвался от нее, несмотря на свою одышку и тучность, несмотря на
то, что она плакала, будто я разлюбил ее; я пошел и дрался ночью и на
рассвете, и под пение тетив и свист оперенных, с острыми наконечниками,
стрел мы показали им, этим хохлатоголовым, искусство боя, показали им, что
такое уменье и воля сражаться!
И когда я умирал в конце этой битвы, то вокруг меня зазвучали смертные
песни, и песни эти пели о том, что я был Ушу-стрелок из лука, а Игарь, моя
подруга, обвившись вокруг меня всем телом, хотела меня удержать от участия в
битве.
Однажды -- одно небо знает, когда это было -- очень, очень давно, когда
человек был юн, -- мы жили у великих озер, где холмы обступили широкую,
лениво текущую реку и где наши женщины добывали ягоды и съедобные корешки;
здесь были целые стада оленей, диких лошадей, антилоп и лосей, и мы,
мужчины, убивали их стрелами и ловили, загоняя в ямы или ущелья. А мы ловили
рыбу сетями, сплетенными женщиной из коры молодых деревьев.
Я был мужчина, горячий и любопытный, как антилопы, которых мы
заманивали, размахивая пучками травы из нашей засады в высокой траве. Дикий
рис рос на болоте, поднимаясь из воды у края канав. Каждое утро нас будили
своим щебетаньем дрозды, летавшие со своих гнезд на болото. А вечером воздух
наполнялся их шумом, когда они летели обратно в свои гнезда. Это было время
созревания риса. Были там утки, и утки и дрозды отъедались до тучности
спелым рисом, наполовину вышелушенным солнцем.
Всегда беспокойный, всегда пытливый, я хотел знать, что лежит за
холмами, за болотами и в тине на дне реки, я наблюдал диких уток и дроздов и
размышлял, пока мои мысли не сложились в видение. Вот что я увидел, вот
мысль моя.
Мясо хорошо есть. В конце концов, если проследить назад или, вернее, до
начала всего, мясо происходит от травы. Мясо уток и дроздов -- от семени
болотного риса. Убить утку стрелой едва ли оправдывало труд по выслеживанию
ее и долгие часы лежания в засаде. Дрозды были слишком малы, чтобы убивать
их стрелами, это было занятие разве что для мальчишки, который учится
стрелять и готовится к охоте на крупную дичь. Между тем в период созревания
риса дрозды и утки жирели и становились сочными. Жир их был от риса. Почему
же мне и близким моим не жиреть от риса таким же образом?
Все это я думал, сидя в лагере, угрюмый, безмолвный, покуда дети шумели
вокруг меня, а Аарунга, моя жена и подруга, тщетно бранила меня, посылая на
охоту -- принести мясо для нашей многочисленной семьи.
Аарунга была женщина, которую я украл у горного племени. Мы с нею целый
год учились понимать друг друга после того, как я полонил ее. В тот день,
когда я прыгнул на нее с нависшего древесного сука, она медленно шла по
тропинке. Всем своим телом я навалился ей на плечи, широко расставив пальцы,
чтобы схватить ее. Она завизжала, как кошка. Она дралась, кусалась, ногти ее
рук подобны были когтям дикой кошки, и она терзала меня ими. Но я удержал
ее, и овладел ею, и два дня подряд бил ее, и заставил уйти со мною из ущелий
горных людей на широкие равнины, где река протекала через рисовые болота и
утки и дрозды отъедались до тучности.
Когда рис созрел, я посадил Аарунгу на носу выдолбленного огнем
древесного ствола, этого грубого прообраза лодки. Я дал ей лопатку. На корме
же я разостлал выдолбленную ею оленью шкуру. Двумя толстыми палками я сгибал
стебли над оленьей шкурой и выколачивал зерна, иначе их бы поели дрозды. И
когда и выработал нужный прием, я дал две толстые палки Аарунге, а сам сидел
на корме, гребя и направляя ее работу.
В прошлом мы случайно ели сырой рис, и он нам не нравился. Теперь же мы
поджаривали его над огнем, так что зерна раздувались и лопались до белизны,
и все племя бегало отведывать его.
После этого нас стали называть Едоками Риса и Сынами Риса. И много
спустя после этого, когда Сыны Реки прогнали нас с болот на горы, мы взяли с
собой рис и посадили его. Мы научились отбирать на семя самые крупные зерна,
так что рис, который мы после того ели, был и крупнее, и мучнистее при
поджаривании и варке.
Но вернемся к Аарунге. Как я уже говорил, она визжала и царапалась, как
кошка, когда я похищал ее. И я помню время, когда ее родня, горные люди,
поймали меня и унесли в горы. Это были ее отец, брат отца и двое ее кровных
братьев. Но она была моя и жила со мною. И ночью, когда я лежал связанный,
как дикая свинья, приготовленная к убою, а они, усталые, крепко спали у
костра, она подобралась к ним ползком и размозжила им головы боевой палицей,
сделанной моими руками. Она поплакала надо мной, развязала меня и убежала со
мной обратно к широкой, ленивой реке, где дрозды и дикие утки кормились на
болотах, -- это было до прихода Сынов Реки.
Ибо она была Аарунга, единственная женщина, вечная женщина. Она жила во
все времена и была во всех местах. Она всегда будет жить. Она бессмертна.
Некогда в далеком краю ее имя было Руфь. Ее же звали Изольдой, Еленой,
Покагонтас и Унгой; и чужаки, из других племен, всегда находили ее и будут
находить в племенах всей земли.
Я помню много женщин, участвовавших в создании одной-единственной
женщины. Было время, когда Гар, мой брат, и я, поочередно предаваясь сну и
выслеживанию, гнались за диким жеребцом днем и ночью и широкими кругами,
которые смыкались там, где лежал спящий, довели жеребца голодом и жаждой до
кротости и слабости, так что в конце концов он мог только стоять и дрожать,
пока мы обвязывали его веревкой, сплетенной из оленьей кожи. Без труда,
только при помощи сообразительности -- я изобрел этот план! -- мы с братом
овладели быстроногим созданием и полонили его.
И когда все было готово для того, чтобы я сел коню на спину -- ибо
такова была моя мечта с первой же минуты, -- Сельпа, моя жена, обвила меня
руками и подняла крик, стала настаивать, что ехать должен Гар, а не я, ибо у
Гара нет ни жены, ни малюток и он может умереть без вреда для кого бы то ни
было. В конце концов она подняла плач, и Гар, нагой и цепкий, вскочил на
жеребца, и тот унес его.
На закате, с великими стенаниями, Гара принесли с далеких скал, где
нашли его тело. Голова его была разбита, и, как мед с упавшего дерева с
ульем, капали его мозги наземь. Его мать посыпала пеплом голову и вымазала
сажей лицо. Отец отрубил себе наполовину пальцы на одной руке в знак горя. А
женщины, в особенности молодые и незамужние, с визгом метали в меня бранные
слова; старики качали своими мудрыми головами и бормотали, что ни их отцы,
ни отцы их отцов не делали таких безумств. Лошадиное мясо хорошо есть;
молодая жеребятина мягка для старых зубов; и только глупец может близко
подойти к дикому коню, если он не пронзен стрелою или колом в яме.
Сельпа бранила меня до тех пор, пока я не уснул, а утром разбудила меня
своей трескотней; она осуждала мое безумие, заявляла свои права на меня и
права наших детей, так что мне это надоело, я оставил свои мечты и сказал,
что больше не буду и думать о том, чтобы сесть на дикого коня и скакать с
быстротой его ног и ветра по пескам и лугам.
Но проходили годы, и повесть о моем безумии не сходила с языка людей у
лагерных костров; и эти рассказы были моей местью, ибо мечта не умирала, и
молодые, слушая смех и издевки, передумывали ее заново, так что в конце
концов мой старший сын Отар, совсем юноша, обуздал дикого жеребца, вскочил к
нему на спину и полетел от нас с быстротой ветра. И после того, не желая
отставать от него, все мужчины уже ловили и укрощали диких коней. Много
коней и несколько мужчин погибло, но я дожил до того момента, когда, при
перемене стоянок в погоне за дичью, мы сажали наших младенцев в корзины из
лозы, переброшенные через спины коней, и те несли наши лагерную утварь и
пожитки.
Мне, когда я был молод, явилось видение: женщина, Сельпа, удерживала
меня от осуществления моей грезы; но Отар, наше семя, которому суждено было
жить после нас, осуществил мою мечту, так что наше племя теперь было богато
от удачной охоты.
Еще была одна женщина -- во время великого переселения из Европы, во
время скитаний многих поколений, когда мы ввели в Индии короткорогих овец и
посевы ячменя. Но эта женщина была задолго до того, как мы добрались до
Индии, мы находились еще в самом начале этих многовековых скитаний, и сейчас
я не могу вспомнить, в каком месте могла находиться та древняя долина.
Эта женщина была Нугила. Долина была узкая и длинная, и, кроме того,
скат ее и дно и ее крутые стены были изрыты террасами для взращивания риса и
проса -- первого риса и первого проса, которые узнали мы, Сыны Горы. В этой
долине жило смирное племя. Оно стало таким благодаря возделыванию
плодородной земли, еще более тучневшей от воды. У них-то мы впервые увидели
искусственное орошение, хотя у нас мало было времени наблюдать их канавы и
каналы, по которым горные воды стекали на поля. Времени у нас было мало,
потому что мы, Сыны Горы, малые числом, бежали от Сынов Шишконосого, которых
было много. Мы звали их Безносыми, а они называли себя Сынами Орла. Но их
было много, и мы бежали от них с нашим короткорогим скотом, с козами и
зернами ячменя, с женами и детьми.
Пока Шишконосые убивали нашу молодежь позади нас, мы убивали впереди
себя жителей долины, восставших против нас, но очень слабых. Поселения их
состояли из глинобитных, крытых соломою, хижин. Кругом селений шли
глинобитные стены значительной высоты. И когда мы перебили людей,
построивших стены, и укрыли за ними наши стада, наших женщин и детей, мы
стали на стене и бранили Шишконосых. Ибо мы застали глинобитные житницы
полными риса и проса. Скотина наша могла есть солому с крыш, и приближалось
время дождей, так что мы не знали нужды в воде.
Осада была продолжительная. Вначале мы собрали вместе женщин, стариков
и детей, которых не успели убить, и выгнали их за стены, построенные ими, и
Шишконосые убили их всех до последнего; в селении осталось больше пищи для
нас, а в долине -- для Шишконосых.
Это была утомительная, долгая осада. Болезни истребляли нас, и мы
умирали от мора, исходившего от плохо погребенных нами мертвецов. Мы
очистили глинобитные житницы от риса и проса. Наши козы и овцы ели солому с
крыш, а мы, пока не пришел конец, ели овец и коз.
Наступило время, когда из каждых пяти мужчин на стене остался один; из
полусотни младенцев и отроков не осталось ни одного. Нугила, моя жена,
отрезала себе волосы и сплела из них крепкую тетиву для моего лука. Прочие
женщины последовали ее примеру, и когда стена была атакована, они стали
плечом к плечу с нами, среди наших копий и стрел, и обрушивали груды
горшечных черепков и камней на головы Шишконосых.
Мы в конце концов почти перехитрили Шишконосых. Наступило время, когда
из каждых десяти мужчин на стене остался только один, а наших женщин
осталось совсем немного; и Шишконосые вступили в переговоры. Они объявили
нам, что мы крепкая порода, и что наши женщины способны рожать мужчин; если
мы отдадим им наших женщин, они оставят нам во владение долину, а женщин мы
себе добудем из долины южнее.
Но Нугила сказала -- нет, другие женщины также сказали -- нет. Мы
издевались над Шишконосыми и спрашивали их: неужели они устали сражаться? И
в то время как мы издевались над нашими врагами, мы были почти что мертвецы;
драться мы не могли, так мы ослабели. Еще один приступ на стену -- и нам
конец. Мы это знали. Наши женщины тоже это знали. И Нугила предложила нам
сделать это самим и оставить Шишконосых в дураках. Все женщины согласились с
нею. И пока Шишконосые готовились к последней атаке, мы на стене убивали
наших женщин. Нугила любила меня и склонилась грудью на мой меч здесь же, на
стене. А мы, мужчины, во имя любви к племени и к соплеменникам убивали друг
друга, пока от всей этой багровой резни не остались только Горда и я. Горда
был мой старший сын, и я склонился на его меч. Но не сразу я умер. Я был
последним из Сынов Горы, ибо на моих глазах Горда, пав на свой меч, быстро
скончался. Я умирал, смутно слыша вопли наступавших Шишконосых, и радовался
тому, что нашим женщинам не придется воспитывать их сыновей.
Не знаю, в какое время я был Сыном Горы и когда мы умирали в узкой
долине, где перебили Сынов Риса и Проса. Знаю только, что это случилось за
много столетий до великого переселения всех Сынов Горы в Индию и задолго до
того, как я был арийским владыкой в Древнем Египте и строил себе
погребальный склеп, разрывая могилы царей, похороненных до меня.
Я многое мог бы рассказать об этих далеких днях, но времени остается
мало. Скоро я умру. И все же мне жаль, что я не могу рассказать подробнее об
этих древних переселениях.
Мне хочется поговорить о Тайне. Ибо нас всегда тянет разрешать тайны
жизни, смерти и угасания. В отличие от прочих животных, человек всегда
глядел на звезды. Много богов создал он по своему образу и подобию своих
влечений. В те древние времена я поклонялся солнцу и тьме. Я поклонялся
очищенному рисовому зерну, как праотцу жизни. Я преклонялся Сар, богине
злаков. Я поклонялся морским богам и речным богам.
Я помню Иштар еще до того, как ее украли у нас вавилоняне. Эа также
была наша, она царила в подземном мире, давшем Иштар возможность победить
смерть. Добрым арийским богом был и Митра, до того как его у нас украли или
пока мы от него не отказались. Я помню, что однажды, спустя много времени
после переселения в Индию, куда мы занесли ячмень, я отправился в Индию
лошадиным барышником с моими слугами и длинным караваном, и помню, что в это
время мы поклонялись Бодисатве.
Действительно, поклонение таинственному так же странствовало, как и
люди, и боги вели такую же бродячую жизнь, как и народы. Как сумерийцы
заимствовали у нас Шамашнапиштина, так сыны Сима похитили его у сумерийцев и
назвали его Ноем.
Я, Дэррель Стэндинг, в Коридоре Убийц улыбаюсь теперь тому, что меня
признали виновным и приговорили к смерти двенадцать дюжих и добросовестных
присяжных. Двенадцать всегда было магическое число -- число Тайны. Оно
родилось не во времена двенадцати племен Израилевых. Задолго до Израиля
звездочеты наметили двенадцать знаков Зодиака в небесах. И помню, когда я
был Ассиром и Ваниром. Один судил людей в сонме двенадцати богов, и имена их
были: Тор, Бальдур, Ниорд, Фрей, Тюр, Бреги, Геймдаль, Годер, Видар, Улль,
Форсети и Локи.
У нас украли даже наших валькирий, превратив их в ангелов, и крылья
коней валькирий оказались прикрепленными к плечам ангелов. И тогдашний наш
Гельгейм, царство льда и мороза, сделался нынешней нашей преисподней, в
которой так жарко, что кровь кипит в жилах грешников, между тем как у нас, в
нашем Гельгейме, царил такой холод, что мозг замерзал в костях. И само небо,
которое мы считали нетленным и вечным, переселялось и колебалось, так что в
настоящее время мы видим созвездие Скорпиона на том месте, где встарь
находилась Коза, и Стрельца на месте Рака.
Культы и культы! Вечное преследование Тайны. Я помню хромого бога
греков, кузнеца. Но греческий Вулкан был и германский Виланд, кузнец,
которого поймал и сделал хромым, подрезав ему поджилки, Нидунг, царь нидов.
Еще раньше он был нашим богом кузнецов, и мы его называли Ильмаринен. Мы
родили его в нашем воображении, дав ему в отцы бородатого солнечного бога и
в воспитатели -- звезды Большой Медведицы. Ибо бог Вулкан, или Виланд, или
Ильмаринен, родился под сосною от волоска волка и назывался отцом Медведя
задолго до того, как его стали обожествлять германцы и греки. В те дни мы
себя называли Сынами Медведя и Сынами Волка, и медведь и волк были у нас
священными животными. Это было задолго до нашего переселения на юг, во время
которого мы соединились с Сынами Древесной Рощи и передали им наши легенды и
сказания.
Да, а кто был Кашияна, он же Пуруровас, как не наш храбрый кузнец,
которого мы брали с собой в наших скитаниях и переименовывали и
обожествляли, когда жили на юге и на востоке, когда были Сынами Полюса и
Сынами Огневого Ручья и Огневой Бездны?
Но рассказывать это -- слишком долгая история, хотя мне хотелось бы
рассказать о трехлистном зелье жизни, при помощи которого Сигмунд возвратил
к жизни Синфиоти, ибо это было то же самое, что индийское растение Сома...
или о святой чаше Грааля, короля Артура, или... -- но довольно! Довольно!
Спокойно обсуждая все это, я прихожу к выводу, что величайшей вещью в
жизни, во всех жизнях, моей и всех людей, была женщина, и есть женщина, и
будет женщина, доколе звезды движутся в небе и небеса изменяются в вечном
течении. Превыше наших трудов и усилий, превыше игры воображения и
изобретательности, битв, созерцания звезд и Тайны -- превыше всего этого
была женщина.
Даже когда она фальшиво пела мне песни, и влекла мои ноги к неподвижной
земле, и отводила мои глаза, созерцающие звезды, к земле, заставляя глядеть
на нее, -- она, хранительница жизни, мать земная, дарила мне лучшие мои дни
и ночи и всю полноту лет. Даже Тайну я представлял себе в ее образе, и,
вычерчивая карту звезд, ее фигуру я поместил на небе.
Все мои труды и изобретения приводили к ней: все мои мечты и грезы
видели ее в конце. Для нее добыл я огонь. Для нее, не сознавая этого, я
вбивал кол в яму, чтобы ловить зверей, укрощал коней, убивал мамонта и гнал
свои стада северных оленей к югу, отступая перед надвигавшимися ледниками.
Для нее я жал дикий рис и сеял ячмень, пшеницу и рожь.
За нее и за потомство, которое она должна была родить по своему образу,
я умирал на вершинах деревьев и выдерживал долгие осады в пещерах и на
глинобитных стенах. Для нее я поместил на небе двенадцать знаков Зодиака. Ей
я поклонялся, склонившись перед десятью камнями из нефрита и обожествляя их
как фазы подвижничества, как десять лунных месяцев пред тайной рождения.
Всегда женщину тянуло к земле, как куропатку, выхаживающую птенцов;
всегда моя бродячая натура сбивала меня на блестящие пути, и всегда мои
звездные тропинки возвращали меня к ней, к вечной фигуре женщины,
единственной женщины, объятия которой так мне были нужны, что в них я
забывал о звездах.
Ради нее я совершал одиссеи, всходил на горы, пересекал пустыни; ради
нее я был первым на охоте и первым в сражении; и ради нее и для нее я пел
песни о подвигах, совершенных мною. Все экстазы жизни и все восторги
принадлежали мне, и ради нее. И вот в конце могу сказать, что я не знал
более сладкого и глубокого безумия, чем какое испытывал, утопая и забываясь
в ароматных волнах ее волос.
Еще одно слово. Я вижу перед собой Дороти в те дни, когда еще читал
лекции по агрономии крестьянамстудентам. Ей было одиннадцать лет. Отец ее
был деканом колледжа. Это была женщина-ребенок, и она понимала, что любит
меня. А я улыбался про себя, ибо сердце мое было нетронуто и тянулось в
другом направлении.
Но как нежна была эта улыбка! В глазах ребенка я видел все ту же вечную
женщину, женщину всех времен и всех образов. В ее глазах я видел глаза моей
подруги льдов и древесных вершин, и пещеры, и стоянки у костра. В ее глазах
я видел глаза Игарь, когда сам был стрелком Ушу, Глаза Аарунги, когда я был
жнецом риса. Глаза Сельпы, когда я мечтал оседлать жеребца, и глаза Нугилы,
павшей на острие моего меча. Было в ее глазах то, что делало их глазами
Леи-Леи, которую я помню со смехом на устах, глаза княжны Ом, сорок лет
делившей со мной нищенство и скитания по большим дорогам, глаза Филиппы, за
которую я был убит на лужайке в старинной Франции. Глаза моей матери, когда
я был мальчиком Джессом на Горных Лугах, в кругу наших больших сорока
повозок...
Это была женщина-ребенок, но она была дочерью всех женщин, как и мать
ее, жившая до нее; и она была матерью всех грядущих женщин, которые будут
жить после нее. Она была Сар, богиня злаков. Она была Иштар, покорившая
смерть. Она была Царицей Савской и Клеопатрой, Эсфирью и Иродиадой. Она была
Марией Богоматерью и Марией Магдалиной, и Марией, сестрой Марфы, и самой
Марфой. Она была Брунгильдой и Женевьевой, Изольдой и Джульеттой, Элоизой и
Николеттой. Она была Евой, Лилит и Астартой. Ей было всего одиннадцать лет,
но в ней были все женщины прошлого и будущего.
И вот сижу я в своей камере, мухи жужжат в сонное летнее предвечерье, и
я знаю, что сроку мне осталось немного. Скоро, скоро наденут на меня рубаху
без ворота... Но умолкни, сердце! Дух бессмертен. После тьмы я опять оживу,
и опять будут женщины! Грядущее приготовило для меня милых женщин в тех
жизнях, которые мне еще предстоит прожить. И хотя звезды текут и небеса
лгут, но вечной остается женщина -- блестящая, вечная, единственная женщина,
-- как и я, под всеми масками и злоключениями своими, остаюсь единственным
мужчиной, ее другом и супругом.
У меня мало времени. Вся рукопись, все написанное мною до сих пор
благополучно вынесено контрабандой из тюрьмы. Есть человек, которому я могу
довериться, и который позаботится о том, чтобы она была напечатана. Я уже не
нахожусь в Коридоре Убийц. Эти строки я пишу в Камере Смертников. И стража
смертников следит за мной. День и ночь бодрствует надо мной эта стража, и
парадоксальное ее назначение заключается в том, чтобы не дать мне умереть. Я
должен уцелеть для повешения, иначе публика почувствует себя обманутой,
закон будет посрамлен, и падет тень на раболепного смотрителя тюрьмы,
который управляет ею и в число обязанностей которого входит наблюдение за
тем, чтобы смертники были должным и пристойным образом повешены. Часто я
задумываюсь над тем, какие странные у людей способы кормиться!..
Это будут последние мои строки. Час назначен на завтра, на утро.
Губернатор отказался помиловать меня или отсрочить исполнение приговора,
несмотря на то, что Лига борьбы со смертной казнью подняла большой шум в
Калифорнии. Репортеры собрались, как воронье. Я всех их видел. В большинстве
это потешные юнцы, и всего удивительнее то, что они хотят заработать на хлеб
и на масло, на выпивку и табак, на квартирную плату, а кто женат -- на
башмаки и учебники для детей -- присутствием при казни Дэрреля Стэндинга,
описав публике, как профессор Дэррель Стэндинг умер на конце веревки. О, в
конце этого дела они себя будут чувствовать хуже, чем я!
Я сижу и думаю обо всем этом, прислушиваясь к шагам стражей,
расхаживающих взад и вперед перед моей клеткой и подозрительным оком
поглядывающих на меня время от времени.
Я, наконец, устал от этого вечного подглядывания! Я прожил столько
жизней! Я устал от бесконечной борьбы, страданий и катастроф, подстерегающих
тех, кто сидит на высоком месте, ступает по блестящим стезям и скитается
среди звезд.
Надеюсь, что когда я в следующий раз воплощусь в телесную форму, то это
будет тело мирного фермера. Мечтаю о ферме. Я хотел бы отдать такой ферме
всю свою жизнь. О, мои грезы! Мои луга альфы, моя породистая джерсейская
скотина, мои нагорные пастбища, холмы, поросшие кустарником и незаметно
переходящие в возделанное поле, и мои ангорские козы, поднимающиеся по
горным склонам и беспощадно объедающие кусты!
Там имеется бассейн, естественный водоем с прекрасным водоразделом,
защищенный горами с трех сторон. Мне хотелось бы построить дамбу с четвертой
стороны, поразительно узкой. Ценой небольшого труда я мог бы заключить таким
образом в ограду двадцать миллионов галлонов воды. Ведь вы знаете, что одной
из невыгод сельского хозяйства в Калифорнии является продолжительное
засушливое лето. Зной не дает возможности сажать защитные растения, и
перегной чувствительной почвы, обнаженный и распыленный, перегорает на
солнце. Устрой я такую плотину, я мог бы собирать в год три урожая, соблюдая
севооборот и смены зеленого пара.
Только что я вытерпел визит смотрителя. Я нарочно говорю "вытерпел". Он
совершенно непохож на смотрителя Сан-Квэнтина. Он очень нервничал, и мне
поневоле пришлось занимать его. Это его первое повешение. Так он сам мне
сказал. Я неуклюже пытался сострить, объявив, что это и м о е первое
повешение, но все же не успокоил его. Он не в состоянии был засмеяться. У
него дочь учится в высшей школе, и мальчик только что поступил в Стэнфорд.
Кроме жалованья, у него нет других доходов, жена у него инвалид, и его очень
огорчает то, что директор страхового общества отказался принять его на
страховку под предлогом нежелательного риска.
Этот человек, в сущности, рассказал мне все свои беды. Если бы я
дипломатически не оборвал свидания, он еще до сих пор сидел бы у меня и
рассказывал!
Последние два года, проведенные мною в Сан-Квэнтине, были очень мрачны
и унылы. Эд Моррель, по одному из диких капризов случая, был выпущен из
одиночки и сделан главным старостой всей тюрьмы. Это была должность Эля
Гетчинса, приносившая доходу три тысячи долларов в год. На мое несчастье,
Джек Оппенгеймер, столько лет гнивший в одиночке, обозлился на весь свет, на
всех. В течение восьми месяцев он отказывался разговаривать даже со мною!
В тюрьме новости распространяются. Дайте только время -- и новость
дойдет и до карцера, и до камеры одиночного узника. Дошло наконец и до меня
известие, что Сесиль Винвуд -- поэт-сочинитель пьес и доносчик -- вернулся в
тюрьму за новое преступление. Вы должны припомнить, что именно Сесиль Винвуд
сочинил волшебную сказку, будто бы я переменил тайник несуществующего
динамита, и что именно он виноват в пяти годах одиночки, к которым меня
присудили.
Я решил убить Сесиля Винвуда. Моррель ушел, а Оппенгеймер до вспышки,
прикончившей его, хранил молчание. Одиночка сделалась для меня невыносимой.
Мне нужно было сделать что-нибудь. И вот я вспомнил время, когда я был
Адамом Стрэнгом и терпеливо вынашивал месть в течение сорока лет. Что сделал
он, могу сделать и я, если мне только удастся когда-нибудь наложить руку на
горло Сесиля Винвуда.
От меня никто не станет требовать, чтобы я рассказал, как в мои руки
попали четыре иголки; это были тонкие иголки для шитья по батисту. Как я ни
был худ, мне все же пришлось перепилить четыре железных прута, каждый в двух
местах, чтобы проделать отверстие, сквозь которое я мог бы протиснуться. Я
это все сделал. Я израсходовал по иголке на каждый прут. Это значит -- два
разреза на прут; и каждый разрез отнял месяц времени. Таким образом, мне
понадобилось восемь месяцев, чтобы выбраться вон. К несчастью, на последнем
пруте я сломал последнюю иголку -- и мне пришлось ждать целых три месяца,
пока я мог раздобыть другую.
Но я добыл ее и вышел из камеры.
Я страшно жалею, что не поймал Сесиля Винвуда! Я все хорошо рассчитал,
кроме одной мелочи. Всего скорее можно было найти Винвуда в столовой в
обеденный час. И вот я дождался, пока Пестролицего Джонса, сонливого
сторожа, послали на смену в полуденный час. К этому времени я был
единственным обитателем одиночки, так как Пестролицый Джонс скоро захрапел.
Я раздвинул прутья, вылез, прокрался мимо него по коридору, отворил дверь и
вышел... в другую часть тюрьмы!
И тут я не принял в соображение одного -- себя самого. Я пять лет
просидел в одиночной камере. Я чудовищно ослабел. Я весил всего восемьдесят
семь фунтов; я наполовину ослеп. Я мгновенно заболел агорафобией -- боязнью
пространства. Меня испугало открытое место. Пять лет сидения в тесных стенах
сделали меня совершенно непригодным для спуска по страшной крутизне
лестницы, непригодным для просторов тюремного двора.
Спуск по этой лестнице я считаю самым героическим подвигом, когда-либо
совершенным мною. Во дворе было пусто. Яркое солнце заливало его
ослепительным светом. Трижды я пытался перейти его. Но у меня кружилась
голова, и я отступал обратно к стене, под ее защиту. Наконец, собрав все
свое мужество, я попытался двинуться вперед. Но мои бедные полуслепые глаза,
глаза летучей мыши, испугались моей собственной тени на каменных плитах. Я
попробовал обойти мою собственную тень, споткнулся, упал на нее и, как
утопающий, рвущийся к берегу, пополз на руках и коленях обратно к стене.
Прислонившись к стене, я заплакал. Я плакал в первый раз за много лет.
Я помню, что в тот момент я успел ощутить теплоту слез на моих щеках, их
соленый вкус на моих губах. На меня напал озноб, и некоторое время я трясся
мелкой дрожью. Странствие по пустыне двора было совершенно невозможным
подвигом для человека в моем положении, и все же, трясясь от озноба,
прижимаясь к стене, ощупывая ее руками, я начал обходить двор. И тут, надо
полагать, меня и увидел сторож Серстон. Я увидел его образ, искаженный моим
помутившимся взором, -- образ огромного упитанного чудовища, бросившегося на
меня с невероятной быстротой из отдаленного угла. Возможно, что в тот момент
он находился от меня в расстоянии двадцати футов. Весу в нем было сто
семьдесят фунтов. Нетрудно представить себе, какого рода борьба между нами
происходила, но как-то вышло, что в этой борьбе я ударил его кулаком по
носу, и из этого органа потекла кровь.
Как бы там ни было, я -- вечник, а в Калифорнии наказание вечнику за
драку только одно -- смерть; меня присудили к смерти присяжные, которые не
могли игнорировать утверждений сторожа Серстона и прочих тюремных собак, а
судья, который не мог игнорировать закона, очень ясно изложенного в
уголовном кодексе, приговорил меня к повешению.
Меня изрядно исколотил Серстон, и весь обратный путь по этой ужасной
лестнице меня пинали, колотили и награждали затрещинами старосты и сторожа,
сбивавшие друг друга с ног в усердии помочь Серстону. Если у него пошла из
носу кровь, то, скорей всего, от того, что кто-нибудь из его же товарищей
ушиб его в свалке. Я ничего не имел бы против того, чтобы в этом была моя
вина; но ужасно быть повешенным за такой пустяк!
Я только что беседовал с человеком, несущим при мне дежурство. Меньше
года назад Джек Оппенгеймер занимал эту самую камеру на пути к виселице, по
которому завтра пойду и я. И этот человек был один из сторожей Джека. Он
старый солдат. Он непрерывно и неопрятно жует табак, его седая борода и усы
в желтых пятнах. Он вдовец, у него четырнадцать живых детей, сплошь
семейных, тридцать один внук и четыре правнучки. Выудить у него эти сведения
было так же трудно, как выдернуть зуб человеку! Это старый чудак, не
особенно развитой. Вот почему, кажется мне, он прожил так долго и народил
столь многочисленное потомство. Ум его застыл, наверное, лет тридцать тому
назад, и мысли его ровно настолько же отстали от нашего времени. Все его
ответы на мои вопросы сводятся большей частью к словам "да" или "нет". И это
не потому, чтобы он был угрюм, -- у него просто нет мыслей, которыми бы
стоило делиться, не знаю, когда я опять оживу, но воплощение в человеке
такого рода дало бы мне славное растительное существование, отличный отдых
перед тем, как вновь отправиться в скитания меж звезд...
Но вернемся к моему повествованию. Я остановился на том, как меня
пинали, толкали и били, таща вверх по лестнице, Серстон и остальные тюремные
псы; очутившись в своей тесной одиночке, я испытал чувство бесконечного
облегчения. Там было так безопасно, так спокойно! У меня было чувство
ребенка, заблудившегося и попавшего наконец домой. Я полюбил те самые стены,
которые так ненавидел в течение пяти лет. От пугающего чудовищного
пространства отгораживали меня именно эти славные толстые стены, с каждой
стороны находившиеся близко, под рукой! Какая это была ужасная болезнь --
агорафобия! Мне недолго пришлось испытывать ее, но даже и то немногое, что я
испытал, заставляет меня думать, что повешение куда легче...
Только что я посмеялся от души! Тюремный доктор, славный малый, заходил
покалякать со мною и, между прочим, предложил мне свои услуги по части
наркоза. Разумеется, я отклонил его предложение "накачать" меня за ночь
морфием так, чтобы утром, шагая к виселице, я не знал, "иду я к ней или
ухожу от нее"!
Но как же я смеялся! Должно быть, так смеялся Джек Оппенгеймер. Я живо
представляю себе этого человека, как он дурачил репортеров умышленной
чепухой, которую они принимали за чистую монету. Рассказывают, что, когда в
последнее утро, позавтракав, он надел рубаху без ворота, репортеры,
собравшись услышать его последнее слово в камере, спросили его, каковы его
взгляды на смертную казнь.
Ну кто скажет, что на нашей грубой дикости есть хотя бы малейший лак
цивилизации, если группа живых людей может задать такой вопрос человеку,
которому предстоит умереть, и при смерти которого они будут присутствовать?
Но Джек, как всегда, был молодец.
-- Джентльмены, -- сказал он, -- я надеюсь дожить до того дня, когда
смертная казнь будет отменена!
Много жизней я прожил в ряду долгих веков. Человек как индивид не
сделал нравственного прогресса за последние десять тысяч лет. Утверждаю это
категорически. Различие между необъезженным жеребенком и терпеливой ломовой
лошадью обусловливается исключительно различием тренировки. Тренировка --
единственное нравственное отличие современного человека от человека, жившего
за десять тысяч лет до нас. Под тонким слоем морали, наведенной на него как
лак, он такой же дикарь, каким был десять тысяч лет назад. Нравственность
его -- общественный капитал, накопленный долгими веками. Новорожденный
ребенок вырастет дикарем, если его не будут тренировать и полировать
отвлеченной моралью, так долго накоплявшейся.
"Не убий" -- какой вздор! Вот меня убьют завтра утром. "Не убий" --
вздор. На верфях всех цивилизованных стран сейчас закладываются кили
дредноутов и сверхдредноутов. Дорогие друзья, я, идущий на смерть,
приветствую вас словом "вздор!".
Я спрашиваю вас: преподается ли теперь лучшая мораль, чем какой учили
Христос, Будда, Сократ и Платон, Конфуций и неизвестный автор "Махабхараты"?
Боже добрый, пятьдесят тысяч лет назад в наших диких кланах женщины были
чище, а семейные и родственные отношения суровее и справедливее!
Должен сказать, что нравственность, которую мы практиковали в те
далекие дни, была выше нравственности, практикуемой ныне. Не отмахивайтесь
слишком поспешно от этой мысли! Подумайте о детях, угнетенных среди нас
работой, о взяточничестве нашей полиции и политической продажности, о
фальсификации съестных продуктов и о рабстве, в котором томятся дочери
бедного класса. Когда я был Сыном Горы и Сыном Тельца, проституция лишена
была всякого смысла. Мы были чисты, повторяю вам. Нам даже и не снились
нынешние бездны развращенности! Все животные и сейчас так же чисты. Чтобы
изобрести смертные грехи, нужен был человек, с его воображением и его
властью над материей. Низшие животные не способны грешить.
Я быстро пробегаю взглядом многочисленные жизни многочисленных эпох и
многочисленных мест. Я никогда не знал более страшной жестокости, чем
жестокость нашей нынешней тюремной системы. Я уже описывал вам, что я
вытерпел в смирительной рубашке и в одиночной камере в первое десятилетие
двадцатого века нашей эры.
В старину, наказывая, мы убивали быстро. Мы поступали так потому, что
хотели этого, -- по капризу, если угодно. Но мы не лицемерили. Мы не
приглашали прессу, церковные кафедры и университеты освящать нашу дикость и
зверство. Что мы хотели делать, то и делали, не обинуясь, с поднятой
головою; и с поднятой головою встречали укоры и осуждения, а не прятались ни
за юбки классических экономистов и буржуазных философов, ни за юбки
субсидируемых проповедников, профессоров и редакторов.
Помилуйте, сто лет назад, пятьдесят лет назад, пять лет назад в этих
самых Соединенных Штатах нападение и нанесение побоев вовсе не считалось
уголовным преступлением, заслуживающим смертной казни! Но в этом году, в год
от Рождества Христова тысяча девятьсот тринадцатый, в штате Калифорния
повесили Джека Оппенгеймера за такой проступок, а завтра за удар по носу они
выведут и повесят меня! Спрашивается, сколько же нужно времени обезьяне и
тигру, чтобы переродиться или вымереть, когда такие законы вносятся в
кодексы Калифорнии в тысяча девятьсот тринадцатом году по Рождеству
Христову? Боже, Боже, Христа только распяли! Со мною и Джеком Оппенгеймером
поступили гораздо хуже...
Однажды Эд Моррель выстукал мне костяшками пальцев: "Худшее, что можно
сделать из человека, это -- повесить его".
Нет, у меня мало уважения к смертной казни. Это не только грязное дело,
унижающее наемных псов, творящих его за деньги, -- оно унижает республику,
которая терпит смертную казнь, голосует за нее и платит налоги на
поддержание ее. Смертная казнь -- глупое, грубое, страшно ненаучное дело.
"Повесить его за шею, пока он не умрет" -- такова своеобразная юридическая
фразеология...
...Наступило утро -- мое последнее утро. Всю ночь я спал сном младенца.
Я спал так спокойно, что сторож даже испугался. Он решил, что я задушил себя
под одеялом. Просто жаль было видеть, как перетревожился бедняга, -- ведь он
рисковал своим хлебом и маслом!
Если бы это действительно оказалось так, на него легло бы пятно, ему
могло грозить увольнение -- а перспективы безработного человека весьма
печальны в наше время. Мне рассказывали, что в Европе началась ликвидация
многих предприятий два года назад, а теперь дошла очередь до Соединенных
Штатов. Это означает либо деловой кризис, либо тихую панику, и, значит, к
зиме вырастут огромные армии безработных, и у мест раздачи хлеба выстроятся
длинные очереди...
Я позавтракал. Это может показаться глупым, но я ел с аппетитом.
Смотритель пришел с квартой виски. Я презентовал ее Коридору Убийц с моим
приветом. Бедняга смотритель боится, как бы я, если не буду пьян, не наделал
шуму и не набросил тень на его управление тюрьмой...
На меня надели рубаху без ворота...
Кажется, я нынче очень важная особа. Множество людей вдруг
заинтересовались мною!..
Только что ушел доктор. Он пощупал мой пульс -- я просил его об этом.
Пульс нормальный...
Я записываю эти случайные мысли, и листок за листком тайно уходит за
стены тюрьмы...
Я сейчас самый спокойный в тюрьме человек. Я похож на ребенка,
отправляющегося на прогулку. Мне не терпится уйти и увидеть новые,
любопытные места. Этот страх "малой смерти" смешон человеку, который так
часто уходил во мрак и вновь оживал...
Смотритель пришел с бутылкой шампанского. Я отправил ее в Коридор
Убийц. Не правда ли, странно, что за мной ухаживают в этот последний день?
Должно быть, люди, собирающиеся убить меня, сами боятся смерти. Говоря
словами Джека Оппенгеймера, я, собирающийся умереть, должен казаться им
страшным, как Бог...
Только что Эд Моррель прислал мне весточку. Говорят, он всю ночь
прошагал за стенами тюрьмы. Так как он бывший каторжник, то они хитростью
лишили его возможности увидеть меня и попрощаться. Дикари? Не знаю, может
быть, просто дети. Бьюсь об заклад, что почти все они будут бояться
оставаться одни в темноте ночью, после того как затянут мне шею.
Вот записка Эда Морреля: "Рука моя в твоей, старый товарищ. Я знаю, что
ты умрешь молодцом..."
Только что ушли репортеры. В следующий и в последний раз я увижу их с
эшафота, перед тем как палач закроет мне лицо черным колпаком. Вид у них
будет болезненный. Странные ребята! У некоторых такой вид, словно они
выпили. Двое или трое готовы, кажется, упасть в обморок от того, что им
предстоит увидеть. По-видимому, легче быть повешенным, чем смотреть на
это...
Мои последние строки. Чуть ли я не задерживаю процессию. Моя камера
битком набита чиновными и сановными лицами. Все они нервничают. Им хочется,
чтобы э т о уже кончилось. Без сомнения, у некоторых из них есть приглашения
на обед. Я положительно оскорбляю их тем, что пишу эти немногие строки. Поп
опять предложил мне пробыть со мною до конца. Бедняга -- зачем я стану
отказывать ему в этом утешении? Я согласился, и он, видимо, повеселел! Какой
пустяк может сделать человека довольным! Я бы остался сердечно посмеяться
минут пять, если бы они не торопились.
Кончаю! Я могу только повторить сказанное. Смерти нет! Жизнь -- это
дух, а дух не может умереть! Только плоть умирает и исчезает, вечно
проникаясь химическим бродилом, формирующим ее, вечно пластичная, вечно
кристаллизующаяся, -- и это только для того, чтобы расплавиться и вновь
кристаллизоваться в иных, новых формах, столь же эфемерных и вновь
расплавляющихся. Только дух остается и продолжает развиваться в процессе
последовательных и бесконечных воплощений, стремясь к свету. Кем я буду,
когда я буду жить снова? Хотелось бы мне знать это... Очень хотелось бы...
Текст романа "Межзвездный скиталец" печатался по изданию: Лондон Джек.
Полное собрание сочинений: В 24 т.-- М.; Л.: Земля и фабрика, 1928-1929.--
Т.12.
С раннего детства во мне жило сознание бытия иных мест и времен. Я
чувствовал присутствие в себе иного "я". И верьте мне, мой грядущий
читатель, это бывало и с вами! Оглянитесь на свое детство -- и ощущение
инобытия, о котором я говорю, вспомнится вам как опыт вашего детства. Вы
тогда еще не определились, не выкристаллизовались, вы были пластичны, вы
были -- душа в движении, сознание и тождество в процессе формирования, --
да, формирования и... забывания.
Вы многое забыли, читатель; но все же, читая эти строки, вы смутно
припомните туманные перспективы иных времен и мест, в которые заглядывал ваш
детский глаз. Теперь они вам кажутся грезами, снами. Но если это были сны,
привидевшиеся вам в ту пору, -- откуда, в таком случае, их вещественность?
Наши грезы уродливо складываются из вещей, знакомых нам. Материал самых
бесспорных наших снов -- это материал нашего опыта. Ребенком, совсем
крохотным ребенком, вы в грезах падали с громадных высот; вам снилось, что
вы летаете по воздуху, вас пугали ползающие пауки и слизистые многоножки, вы
слышали иные голоса, видели иные лица, ныне кошмарно знакомые вам, и
любовались восходами и закатами солнц иных, чем известные вам ныне.
Так вот, эти детские грезы принадлежат иному миру, иной жизни,
относятся к вещам, которых вы никогда не видели в нынешнем вашем мире и в
нынешней вашей жизни. Но где же? В другой жизни? В других мирах?
Когда вы прочтете все, что я здесь описываю, вы, может быть, получите
ответ на недоуменные вопросы, которые я перед вами поставил и которые вы
сами ставили себе еще до того, как читали эту книгу.
Вордсворт знал эту тайну. Он был не ясновидящий, не пророк, а самый
обыкновенный человек, как вы, как всякий другой. То, что знал он, знаете вы,
знает всякий. Но он необычайно талантливо выразил это в своей фразе,
начинающейся словами: "Не в полной наготе, не в полноте забвенья..."
Поистине тени тюрьмы окружают нас, новорожденных, и слишком скоро мы
забываем! И все же, едва родившись, мы вспоминали иные времена и иные места.
Беспомощными младенцами, на руках старших, или ползая на четвереньках по
полу, мы вновь переживали во сне свои воздушные полеты. Да, мы познавали
муки и пытку кошмарного страха перед чем-то смутным, но чудовищным. Мы,
новорожденные младенцы без опыта, рождались со страхом, с воспоминанием
страха, а в о с п о м и н а н и е е с т ь о п ы т.
Что касается меня, то я, еще не начав говорить, в столь нежном
возрасте, что потребность пищи и сна я мог выражать только звуками, -- уже в
ту пору я знал, что я был мечтателем, скитальцем среди звезд. Да, я, чьи
уста не произносили слова "король", знал, что некогда я был сыном короля.
Мало того -- я помнил, что некогда я был рабом и сыном раба и носил железный
ошейник.
Это не все. Когда мне было три, и четыре, и пять лет, "я" не был еще
"я". Я еще только с т а н о в и л с я; я был расплавленный дух, еще не
застывший и не отвердевший в форме нынешнего моего тела, нынешнего моего
времени и места. В этот период во мне бродило, шевелилось все, чем я был в
десятках тысяч прежних существований, это все мутило мое расплавленное "я",
стремившееся воплотиться во м н е и стать м н о ю.
Глупо это все, не правда ли? Но вспомните, читатель, -- которого
надеюсь увлечь за собою в скитания по безднам времени и пространства, --
сообразите, читатель, прошу вас, что я много думал об этих вещах, что в
кровавые ночи и в холодном поту мрака, длившегося долгими годами, я был один
на один со своими многоразличными "я" и мог совещаться с ними и созерцать
их. Я пережил ад всех существований, чтобы поведать вам тайны, которые вы
разделите со мной, склонясь в час досуга над моей книгой.
Итак, я повторяю: в три, и в четыре, и в пять лет "я" не был еще "я"! Я
только с т а н о в и л с я, з а с т ы в а л в форме моего тела, и все
могучее, неразрушимое прошлое бродило в смеси моего "я", определяя, какую
форму это "я" примет. Это не мой голос, полный страха, кричал по ночам о
вещах, которых я, несомненно, не знал и не мог знать.
Также и мой детский гнев, мои привязанности, мой смех. Иные голоса
прорывались сквозь мой голос, -- голоса людей прошлых веков, голоса туманных
полчищ прародителей. Мой капризный плач смешивался с ревом зверей более
древних, чем горы, и истерические вопли моего детства, когда я багровел от
бешеного гнева, были настроены в лад бессмысленным, глупым крикам зверей,
живших раньше Адама, иных биологических эпох.
Я раскрыл свою тайну. Багровый гнев! Он погубил меня в этой нынешней
моей жизни. По его милости меня через несколько быстролетных недель поведут
из камеры на высокое место с шатким помостом, увенчанное очень прочной
веревкой; здесь меня повесят за шею и будут дожидаться моего издыхания.
Багровый гнев всегда губил меня во всех моих жизнях; ибо багровый гнев --
мое злосчастное, катастрофическое наследие от эпохи комков живой слизи, --
эпохи, предначальной миру.
Но пора мне отрекомендоваться. Я не идиот и не помешанный. Вы должны
это знать, иначе вы не поверите тому, что я вам расскажу. Меня зовут Дэррель
Стэндинг. Кое-кто из тех, кто прочтет эти строки, тотчас же вспомнит меня.
Но большинству читателей -- лицам, меня не знающим, -- я должен
представиться.
Восемь лет назад я был профессором агрономии в сельскохозяйственном
колледже Калифорнийского университета. Восемь лет назад сонный
университетский город Берклей был взволнован убийством профессора Гаскелля в
одной из лабораторий горнозаводского отделения. Убийцей был Дэррель
Стэндинг.
Я -- Дэррель Стэндинг. Меня поймали на месте преступления. Я не стану
обсуждать теперь, кто был прав и кто виноват в деле профессора Гаскелля. Это
было чисто личное дело. Главная суть в том, что в припадке ярости, одержимый
катастрофическим багровым гневом, который был моим проклятием во все века, я
убил своего товарищапрофессора. Протокол судебного следствия показал, что я
убил; и я, не колеблясь, признаю правильность судебного протокола.
Нет, меня повесят не за это убийство. Меня приговорили к пожизненному
заключению. В ту пору мне было тридцать шесть лет, теперь сорок четыре. Эти
восемь лет я провел в государственной Калифорнийской тюрьме СанКвэнтина.
Пять лет из этих восьми я провел в темноте -- это называется одиночным
заключением. Люди, которым приходилось переживать одиночное заключение,
называют его погребением заживо. Но за эти пять лет пребывания в могиле я
успел достигнуть свободы, знакомой лишь очень немногим людям. Самый одинокий
из узников, я победил не только мир -- я победил и время. Те, кто замуровали
меня на несколько лет, дали мне, сами того не зная, простор столетий.
Поистине благодаря Эду Моррелю я испытал пять лет межзвездных скитаний.
Впрочем, Эд Моррель -- это уже из другой области. Я вам расскажу о нем
после. Мне так много нужно рассказать вам, что я, право, не знаю, с чего
начать!
Итак, начнем. Я родился в штате Миннесота. Мать мою -- дочь
эмигрировавшего в Америку шведа -- звали Гильда Тоннесон. Отец мой, Чанси
Стэндинг, принадлежал к старинной американской фамилии. Он вел свою
родословную от Альфреда Стэндинга, по письменному контракту закабалившегося
в слуги или, если вам угодно, в рабы и перевезенного из Англии на плантации
Виргинии в те дни, когда молодой Вашингтон работал землемером в пустынях
Пенсильвании.
Сын Альфреда Стэндинга сражался в войну Революции; внук -- в войну 1812
года. С тех пор не случалось войны, в которой Стэндинги не принимали бы
участия. Я, последний из Стэндингов, которому скоро предстоит умереть, не
оставив потомков, сражался простым солдатом на Филиппинах в последней войне
Америки; для этого я отказался в самом начале карьеры от профессорской
кафедры в университете Небраски. Подумайте! Когда я уходил, меня прочили в
деканы сельскохозяйственного отделения этого университета, -- меня,
мечтателя, сангвинического авантюриста, бродягу, Каина столетий,
воинственного жреца отдаленных времен, мечтающего при луне, как поэт забытых
веков, доныне не занесенный в историю человека, писаную человеческой рукой.
И вот я сижу в государственной тюрьме Фольсома, в Коридоре Убийц, и
ожидаю дня, назначенного государственной машиной, -- дня, в который слуги
государства уведут меня туда, где, по их твердому убеждению, царит мрак, --
мрак, которого они страшатся, -- мрак, который рождает в них трусливые и
суеверные фантазии, который гонит этих слюнявых и хнычущих людишек к алтарям
божков, созданных их страхом и ими очеловеченных.
Нет, не быть мне никогда деканом агрономического отделения! А ведь я
знал агрономию. Это моя специальность. Я родился для земледелия,
воспитывался на сельском хозяйстве, обучался сельскому хозяйству и изучил
сельское хозяйство. В нем я был гениален. Я на глаз берусь определить, какая
корова дает самое жирное молоко, -- и пусть специальным прибором проверяют
меня! Довольно мне взглянуть не то что на землю, а хотя бы на пейзаж -- и я
перечислю вам все достоинства и недостатки почвы. Мне не нужна лакмусовая
бумажка, чтобы определить, щелочна или кислотна данная почва. Повторяю:
сельское хозяйство, в высшем научном значении слова, было моим призванием и
остается моим призванием; в нем я гениален. А вот государство, включающее в
себя всех граждан государства, полагает, что оно может при помощи веревки,
затянутой вокруг моей шеи, и толчка, выбивающего табуретку из-под ног,
загнать в последнюю тьму все эти мои знания, всю ту мудрость, которая
накоплялась во мне тысячелетиями и была зрелой еще до того, как поля Трои
покрылись стадами кочующих пастухов.
Зерно? Кто же знает зерно, как не я? Познакомьтесь с моими
показательными опытами в Уистаре, при помощи которых я повысил ценность
годового урожая зерна в каждом графстве Айовы на полмиллиона долларов. Это
исторический факт. Многие фермеры, разъезжающие сейчас в собственных
автомобилях, знают, кто дал им возможность кататься на автомобиле.
Пышногрудые девушки и яснолицые юноши, склонившиеся над университетскими
учебниками, не подозревают, что это я, моими прекрасными опытами в Уистаре,
дал им возможность получать высшее образование.
А управление фермой? Я знаю вред лишних движений, не изучая
кинематографических снимков; знаю, годится ли данная земля для обработки,
знаю стоимость стройки и стоимость рабочих рук. Познакомьтесь с моим
руководством и с моими таблицами по этому вопросу. Без всякого хвастовства
скажу, что в этот самый момент сотня тысяч фермеров сидит и морщит лоб над
развернутыми страницами этого учебника, перед тем как выколотить последнюю
трубку и лечь спать. Но мои знания были настолько выше моих таблиц, что мне
достаточно было взглянуть на человека, чтобы определить его наклонности, его
координации и коэффициент его лишних движений.
Я кончаю первую главу моего повествования. Уже девять часов, а в
Коридоре Убийц это значит, что надо тушить огонь. Я уже слышу глухое
шлепанье резиновых подошв надзирателя, спешащего накрыть меня за горящей
керосиновой лампой и изругать -- словно бранью можно обидеть осужденного на
смерть!.
Итак, я -- Дэррель Стэндинг. Скоро меня выведут из тюрьмы и повесят.
Пока что я скажу свое слово и буду писать на этих страницах об иных временах
и об иных местах.
После приговора меня отправили доживать жизнь в Сан-Квэнтинскую тюрьму.
Я оказался "неисправимым". А "неисправимый" -- это ужасный человек, по
крайней мере такова характеристика "неисправимых" в тюремной психологии. Я
стал "неисправимым" потому, что ненавидел лишние движения. Тюрьма, как и все
тюрьмы, была сплошной провокацией лишних движений. Меня приставили к
прядению джута. Преступная бесцельная растрата сил возмущала меня. Да и как
могло быть иначе? Борьба с нецелесообразными движениями была ведь моей
специальностью. До изобретения пара или паровых станков, три тысячи лет
назад, я гнил в тюрьме Древнего Вавилона; и, поверьте мне, я говорю правду,
утверждая, что в те древние времена мы, узники, гораздо продуктивнее
работали на ручных станках, чем работают арестанты на паровых станках
Сан-Квэнтина.
Бессмысленный труд стал мне нестерпим. Я взбунтовался. Я попробовал
было показать надзирателям десятокдругой более продуктивных приемов. На меня
донесли. Меня посадили в карцер и лишили света и пищи. Я вышел и опять
попробовал работать в хаотической бессмыслице станков. Опять взбунтовался,
опять -- карцер и вдобавок смирительная рубашка. Меня распинали, связывали и
тайком поколачивали грубые надзиратели, у которых ума хватало только на то,
чтобы чувствовать, что я не похож на них и не так глуп, как они.
Два года длилось это бессмысленное преследование. Тяжко и страшно
человеку быть связанным и отданным на растерзание крысам. Грубые сторожа
были этими крысами; они грызли мою душу, выгрызали тончайшие волокна моего
сознания. А я, в моей прежней жизни отважнейший боец, в этой нынешней жизни
совсем не был бойцом. Я был земледельцем-агрономом, кабинетным профессором,
рабом лаборатории, интересующимся только почвой и повышением ее
производительности.
Я дрался на Филиппинах потому, что у Стэндингов была традиция драться.
У меня не было дарований воина. Как нелепо это введение разрывных инородных
тел в тела маленьких черных людей. Смешно было видеть, как наука
проституирует мощь своих достижений и ум своих изобретателей в целях
насильственного введения инородных тел в организмы черных людей.
Как я уже говорил, я пошел на войну, только повинуясь традиции
Стэндингов, и убедился, что у меня нет воинских дарований. К такому
убеждению пришли и мои начальники, ибо они сделали меня писарем
квартирмейстера, и в этом чине писаря, за конторкой, я и проделал всю
испано-американскую войну.
И не как боец, а как мыслитель возмущался я бессмысленной тратой усилий
на тюремных станках. За это и стали меня преследовать надзиратели, и я
превратился в "неисправимого". Мозг мой работал, и за его работу я был
наказан. Когда моя "неисправимость" стала настолько явной, что смотритель
Этертон нашел нужным постращать меня в своем кабинете, я сказал ему:
-- Нелепо думать, дорогой смотритель, будто эти крысы-надзиратели в
состоянии вытравить из моей головы вещи, которые так ясно и определенно
рисуются в моем мозгу! Вся организация этой тюрьмы бессмысленна. Вы --
политический деятель. Вы умеете плести политические сети для улавливания
болтунов в кабаках Сан-Франциско, но вы не умеете прясть джут. Ваши станки
отстали по крайней мере на пятьдесят лет...
Но стоит ли продолжать эту тираду? Я доказал ему, как он был глуп,
после чего он решил, что я безнадежно неисправим.
"Дайте псу худую кличку..." Вы знаете эту поговорку! Ну, что ж!
Смотритель Этертон дал последнюю санкцию моей дурной репутации. Я стал
предметом общих преследований. Все грехи каторжников сваливали на меня, и за
них мне приходилось расплачиваться заключением в карцер на хлеб и воду, или
же меня подвешивали за большие пальцы рук и держали в таком положении на
цыпочках целые часы; каждый такой час казался мне длиннее всей жизни,
прожитой до этого.
Умные люди бывают жестоки; глупые люди -- чудовищно жестоки. Сторожа и
другие мои начальники, начиная со смотрителя, были тупые чудовища.
Послушайте, что они со мной сделали! Был в тюрьме поэт-каторжник с маленьким
подбородком и широким лбом, -- поэт --дегенерат. Лгун, трус, доносчик, шпик.
Изящные слова, не правда ли, в устах профессора агрономии? Но и профессор
агрономии может научиться дурным словам, если запереть его в тюрьму на всю
жизнь.
Этого поэта -- мазурика звали Сесиль Винвуд. Его уже не раз присуждали
к каторге, но так как он был предатель и доносчик, то в последний раз его
приговорили всего лишь к семи годам. "Хорошее поведение" могло значительно
сократить и этот срок. Мой же срок заключения был -- до самой смерти! И
этот-то жалкий дегенерат, чтобы сократить свое заключение на несколько лет,
вздумал добавить целую вечность к моему пожизненному сроку!
Я расскажу вам, как это случилось. Я сам узнал правду лишь через
много-много лет. Этот Сесиль Винвуд, чтобы выслужиться перед начальником
тюремного двора, смотрителем, директорами тюрьмы, комитетом помилований и
губернатором Калифорнии, сочинил побег из тюрьмы. Теперь заметьте себе:
во-первых, прочие каторжники так ненавидели Сесиля Винвуда, что не позволили
бы ему даже поставить четвертушки табаку на тараканьих гонках (тараканьи
гонки -- любимое развлечение каторжников); во-вторых, я был псом с худой
кличкой; в-третьих, для своих махинаций Сесиль Винвуд нуждался в псах с
худыми кличками -- в пожизненно заключенных, в отчаянных, в "неисправимых".
Но пожизненно заключенные (или "вечники") тоже презирали Сесиля
Винвуда, и, когда он подъехал к ним с планом общего побега, его высмеяли и
прогнали с бранью, как того заслуживает провокатор. И все же он их одурачил,
этих сорок хитрейших молодцов. Он не оставлял их в покое. Он хвастался, что
пользуется влиянием в тюрьме, как "доверенный" конторы смотрителя, а также
благодаря тому, что работает в тюремной аптеке.
Был среди каторжников Долговязый Билль Ходж, горец, осужденный за
грабеж в поезде и целые годы живший одной мечтой: как бы убежать и убить
своего товарища по ограблению, который выдал его. Этот-то Долговязый Билль
Ходж и сказал Винвуду: "Докажи мне!"
Сесиль Винвуд принял вызов. Он утверждал, что опоит сторожа в ночь
побега.
-- Рассказывай! -- говорил Долговязый Билль Ходж. -- Нам нужно дело.
Опои кого-нибудь из сторожей в э т у же ночь. Вот, например, Барнума, -- он
дрянь-человек. Вчера он исколотил помешанного Чинка в Аллее Беггауза, да еще
не в свое дежурство. В эту ночь он дежурит. Усыпи его, и пусть его выгонят.
Докажи, что ты это можешь, и тогда пойдет разговор о деле!
Все это Билль Ходж рассказывал мне в карцере спустя много времени.
Сесиль Винвуд противился немедленной пробе сил. По его словам, нужно было
время, чтобы выкрасть снотворное средство из аптеки. Ему дали срок, и через
неделю он объявил, что все готово. Сорок дюжих вечников ждали, как это
сторож Барнум заснет на своем дежурстве. И Барнум заснул! Его застали и
уволили.
Разумеется, это убедило вечников. Но оставалось еще убедить начальника
тюремного двора. Ему Сесиль Винвуд каждый день докладывал, как
подготовляется побег, который целиком был им выдуман. Начальник тюремного
двора также потребовал доказательств. Винвуд представил их -- и я только
через несколько лет узнал все подробности этой махинации: так медленно
раскрываются тайны тюремных интриг.
Винвуд донес, что сорок человек, готовящихся к побегу, к которым он
вкрался в доверие, забрали такую силу в тюрьме, что собираются получить
контрабандой револьверы при помощи подкупленного ими сторожа.
-- Докажи мне это! -- потребовал, вероятно, начальник тюремного двора.
И мазурик-поэт доказал!
В пекарне работали по ночам. Один из каторжников, пекарь, был в первой
ночной смене. Он был сыщиком начальника двора, и Винвуд знал это.
-- Нынче ночью, -- объявил он начальнику, -- Сэммерфорс пронесет дюжину
револьверов калибра 44, В следующее дежурство он пронесет патроны. Нынче же
он передаст револьверы в пекарне мне. Там у вас есть хороший сыщик -- он
сделает вам доклад завтра.
Сэммерфорс представлял собой любопытную фигуру буколического сторожа из
графства Гумбольдт. Это был простодушный, ласковый олух, не упускавший
случая честно заработать доллар контрабандной доставкой табаку
заключенным... В этот вечер, вернувшись из поездки в Сан-Франциско, он
принес с собой пятнадцать фунтов легкого табаку для папирос. Это было уже не
в первый раз, и всякий раз он передавал табак Сесилю Винвуду. Так и в эту
ночь, ничего не подозревая, он передал Винвуду в пекарне табак -- большую
пачку самого невинного табаку, завернутого в бумагу. Шпион-пекарь из
укромного места видел, как Винвуду передали пакет, о чем и доложил
начальнику тюремного двора.
Тем временем не в меру ретивое воображение поэтадоносчика усиленно
работало. Он задумал штуку, которая принесла мне пять лет одиночного
заключения и привела меня в эту проклятую камеру, где я сейчас пишу. И все
эти пять лет я ничего не подозревал. Я ничего не знал даже о побеге, к
которому он подговорил сорок вечников. Я не знал ничего, абсолютно ничего!
Не больше меня знали и другие. Вечники не знали, как он их обошел. Начальник
тюремного двора не знал, что и его обманули. Неповинней всех был Сэммерфорс.
В худшем случае совесть могла упрекнуть его в том, что он пронес
контрабандой немного безобидного табаку.
Но вернемся к глупой, безумной и вместе с тем мелодраматической
махинации Сесиля Винвуда. Когда он утром встретил начальника двора, вид у
него был торжествующий. Воображение его расскакалось без удержу.
-- Да, груз пронесли, совершенно так, как ты сказал, -- заметил
начальник двора.
-- Его хватило бы, чтобы взорвать на воздух половину тюрьмы, --
подхватил Винвуд.
-- Хватило чего? -- спросил начальник.
-- Динамита и фитилей, -- продолжал глупец. -- Тридцать пять фунтов.
Ваш сыщик видел, как Сэммерфорс передал его мне.
Должно быть, начальник двора чуть не умер на месте. Я, право,
сочувствую ему в этом случае -- подумайте только, тридцать пять фунтов
динамита в тюрьме!
Рассказывают, что капитан Джэми -- таково было прозвище начальника
тюремного двора -- так и сел на месте и схватился руками за голову.
-- Где же он теперь? -- завопил он. -- Давай его сюда! Сию минуту давай
его сюда!
Тут только Сесиль Винвуд заметил свой промах.
-- Я зарыл его, -- солгал он. Он должен был солгать, потому что табак,
упакованный в мелкие пачки, давно уже разошелся по рукам заключенных.
-- Ну ладно, -- проговорил капитан Джэми, -- веди меня сейчас к этому
месту!
Но, конечно, вести было некуда. Никаких взрывчатых веществ в тюрьме не
имелось. Они существовали только в воображении негодяя Винвуда.
В большой тюрьме, как Сан-Квэнтинская, всегда найдется местечко, куда
можно спрятать вещи. Ведя за собой капитана Джэми, Сесиль Винвуд поневоле
должен был быстро соображать.
Как свидетельствовал перед комитетом директоров капитан Джэми (а также
и Винвуд), на пути к тайнику Винвуд рассказал, что я вместе с ним зарывал
динамит.
И я, только что пробывший пять дней в карцере и восемьдесят часов в
смирительной рубашке, -- я, полное бессилие которого было известно даже
тупым сторожам, -- я, которому дали день на отдых от нечеловечески страшного
наказания, -- я был назван соучастником в сокрытии несуществующих тридцати
пяти фунтов сильновзрывчатого вещества.
Винвуд повел капитана Джэми к мнимому тайнику. Разумеется, они не нашли
никакого динамита.
-- Боже мой! -- продолжал лгать Винвуд. -- Стэндинг надул меня. Он
откопал динамит и спрятал его в другом месте.
Начальник двора употребил более выразительные слова, чем "боже мой".
В ту же секунду, не теряя хладнокровия, он повел Винвуда в свой частный
кабинет, запер дверь и страшно избил его -- как это впоследствии выяснилось
перед комитетом директоров. Получив трепку, Винвуд, однако, продолжал
клясться, что он сказал правду.
Что оставалось делать капитану Джэми? Он убежден был, что тридцать пять
фунтов динамита спрятаны в тюрьме и что сорок отчаянных вечников
приготовились совершить побег. Он вызвал на очную ставку Сэммерфорса;
Сэммерфорс твердил, что в пакете был табак, но Винвуд клялся, что это был
динамит, и ему вполне поверили.
В этой стадии дела я и вступил в него или, вернее, выступил, так как
меня лишили солнечных лучей и дневного света и снова отвели в карцер, в
одиночное заключение, где я в темноте гнил целых пять лет.
Я совершенно был сбит с толку. Меня только что выпустили из карцера; я
лежал, изнывая от боли, в своей прежней камере, как вдруг меня схватили и
снова бросили в карцер.
Теперь, -- говорил Винвуд капитану Джэми, -- динамит в безопасном
месте, хотя мы и не знаем, где он. Стэндинг -- единственный человек, знающий
это, а из карцера он никому не сможет сообщить, где динамит. Каторжники
готовы к побегу. Мы можем накрыть их на месте преступления. От меня зависит
назначить момент. Я им назначу два часа ночи и скажу, что, когда стража
уснет, я отопру камеры и раздам им револьверы. Если в два часа ночи вы не
застанете сорок человек, которых я назову поименно, совершенно одетыми и
бодрствующими, тогда, капитан, можете запереть меня в одиночную камеру на
весь остаток моего срока! А когда мы запрем в карцер Стэндинга и тех сорок
молодцов, у нас довольно будет времени разыскать динамит.
-- Даже если бы для этого пришлось не оставить камня на камне, --
храбро ответил капитан Джэми.
Это происходило шесть лет назад. За все это время они не нашли
несуществующего динамита, хотя тысячу раз перевернули тюрьму вверх дном,
разыскивая его. Тем не менее до последнего момента своей службы смотритель
Этертон верил в существование динамита. Капитан Джэми, все еще состоящий
начальником тюремного двора, и сейчас убежден, что в тюрьме спрятан динамит.
Не далее как вчера он приехал из Сан-Квэнтина в Фольсом, чтобы сделать еще
одну попытку узнать место, где спрятан динамит. Я знаю, что он свободно
вздохнет, когда меня повесят.
Весь этот день я пролежал в карцере, ломая себе голову над причиной
обрушившейся на меня новой и необъяснимой кары. Я додумался только до
одного: какойнибудь шпик, подмазываясь к сторожам, донес, что я нарушаю
тюремные правила.
В то время как капитан Джэми волновался, дожидаясь ночи, Винвуд передал
сорока заговорщикам, чтобы они готовились к побегу. В два часа пополуночи
вся тюремная стража была на ногах, не исключая дневной смены, которой
полагалось спать в это время. Когда пробило два часа, они бросились в
камеры, занятые сорока заговорщиками. Все камеры отворились в один и тот же
момент, и все лица, названные Винвудом, оказались на ногах, совершенно
одетые; они прятались за дверями. Разумеется, это подтвердило в глазах
капитана Джэми все измышления Винвуда. Сорок вечников были пойманы врасплох
на приготовлениях к побегу. Что из того, что они все впоследствии
единогласно утверждали, что побег был задуман Винвудом? Комитет тюремных
директоров, от первого до последнего человека, был убежден, что эти сорок
каторжников лгут, выгораживая себя. Комитет помилований был того же мнения,
ибо не прошло и трех месяцев, как Сесиль Винвуд, поэт и мазурик,
презреннейший из людей, получил полное помилование и был освобожден из
тюрьмы.
Тюрьма -- превосходная школа философии. Ни один обитатель ее не может
прожить в ней годы без того, чтобы не отрешиться от самых дорогих своих
иллюзий, без того, чтобы не лопнули самые радужные его метафизические
пузыри. Нас учат, что правда светлее солнца и что преступление всегда
раскрывается. Но вот вам доказательство, что не всегда так бывает! Начальник
тюремного двора, смотритель Этертон, комитет тюремных директоров -- все они
до единого и сейчас верят в существование динамита, который никогда не
существовал, а был только изобретен лживым мозгом дегенерата сыщика и поэта
Сесиля Винвуда. И Сесиль Винвуд жив, а я, невиннейший из всех привлеченных к
этому делу людей, через несколько недель пойду на виселицу.
Теперь я опишу вам, как сорок вечников ворвались в тюремную тишину. Я
спал, когда наружная дверь коридора карцера с треском распахнулась и
разбудила меня. "Какой-нибудь горемыка", -- была моя первая мысль; а
следующей моей мыслью было, что он, наверное, получил трепку, -- до меня
доносилось шарканье ног, глухие звуки ударов по телу, внезапные крики боли,
мерзкие ругательства и шум влекомого тела.
Двери карцеров раскрывались одна за другой, и тела одного за другим
бросались или втаскивались туда сторожами. Новые и новые группы сторожей
приходили с избитыми каторжниками, которых они продолжали бить, и дверь за
дверью распахивались, чтобы поглотить окровавленные туши людей, виновных в
том, что они стосковались по свободе.
Да, когда теперь оглядываешься назад, то видишь: нужно быть большим
философом, чтобы выносить все эти зверства год за годом. Я -- такой философ.
Восемь лет терпел я эту пытку, пока наконец, отчаявшись избавиться от меня
всеми другими способами, они не призвали государственную машину, чтобы
накинуть мне на шею веревку и остановить мое дыхание тяжестью моего тела. О,
я знаю, эксперты дают ученые заключения, что при повешении, когда вышибают
табуретку из-под ног, ломается позвоночник жертвы. А жертвы никогда не
возвращаются, чтобы опровергнуть это. Но нам, пережившим тюрьму, известны
замалчиваемые тюремщиками случаи, когда шея жертвы оставалась целой.
Забавная вещь -- повешение! Я сам не видел, как вешают, но очевидцы
рассказывали мне подробности доброй дюжины таких казней, и я знаю, что будет
со мной.
Поставив меня на табуретку, сковав меня по рукам и ногам, накинув мне
на шею петлю, а на голову черный чехол, они столкнут меня так, что тело мое
своим весом натянет веревку. Затем врачи обступят меня и один за другим
будут становиться на табуретку, обхватывать меня руками, чтобы я не качался,
как маятник, и прижиматься ухом к моей груди, считая биения сердца. Иногда
проходит двадцать минут с того момента, как уберут табуретку, и до момента,
как перестанет биться сердце. О, поверьте, они по всем правилам науки
стараются убедиться, что человек умер, после того как они повесили его на
веревке.
Я уклонюсь немного в сторону от моего повествования, чтобы задать
один-два вопроса современному обществу. Я имею право отклоняться и ставить
вопросы, ибо в скором времени меня выведут из тюрьмы и сделают со мной все
описанное выше. Если позвоночник жертвы ломается от упомянутого хитроумного
приспособления и хитроумного расчета веса тела и длины его, то зачем же они
в таком случае связывают жертве руки? Общество в целом не в состоянии
ответить на этот вопрос. Но я знаю почему. И это знает любитель, когда-либо
участвовавший в линчевании и видевший, как жертва взмахивает руками,
хватается за веревку и ослабляет петлю вокруг шеи, силясь перевести дух.
Еще один вопрос задам я нарядному члену общества, душа которого никогда
не блуждала в кровавом аду, как моя: зачем они напяливают черный чехол на
лицо жертвы перед тем, как выбить из-под ее ног табуретку?
Не забывайте, что в скором времени они набросят этот черный чехол на
мою голову, -- поэтому я вправе задавать вопросы. Не потому ли, о нарядный
гражданин, твои вешатели так поступают, что боятся увидеть на лице ужас,
который они творят над нами по твоему желанию? Не забывайте, что я задаю
этот вопрос не в двенадцатом веке по Рождестве Христове, и не во времена
Христа, и не в двенадцатом веке до Рождества. Я, которого повесят в тысяча
девятьсот тринадцатом году по Рождестве Христове, задаю эти вопросы вам,
предполагаемым последователям Христа, -- вам, чьи вешатели выведут меня и
закроют мое лицо черной тканью, не смея, пока я еще жив, взглянуть на ужас,
творимый надо мною.
Но возвращусь к моей тюрьме. Когда удалился последний сторож и наружная
дверь заперлась, все сорок избитых и озадаченных людей заговорили, засыпали
друг друга вопросами. Но почти в ту же минуту заревел, как бык, Скайсель
Джек, огромного роста матрос; он потребовал молчания, чтобы сделать
перекличку. Камеры были полны, и камера за камерой по порядку выкрикивала
имена своих обитателей. Таким образом выяснилось, что в каждой камере
находятся надежные каторжники, среди которых не могло оказаться шпика.
Только на мой счет каторжники остались в сомнении, ибо я был
единственный узник, не принимавший участия в заговоре. Меня подвергли
основательному допросу. Я мог только сказать им, что не далее как этим утром
вышел из карцера и смирительной рубашки и без всякой причины, насколько я
мог понять, был через несколько часов вновь брошен туда. Моя репутация
"неисправимого" говорила в мою пользу, и они решились открыть прения.
Лежа и прислушиваясь, я впервые узнал о том, что готовился побег. "Кто
сфискалил?" -- был их единственный вопрос. Всю ночь этот вопрос повторялся.
Поиски Сесиля Винвуда оказались напрасными, и общее подозрение пало на него.
-- Остается только одно, ребята, -- промолвил наконец Скайсель Джек. --
Скоро утро. Они нас выведут и устроят нам кровавую баню. Мы были пойманы
наготове, в одежде. Винвуд надул нас и донес. Они будут выводить нас по
одному и избивать. Нас сорок человек; нужно раскрыть ложь. Пусть каждый,
сколько бы его ни били, говорит только правду, сущую правду, и да поможет
ему Господь!
И в этой мрачной юдоли человеческой бесчеловечности, от камеры к
камере, прижавшись устами к решетке, сорок вечников торжественно поклялись
говорить правду.
Мало хорошего принесла им эта правда! В девять часов утра сторожа,
наемные убийцы чистеньких граждан, составляющих государство, лоснящиеся от
еды и сна, накинулись на нас. Нам не только не дали завтрака -- нам не дали
даже воды, а избитых людей, как известно, всегда лихорадит.
Не знаю, читатель, представляете ли вы себе хотя бы приблизительно, что
значит быть "избитым"? Не стану объяснять вам это. Довольно вам знать, что
эти избитые, лихорадящие люди семь часов оставались без воды.
В девять часов пришли сторожа; их было немного. В большом числе не было
и надобности, потому что они открывали только по одной камере зараз. Они
были вооружены короткими заостренными палками -- удобное орудие для
"дисциплинирования" беспомощных людей. Открывая камеру за камерой, они били
и истязали вечников. Их нельзя было упрекнуть в лицеприятии: я получил такую
же порцию, как и другие. И это было только начало, это было как бы
предисловие к пытке, которую каждому из нас пришлось испытать один на один в
присутствии оплачиваемых государством зверей. Это был как бы намек каждому
на то, что ожидает его в инквизиционном застенке.
Я в своей жизни изведал много тюремных ужасов, но кромешный ад дней,
последовавших за описанными событиями, был хуже даже, чем то, что они
собираются учинить надо мной в близком будущем.
Долговязый Билль Ходж, ко многому привыкший горец, должен был первым
подвергнуться допросу. Он вернулся через два часа -- вернее, его приволокли
и бросили на каменный пол карцера. Затем они избили Луиджи Полаццо из
Сан-Франциско, американца первого поколения от родителей итальянцев, который
глумился и издевался над ними и довел их до белого каления.
Не скоро удалось Долговязому Биллю побороть боль настолько, чтобы быть
в состоянии произнести несколько связных слов.
-- Что с динамитом? -- спросил он. -- Кто знает чтонибудь о динамите?
Разумеется, никто не знал, -- а это был главный вопрос, поставленный
ему мучителями.
Почти через два часа вернулся Луиджи Полаццо; но это был не он, это
была какая-то развалина, бормотавшая что-то бредовое и не умевшая дать
ответа на вопросы, гулко раздававшиеся в длинном коридоре карцеров, --
вопросы, которыми осыпали его люди, ждавшие своей очереди и нетерпеливо
желавшие знать, что с ним сделали и какому допросу его подвергли.
В ближайшие сорок восемь часов Луиджи два раза водили на допрос. После
этого уже не человеком, а какимто бормочущим идиотом его отправили на житье
в Аллею Беггауза. У него крепкое телосложение, широкие плечи, широкие
ноздри, крепкая грудь и чистая кровь; в Аллее Беггауза он еще долго будет
бормотать околесицу после того, как я буду вздернут на веревку и избавлюсь
таким образом навсегда от ужасов исправительных тюрем в Калифорнии.
Заключенных выводили из камер поодиночке, одного за другим, и приводили
обратно какие-то развалины, обломки людей, бросая их, окровавленных, в
темноту, где им предоставлялось сколько угодно рычать и выть. И когда я
лежал, прислушиваясь к стонам и воплям и к безумным фантазиям свихнувшихся
от мучений людей, во мне смутно просыпались воспоминания, что где-то,
когда-то и я сидел на высоком месте, свирепый и гордый, прислушиваясь к
такому же хору стонов и воплей. Впоследствии, как вы в свое время узнаете, я
осознал это воспоминание и понял, что стоны и вопли исходили от рабов,
прикованных к своим скамьям, и что я слушал их сверху, с кормы, в качестве
воина-пассажира на галере Древнего Рима. Я тогда плыл в Александрию
начальником воинов, на пути в Иерусалим. Но об этом я вам расскажу
впоследствии... а покуда...
Покуда в темнице царил ужас, начавшийся вслед за открытием
приготовлений к побегу. И ни на секунду в эти вечные часы ожидания меня не
оставляло сознание, что и мне придется последовать за этими каторжниками,
претерпеть инквизиционные пытки, какие они претерпели, и вернуться обратно
развалиной, которую бросят на каменный пол моей каменной, с чугунной дверью,
темницы.
Вот они явились за мной. Грубо и безжалостно, осыпая меня ударами и
бранью, они увели меня -- и я очутился перед капитаном Джэми и смотрителем
Этертоном, окруженными полдюжиной подкупленных на выколоченные налогами
деньги зверей, носящих название сторожей и готовых исполнить любой приказ
начальства. Но их услуги не понадобились.
-- Садись! -- сказал мне смотритель Этертон, указав на огромный
деревянный стул.
И вот я, избитый, окровавленный, не получивший глотка воды за долгую
ночь и день, полумертвый от голода, от побоев, последовавших за пятью днями
карцера и восемьюдесятью часами смирительной рубашки, подавленный сознанием
бедственности человеческого удела, охваченный страхом, что со мной
произойдет то же, что произошло с остальными, -- я, шатающийся обломок
человека и бывший профессор агрономии, -- я отказался принять приглашение
сесть.
Смотритель Этертон был крупный и очень сильный мужчина. Рука его
молниеносно упала на мое плечо. В его руках я был соломинкой. Он поднял меня
с полу и швырнул на стул.
-- А теперь, -- промолвил он, пока я задыхался и душил в себе крики
боли, -- расскажи мне всю правду, Стэндинг. Выплюнь всю правду -- всю, как
есть, иначе... ты знаешь, что с тобой будет!
-- Я ничего не знаю о том, что случилось... -- начал я.
Только это я и успел вымолвить. С рычанием он бросился на меня одним
скачком. Опять он поднял меня в воздух и с треском обрушил на стул.
-- Не дури, Стэндинг! -- пригрозил он. -- Сознайся во всем. Где
динамит?
-- Я ничего не знаю ни о каком динамите, -- возражал я.
Я пережил в своей жизни самые разнообразные муки, но когда я о них
размышляю сейчас, в покое моих последних дней, то убеждаюсь, что никакая
пытка не сравнится с этой пыткой стулом, Своим телом я превратил стул в
уродливую пародию мебели. Принесли другой, но скоро и он оказался
разломанным. Приносили все новые стулья, и допрос о динамите продолжался все
в той же неизменной форме.
Когда смотритель Этертон утомился, его сменил капитан Джэми, а затем
сторож Моноган сменил капитана Джэми и тоже начал бросать меня на стул. И
все это время только и слышалось: "Динамит! Динамит! Где динамит?.." А
динамита никакого и не было. Я под конец готов был отдать чуть не всю свою
бессмертную душу за несколько фунтов динамита, которые мог бы показать.
Не смогу сказать, сколько стульев было разломано моим телом. Я лишался
чувств бесчисленное множество раз. Наконец все слилось в один сплошной
кошмар. Меня полунесли, полупихали, полутащили в мою темную камеру. Здесь,
очнувшись, я увидел шпика. Это был бледный маленький арестант короткого
срока, готовый на все за глоток водки. Как только я узнал его, я подполз к
решетке и крикнул на весь коридор:
-- Со мною шпик, товарищи, Игнатий Ирвин! Держите язык за зубами!
Прозвучавший хор проклятий поколебал бы мужество и более храброго
человека, чем Игнатий Ирвин. Жалок он был в своем страхе, когда окружавшие
его, истерзанные болью вечники, рыча, как звери, говорили, какие ужасы они
ему готовят на предстоящие годы.
Существуй в действительности какая-нибудь тайна, присутствие сыщика в
карцере заставило бы каторжников сдерживаться. Но так как все они поклялись
говорить правду, то не стеснялись перед Игнатием Ирвиным. Их больше всего
озадачивал динамит, о котором они так же мало знали, как и я. Они обращались
ко мне, умоляли сказать, если я что-нибудь знаю о динамите, и спасти их от
дальнейших бедствий. И я мог им сказать только правду -- что я ничего не
знаю ни о каком динамите.
Уводя сыщика, сторож проронил одну фразу, которая показала мне, как
серьезно обстоит дело с динамитом. Разумеется, я об этом передал товарищам,
и в результате ни одно колесо не вертелось в этот день на тюремных станках.
Тысячи каторжников оставались запертыми в своих камерах, и ясно было, что ни
одна из многочисленных тюремных фабрик не будет действовать до тех пор, пока
не отыщется динамит, спрятанный кем-то в тюрьме.
Следствие продолжалось. Каторжников по одному вытаскивали из камер и
втаскивали обратно; как они передавали, смотритель Этертон и капитан Джэми,
выбиваясь из сил, сменяли друг друга каждые два часа. Пока один спал, другой
вел допрос. И спали они не раздеваясь, в той самой комнате, в которой один
силач за другим лишались последних своих сил.
Час за часом во мраке темницы продолжалось безумие нашей пытки. О,
поверьте мне, повешение пустяк в сравнении с тем, как из живых людей
выколачивают остатки жизни, -- а они все еще продолжают жить. Я, как и все
прочие, страдал от боли и жажды, но мои страдания отягощались еще сознанием
страданий других. Я уже два года считался в числе неисправимых, и мои нервы
и мозг стали бесчувственны к страданию. Но страшное зрелище -- надломленный
силач! Вокруг меня сорок силачей одновременно превратились в развалины.
Крики, мольбы о воде не прекращались ни на минуту, люди сходили с ума от
воя, плача, бормотанья и безумного бреда.
Понимаете ли вы? Наша правда, истинная правда, которую мы говорили,
была нам уликой!
Раз сорок человек утверждали одно и то же с таким единодушием,
смотритель Этертон и капитан Джэми могли заключить, что их свидетельство --
заученная ложь, которую каждый из сорока твердит, как попугай.
Перед властями их положение было столь же отчаянное, как и наше. Как я
впоследствии узнал, по телеграфу был созван комитет тюремных директоров, и в
тюрьму прислали две роты государственной милиции. Стояла зима, а морозы
порой подносят сюрпризы даже в Калифорнии. В карцерах не было одеял.
Представьте себе, как приятно лежать израненным телом на ледяных камнях! В
конце концов нам дали воды. Глумясь и ругаясь, сторожа вбежали к нам, одетые
в непромокаемые штаны пожарных, и стали окачивать нас из кишки час за часом,
пока израненные тела не оказались вновь расшибленными ударами струй, пока мы
не очутились по колено в воде, бурлившей вокруг нас и от которой мы теперь
мучительно желали избавиться.
Не буду больше распространяться о том, что делалось в карцерах. Скажу
только мимоходом, что ни один из этих сорока вечников не пришел в свое
прежнее состояние. Луиджи Полаццо навсегда лишился рассудка. Долговязый
Билль Ходж медленно терял рассудок, и год спустя его тоже отправили на
жительство в Аллею Беггауза. За Ходжем и Полаццо последовали другие; иные,
надломленные физически, пали жертвою тюремного туберкулеза. Ровно четвертая
часть этих сорока сошла в могилу в ближайшие шесть лет.
Когда, после пяти лет одиночного заключения, меня вывели из
Сан-Квэнтина на суд, я увидел Скайселя Джека. Видел я, собственно, мало, ибо
после пяти лет, проведенных в потемках, я только жмурился да хлопал глазами,
как летучая мышь. Но и то, что я увидел, заставило больно сжаться мое
сердце. Я встретил Скайселя Джека, когда шел через тюремный двор. Волосы его
были белы как снег. Он преждевременно одряхлел, грудь его глубоко впала,
равно как и щеки. Руки болтались как парализованные, на ходу он шатался. Его
глаза тоже наполнились слезами, когда он узнал меня, ибо я представлял собою
жалкий обломок того, что когда-то называлось человеком. Я весил восемьдесят
семь фунтов. Волосы мои, с густой проседью, невероятно отросли за пять лет,
так же, как борода и усы. И я шатался на ходу, так что сторож поддерживал
меня, когда я проходил залитый солнцем угол двора. Но мы с Джеком Скайселем
все же узнали друг друга.
Люди вроде Джека пользуются привилегиями даже в тюрьме, так что он
позволил себе нарушить тюремные правила, обратившись ко мне надломленным,
дрожащим голосом:
-- Ты славный парень, Стэндинг, -- прохрипел он. -- Ты никогда не
фискалил.
-- Но ведь я ничего не знал, Джек! -- прошептал я в ответ. Я шептал
непроизвольно: за пять лет вынужденного молчания я почти совершенно потерял
голос, -- Я думаю, никакого динамита и не было.
-- Ладно, ладно, -- хрипел он, с детским упрямством качая головой. --
Береги тайну, не выдавай им! Ты молодец! Снимаю перед тобой шапку, Стэндинг:
ты не фискал!
Сторож увел меня прочь, и я больше не видал Скайселя Джека. Ясно было,
что даже он поверил в сказку о динамите.
Меня два раза приводили пред лицо комитета директоров в полном его
составе. Меня то истязали, то уговаривали. Мне предложили такую
альтернативу: если я отдам динамит, меня подвергнут номинальному наказанию
-- тридцать дней карцера, а затем сделают сторожем тюремной библиотеки; если
же я буду упрямиться и не отдам динамита -- меня посадят в одиночку на весь
срок наказания. А так как я был пожизненно заключенный, то это значило --
меня заключат в одиночку на всю жизнь.
О нет, Калифорния -- цивилизованная страна! В ее уголовном уложении нет
такого закона! Это жестокая, невероятная кара, и ни одно современное
государство не повинно в издании такого закона. Тем не менее в истории
Калифорнии я -- третий присужденный к пожизненной одиночке. Другие два --
Джек Оппенгеймер и Эд Моррель. Я скоро расскажу вам о них, ибо гнил вместе с
ними целые годы в камерах безмолвия.
Добавлю к этому следующее. Скоро меня выведут и повесят -- не за то,
что я убил профессора Гаскелля. За это меня присудили к пожизненной тюрьме.
Меня повесят потому, что я признан виновным в нападении на сторожа и в
драке. А это уже нарушение тюремной дисциплины. Это закон, который можно
найти в уголовном уложении.
Кажется, я разбил человеку нос в кровь. Я не видел, чтобы из его носа
шла кровь, -- но так говорили свидетели. Его звали Серстон. Он был сторожем
в Сан-Квэнтине. В нем было сто семьдесят фунтов весу, он цвел здоровьем. Я
весил меньше девяноста фунтов, был слеп, как нетопырь, от долгого пребывания
во мраке и настолько отвык от открытых пространств, что у меня закружилась
голова при выходе из камеры. У меня, без сомнения, начиналась агорафобия, в
чем я убедился в тот самый день, когда вышел из одиночки и расквасил сторожу
Серстону нос.
Я раскровянил ему нос, когда он преградил мне дорогу и хотел схватить.
И за это меня повесят. В законах штата Калифорнии написано, что вечник,
вроде меня, подлежит смертной казни, если ударит тюремного сторожа, вроде
Серстона. Разбитый нос вряд ли беспокоил его больше получаса, и все же меня
за это повесят...
Видите ли, этот закон является в данном случае законом ex post facto,
законом, имеющим обратную силу. Он не был законом в то время, когда я убил
профессора Гаскелля. Он был издан после того, как меня приговорили к
пожизненному заключению. И в этом вся штука: мое пожизненное заключение
подвело меня под закон, еще не записанный в книге. И только благодаря своему
званию пожизненного арестанта я буду повешен за побои, нанесенные сторожу
Серстону. Закон явно ex post facto и поэтому неконституционен.
Но что конституция для конституционных юристов, когда они желают
избавиться от известного профессора Дэрреля Стэндинга! Моя казнь не
устанавливает даже прецедента. Год назад, как известно всякому читавшему
газеты, они повесили Джека Оппенгеймера здесь, в Фольсоме, совершенно за
такой же проступок... Но только он провинился не в том, что разбил нос
сторожу, -- он нечаянно зарезал каторжника хлебным ножом.
Как они странны -- путаные законы людей, путаные тропки жизни! Я пишу
эти строки в той самой камере Коридора Убийц, которую занимал Джек
Оппенгеймер перед тем, как его увели и сделали с ним то, что собираются
проделать надо мною...
Я предупреждал вас, что мне придется писать очень много. Возвращаюсь
теперь к своему повествованию. Комитет тюремных директоров предоставил мне
на выбор: пост тюремного надзирателя и избавление от джутовых станков, если
я выдам несуществующий динамит; пожизненное заключение в одиночке -- если я
откажусь его выдать.
На размышление мне дали двадцать четыре часа, заключив на этот срок в
смирительную рубашку. Потом меня привели в комитет. Что мне было делать? Я
не мог указать им динамит, которого не существовало. Я и сказал им это; а
они назвали меня лжецом. Они объявили меня неисправимым, опасным человеком,
нравственным дегенератом и "злейшим преступником нашего времени". Они
наговорили еще много других приятных вещей и заперли меня в одиночную
камеру. Меня поместили в камеру No 1. В No 5 лежал Эд Моррель, в No 12 --
Джек Оппенгеймер. Здесь он жил уже десятый год, а Эд Моррель жил в своей
камере всего первый год. Он отбывал п я т и д ес я т и л е т н и й срок
заключения! Джек Оппенгеймер был вечник, как и я. Казалось, нам троим
предстояло долго томиться здесь. И вот прошло только шесть лет -- и никого
из нас нет в одиночке. Джека Оппенгеймера вздернули на веревку, Эда Морреля
сделали главным надзирателем в Сан-Квэнтине, а затем он получил помилование.
А я в Фольсоме дожидаюсь дня, назначенного судьею Морганом, -- дня, который
будет моим последним днем.
Глупцы! Разве они могут удушить мое бессмертие своим неуклюжим
изобретением -- веревкой и виселицей? Не один раз, а бесчисленное множество
раз буду я ходить по этой прекрасной земле! Я буду ходить во плоти, буду
принцем и крестьянином, ученым и шутом, буду сидеть на высоком месте и
стонать под колесами.
Первые дни мне было жутко в одиночке, и часы тянулись нестерпимо долго.
Время отмечалось правильною сменою сторожей и чередованием дня и ночи. День
давал очень мало света, но все же это было лучше, чем непроглядная тьма
ночи. В одиночке день был как светлая слизь, просачивающаяся из светлого
внешнего мира.
Света было слишком мало, чтобы читать. Вдобавок и читать было нечего.
Можно было только лежать и думать, думать без конца. Я был пожизненно
заключенный, и ясно было, что если я не сотворю чуда, не создам из ничего
тридцати пяти фунтов динамита, весь остаток моей жизни протечет в этом
безмолвном мраке.
Постелью мне служил тонкий, прогнивший соломенный тюфяк, брошенный на
пол камеры. Покровом служило тонкое и грязное одеяло. Я всегда спал очень
мало, всегда мозг мой много работал. Но в одиночке устаешь от дум, и
единственное спасение от них -- сон. Теперь я культивировал сон, я сделал из
него науку. Я научился спать по десять часов, потом по двенадцать и,
наконец, по четырнадцать и пятнадцать часов в сутки; но дальше этого дело не
пошло, и я поневоле вынужден был лежать без сна и думать, думать... Для
деятельного ума это значит постепенно лишаться рассудка.
Я изыскивал способы механически убивать часы бодрствования. Я возводил
в квадрат и в куб длинные ряды цифр, сосредоточивал на этом все свое
внимание и волю, я выводил самые изумительные геометрические прогрессии. Я
даже отважился на квадратуру круга... И даже поверил в то, что эта
невозможность может быть осуществлена. Наконец, убедившись, что я схожу с
ума, я оставил квадратуру круга, хотя, уверяю вас, это для меня была большая
жертва: умственные упражнения, связанные с квадратурой круга, отлично
помогали мне убивать время.
Путем одного воображения, закрыв глаза, я создавал шахматную доску и
разыгрывал длинные партии сам с собой. Но когда я усовершенствовался в этой
искусственной игре памяти, упражнения начали утомлять меня. Это были только
упражнения, так как между сторонами в игре, которую ведет один и тот же
игрок, не может быть настоящего состязания. Я многократно и тщательно
пытался расколоть свое "я" на две отдельные личности и противопоставить одну
другой, но оставался единственным игроком, и не было ни одной хитрости и
стратагемы на одной стороне, которую другая сторона тотчас же не раскрывала
бы.
Время давило меня, время длилось бесконечно долго. Я затеял игру с
мухами, которые попадали ко мне в камеру, подобно просачивающемуся в нее из
внешнего мира тусклому серому свету, и убедился, что они одарены чувством
игры. Так, например, лежа на полу камеры, я проводил произвольную
воображаемую линию на стене, в расстоянии трех футов от пола. Когда мухи
сидели на стене выше этой линии, я их оставлял в покое. Как только они
спускались по стене ниже ее, я старался поймать их. Я всячески старался при
этом не помять муху, и по прошествии некоторого времени они знали так же
хорошо, как и я, где проходит воображаемая линия. Когда им хотелось
поиграть, они спускались ниже этой линии, и часто одна какая-нибудь муха
целый час занималась этой игрой. Утомившись, она садилась отдыхать в
безопасном районе.
Из дюжины или более мух, живших со мной, только одна не любила игры.
Она упорно отказывалась играть и, узнав, какая кара ждет ее за переход
запретной межи, старательно избегала опасной территории. Эта муха была
угрюмое, разочарованное существо. Как выразились бы каторжники, у нее "был
зуб" против мира. Она никогда не играла и с другими мухами! Это была
сильная, здоровая муха, -- я достаточно долго изучал ее, чтобы в этом
убедиться. И ее нерасположение к игре было делом темперамента, а не
физического состояния.
Поверьте, я знал всех своих мух! Поразительно, какую массу отличий я в
них открыл. Каждая муха являла собой вполне определенную индивидуальность --
не только по размерам и приметам, по силе и быстроте полета, по характеру
игры, по манере уверток, бегства, возвращения и шныряния по запрещенной зоне
на стене. Они сильно отличались одна от другой еще и тончайшими нюансами
темперамента и душевного склада.
Среди них были нервические особы, были и флегматики. Так, одна муха,
поменьше товарок ростом, приходила в настоящий восторг, когда играла со мной
или подругами. Видели ли вы когда-нибудь, как жеребенок или теленок скачет
по лугу, задрав хвост в необузданном восторге? И вот эта муха -- мимоходом
сказать, лучший игрок среди прочих, -- бывало, спустившись раза три-четыре
подряд в запрещенную зону и всякий раз избежав бархатных тисков моей руки,
приходила в такое возбуждение и восторг, что начинала носиться вокруг моей
головы с бешеной быстротой, кувыркаясь, лавируя и вертясь и все время
держась в пределах узкого круга, в котором она могла торжествовать надо
мной.
Я так хорошо изучил мух, что мог заранее сказать, когда той или другой
мухе захочется играть со мной. В одной этой области были тысячи деталей,
которыми я не стану докучать вам, хотя эти детали помогали мне убивать время
в первый период моего одиночества.
Расскажу вам только случай, когда муха "с зубом", никогда не игравшая,
в минуту рассеянности села на запрещенную территорию и тотчас же была
поймана мною. Верите ли, она целый час после этого дулась на меня!..
Часы тянулись в одиночке безумно долго. Я не мог спать беспрерывно, как
не мог все время убивать на игру с мухами, при всем их уме. Муха, в конце
концов. не более как муха, а я был человек, с человеческим мозгом; мозг мой
привык к деятельности, был начинен "культурой" и знаниями и всегда
напряженно работал. А делать мне было совершенно нечего, и мысль бесплодно
замирала в пустых умозрениях. Так, я вспомнил о своем определении
присутствия пентозы и метилпентозы в виноградной лозе -- анализ, которому я
посвятил последние летние каникулы, проведенные в виноградниках Асти. Я
почти довел до конца этот ряд опытов, и теперь меня страшно интересовало,
продолжает ли их кто-нибудь, и если продолжает, то с каким успехом.
Ведь мир умер для меня. Никакие вести извне не просачивались ко мне.
Развитие науки быстро идет вперед, и меня интересовали тысячи тем. Так,
например, я создал теорию гидролиза казеина трипсинолом, который профессор
Уолтерс выполнил в своей лаборатории. Профессор Шлеймер работал вместе со
мной над обнаружением фитостерина в смесях животных и растительных жиров.
Работа, без сомнения, продолжается: каковы результаты? Одна только мысль о
работе, ведущейся за тюремными стенами, в которой я не мог принять участие,
о которой мне не придется даже услышать, сводила меня с ума. Мой удел был --
лежать на полу камеры и играть с мухами.
Нельзя сказать, чтобы в одиночке царило абсолютное безмолвие. Еще в
самом начале своего заключения я часто слышал через определенные промежутки
времени слабые, глухие перестукивания. Позднее мне слышались слабые и глухие
удары. Эти постукивания неизменно прерывались злым ревом сторожей. Однажды,
когда постукивания приняли слишком настойчивый характер, были вызваны
сторожа на подмогу, и по шуму я догадался, что некоторых узников заключили в
смирительные рубашки. Объяснить этот инцидент было нетрудно. Я, как всякий
узник Сан-Квэнтина, знал, что в одиночке сидят еще двое -- Эд Моррель и Джек
Оппенгеймер. Я знал, что эти двое переговаривались посредством стуков и за
это были подвергнуты наказанию.
Я не сомневался, что ключ, которым они пользовались, в высшей степени
прост. Однако мне пришлось потратить много часов труда, пока я открыл его.
Каким несложным оказался он, когда я изучил его! А всего проще показалась
мне уловка, которая больше всего и сбивала меня с толку. Заключенные не
только каждый день меняли букву алфавита, с которой начинался ключ, но и
меняли ее в каждом разговоре, даже среди разговора.
Так, однажды я угадал начальную букву ключа и разобрал две фразы; в
следующий же раз, когда они заговорили, я не понял ни единого слова.
Первые фразы, понятые мною, были следующие:
-- Скажи -- Эд -- что -- ты -- дал -- бы -- сейчас -- за -- оберточную
-- бумагу -- и -- пачку -- табаку? -- спрашивал один выстукивавший.
Я чуть не закричал от восторга. Вот способ сношения! Вот мне компания!
Я внимательно прислушивался и разобрал следующий ответ, исходивший,
по-видимому, от Эда Морреля.
-- Я -- принял -- бы -- двенадцать -- часов -- смирительной -- рубашки
-- за -- пятицентовую -- пачку...
Но тут послышался грозный рев сторожа:
-- Прекрати эту музыку, Моррель!
Профану может показаться, что с людьми, осужденными на пожизненное
одиночное заключение, уже сделано самое худшее, и поэтому какой-нибудь
сторож не имеет способов заставить выполнить свой приказ -- прекратить
перестукивание. Но ведь есть еще смирительная рубашка, остается голодная
смерть, остается жажда, остается рукоприкладство! Поистине беспомощен
человек, запертый в тесную клетку!
Перестукивание прекратилось. Но в тот же вечер, когда оно вновь
началось, я опять превратился в слух. Для каждого разговора
перестукивающиеся меняли начальную букву ключа. Но я отгадывал ее, а через
несколько дней опять попадался в тот же ключ. Я не стал дожидаться
формального представления.
-- Алло! -- выстукал я.
-- Алло, незнакомец! -- простучал в ответ Моррель, а Оппенгеймер
простучал: -- Добро пожаловать в наш огород!
Они полюбопытствовали, кто я такой, давно ли присужден к одиночке, за
что присужден.
Но все это я отложил до тех пор, пока не изучу их системы перемены
ключа. После того как я ею овладел, мы начали беседу. Это был великий день,
ибо вместо двух одиночников стало трое -- хотя они приняли меня в свою
компанию только после испытания. Много позже они мне рассказали, что
боялись, не провокатор ли я, посаженный, чтобы впутать их в какую-нибудь
историю. С Оппенгеймером уже такой казус однажды случился, и он дорого
заплатил за доверие, которое оказал приспешнику смотрителя Этертона.
К моему изумлению -- вернее сказать, к моему восторгу, -- оба мои
товарища по несчастью знали меня благодаря моей репутации "неисправимого"!
Даже в могилу для живых, в которой Оппенгеймер обитал уже десятый год,
проникла моя слава или, вернее, известность...
Мне пришлось немало рассказать им о событиях в тюрьме и о внешнем мире.
Заговор сорока вечников с целью побега, поиски воображаемого динамита и вся
вероломная махинация Сесиля Винвуда оказались для них совершенной новостью.
По их словам, вести до них доходили через сторожей, но вот уже два месяца,
как они ни от кого не слыхали ни слова. Теперешние сторожа при одиночках
оказались особенно злой и мстительной бандой.
Сторожа, все без исключения, ругательски ругали нас за перестукивание;
но мы не могли отказаться от него. Из двух живых мертвецов стало трое; нам
так много нужно было сказать друг другу, а способ сообщения был безумно
медленным, и я не так был искушен в выстукивании, как мои товарищи.
-- Погоди, нынче вечером придет Пестролицый -- он спит почти всю свою
смену, и нам можно будет наговориться всласть.
И говорили же мы в эту ночь! Сон бежал от моих глаз! Пестролицый Джонс
был подлою и злою тварью, несмотря на свою тучность. Но мы благословляли его
тучность, ибо она побуждала его дремать при первой возможности. Однако наши
постоянные перестукивания нарушали его сон и раздражали его до такой
степени, что он клял и бранил нас без конца. Так же бранились и другие
ночные сторожа. Утром все они доложили, что ночью было много стука, и нам
пришлось поплатиться за наш маленький праздник: в девять часов явился
капитан Джэми с несколькими сторожами, чтобы запрятать нас в смирительную
рубашку. До девяти часов утра следующего дня, ровно двадцать четыре часа
подряд, мы беспомощно лежали на полу без пищи и воды и этим расплатились за
нашу беседу.
О, что за звери были наши сторожа! Нам самим пришлось превратиться в
зверей, чтобы выжить. От грубой работы у человека делаются мозолистые руки.
Жестокая стража ожесточает узников. Мы продолжали переговариваться и время
от времени расплачивались смирительной рубашкой. Самой лучшей порой была
ночь, и нередко, когда на стражу ставили временных караульных, нам удавалось
беседовать целую смену.
Для нас, живших во мраке, день и ночь сливались в одно. Спать мы могли
в любое время, а перестукиваться только при случае. Мы рассказали друг другу
историю своей жизни; бывало, долгие часы мы с Моррелем лежали, прислушиваясь
к слабым, отдаленным выстукиваниям Оппенгеймера, который медленно
рассказывал нам свою жизненную повесть, начиная с детства в трущобах
Сан-Франциско, до школы наук в шайке мошенников, до знакомства со всем, что
есть в мире порочного. Четырнадцатилетним мальчишкой он служил ночным
вестовым в пожарной команде и через ряд краж и грабежей дошел до убийства в
стенах тюрьмы.
Джека Оппенгеймера называли "тигром в человеке" Юркий репортеришка
изобрел это прозвище, и кличке суждено было надолго пережить человека,
которому она принадлежала. Но я нашел в Джеке Оппенгеймере все основные
черты человечности. Он был верный, преданный товарищ. Я знаю, что он не раз
предпочел наказание доносу на товарищей. Он был мужествен, был терпелив. Он
был способен к самопожертвованию, -- я мог бы рассказать вам о подобном
случае, но не стану отнимать у вас времени. Справедливость же была его
страстью. Убийство, совершенное им в тюрьме, вызвано было исключительно его
утрированным чувством справедливости. У него был недюжинный ум. Жизнь,
проведенная в тюрьме, и десятилетняя одиночка не помрачили его рассудка.
У Морреля, столь же превосходного товарища, также был блестящий ум. Я,
которому предстоит умереть, имею право сказать без риска получить упрек в
нескромности, что тремя лучшими умами Сан-Квэнтина из всех его обитателей,
начиная от смотрителя, были три каторжника, гнившие в одиночках. Теперь, на
закате дней моих, обозревая все, что дала мне жизнь, я прихожу к заключению,
что сильные умы никогда не бывают послушными. Глупые люди, трусливые люди,
не наделенные страстным духом справедливости и бесстрашия в борьбе, -- такие
люди дают примерных узников. Благодарю всех богов, что ни Джек Оппенгеймер,
ни Моррель, ни я не были примерными узниками.
Дети определяют память как нечто такое, ч е м люди забывают, -- и в
этом определении, мне думается, немало правды. Быть умственно здоровым --
значит быть способным забывать. Вечно же помнить -- значит быть помешанным,
одержимым. И в одиночке, где воспоминания осаждали меня беспрестанно, я
старался решить главным образом одну задачу -- задачу забвения. Когда я
играл с мухами, или с самим собой в шахматы, или перестукивался с
товарищами, я отчасти забывался. Но мне хотелось забыться вполне.
Во мне жили детские воспоминания иных времен и иных мест --
"разметанные облака славы", по выражению Вордсворта. Если у ребенка имелись
такие воспоминания, то почему же они безвозвратно исчезли, когда он вырос и
возмужал? Могла ли эта часть детской души совершенно стереться?
Или же эти воспоминания об иных местах и днях все еще существуют,
дремлют, замурованные в мозговых клетках, наподобие того, как я замурован в
камере Сан-Квэнтина.
Бывали случаи, когда люди, осужденные на вечное заключение в одиночке,
выходили на свободу и вновь видели солнце. Почему же в таком случае не могли
бы воскреснуть и детские воспоминания об ином мире?
Но как? Мне думается -- путем достижения полного забвения настоящего.
Но все же -- каким образом? Этим должен был заняться гипноз. Если
посредством гипноза удастся усыпить сознательный дух и пробудить дух
подсознательный, то дело будет сделано -- все двери темницы мозга будут
разбиты, и узники выйдут на солнечный свет.
Так я рассуждал, а с каким результатом -- вы скоро узнаете. Но прежде я
хочу рассказать вам о воспоминаниях иного мира, которые я переживал еще
мальчиком. И я "сиял в облаках славы", влекшихся из глубины вечности. Как
всякого мальчика, меня преследовали образы существований, которые я
переживал в иные времена. Все это происходило во мне в процессе моего
становления, прежде чем расплавленная масса того, чем я некогда был,
затвердела в форме личности, которую люди в течение последних лет называют
Дэррель Стэндинг.
Я расскажу вам один такой случай. Это было в Миннесоте, на старой
ферме. Я тогда еще не достиг полных шести лет. В нашем доме остановился
переночевать миссионер, вернувшийся в Соединенные Штаты из Китая и
присланный Миссионерским Бюро собирать взносы у фермеров, Дело происходило в
кухне, тотчас после ужина, когда мать помогала мне раздеться на ночь, а
миссионер показывал нам фотографии видов Святой Земли.
Я давным-давно забыл бы то, что собираюсь вам рассказать, если бы в
моем детстве отец не рассказывал так часто этой истории своим изумленным
слушателям.
При виде одной из фотографий я вскрикнул и впился в нее взглядом --
сперва с интересом, а потом с разочарованием. Она вдруг показалась мне
ужасно знакомой, -- ну, словно я на фотографии увидел бы вдруг отцовскую
ригу! Потом она мне показалась совсем незнакомою. Но когда я стал опять
разглядывать ее, неотвязное чувство знакомости вновь появилось в моем
сознании.
-- Это башня Давида, -- говорил миссионер моей матери.
-- Нет! -- воскликнул я тоном глубокого убеждения.
-- Ты хочешь сказать, что она не так называется? -- спросил миссионер,
Я кивнул головой.
-- Как же она называется, мальчик?
-- Она называется... -- начал я и затем смущенно добавил: -- Я забыл!
-- У нее теперь другой вид, -- продолжал я после недолгого молчания. --
Прежде дома строились иначе.
Тогда миссионер протянул мне и матери другую фотографию, которую
разыскал в пачке.
-- Здесь я был шесть месяцев назад, миссис Стэндинг, -- и он ткнул
пальцем. -- Вот это Яффские ворота, куда я входил. Они ведут прямо к башне
Давида, -- на картинке, куда показывает мой палец. Почти все авторитеты
согласны в этом пункте. Эль-Куллах, как ее называли...
Но тут я опять вмешался, указал на кучи мусора и осыпавшегося камня в
левом углу фотографии.
-- Вот где-то здесь, -- говорил я. -- Евреи называли ее тем самым
именем, которое вы произнесли. Но мы называли ее иначе; мы называли ее... я
забыл как.
-- Вы только послушайте малыша! -- засмеялся отец. -- Можно подумать,
что он был там.
Я кивнул головой, ибо в ту минуту з н а л, что бывал там, хотя теперь
все мне представляется совершенно иначе. Отец захохотал еще громче,
миссионер же решил, что я потешаюсь над ним. Он подал мне другую фотографию.
Это был угрюмый, пустынный ландшафт без деревьев и всякой растительности --
какой-то мелкий овраг с пологими стенами из щебня. Приблизительно в середине
его виднелась куча жалких лачуг с плоскими крышами.
-- Ну-ка, мальчик, что это такое? -- иронически спросил миссионер.
И вдруг я вспомнил название.
-- Самария! -- в ту же секунду проговорил я.
Отец мой в восхищении захлопал в ладоши, мать была озадачена моим
поведением; миссионеру же, по-видимому, было досадно.
-- Мальчик прав! -- объявил он. -- Это деревушка в Самарии. Я был в
ней, почему и купил фотографию. Без сомнения, мальчик уже видел такие
фотографии раньше!
Но отец и мать единодушно отрицали это.
-- Но на картинке совсем не так! -- говорил я, мысленно восстанавливая
в памяти ландшафт. Общий характер ландшафта и линия отдаленных холмов
остались без изменения. Перемены же, которые я нашел, я называл вслух и
указывал пальцем.
-- Дом стоял вот тут, правее, а здесь было больше деревьев, много
травы, много коз. Я как сейчас вижу их перед собой, и двух мальчиков,
которые пасут их. А здесь, направо, кучка людей идет за одним человеком. А
здесь... -- я указал на то место, где находилась моя деревня, -- здесь толпа
бродяг. На них нет ничего, кроме рубища. Они больные. Их лица, и руки, и
ноги -- все в болячках.
-- Он слышал эту историю в церкви или еще гденибудь -- помните,
исцеление прокаженных в Евангелии от Луки? -- проговорил миссионер с
довольной улыбкой. -- Сколько же там было больных бродяг, мальчик?
Уже в пять лет я умел считать до ста. Теперь я напряженно пересчитал
людей и объявил:
-- Десять. Все они машут руками и кричат другим людям.
-- Но почему же они не приближаются к ним? -- был вопрос.
Я покачал головой:
-- Они стоят на местах и воют, как будто случилась беда.
-- Продолжай, -- ободрял меня миссионер. -- Что ты еще видишь? Что
делает другой человек, который, как говоришь ты, шел впереди другой толпы?
-- Они все остановились, и он что-то говорит больным; и даже мальчишки
с козами остановились посмотреть; все на них внимательно смотрят.
-- А еще что?
-- Это все. Больные люди направляются к домам. Они уже не воют, и у них
не больной вид. А я все сижу на своей лошади и смотрю...
Тут трое моих слушателей залились смехом.
-- И я взрослый человек! -- сердито воскликнул я. И подо мною большое
седло.
-- Десятерых прокаженных исцелил Христос перед тем, как прошел Иерихон
на пути в Иерусалим, -- пояснил миссионер моим родителям. -- Мальчик видел
снимки знаменитых картин в волшебном фонаре...
Но ни отец, ни мать не могли припомнить, чтобы я когда-нибудь видел
волшебный фонарь.
-- Попробуйте показать ему другую картинку, -- предложил отец.
-- Тут все не так, -- говорил я, рассматривая другую фотографию,
протянутую мне миссионером. -- Ничего не осталось, кроме горы и других гор.
Здесь должна быть проселочная дорога. А здесь должны быть сады, и деревья, и
дома за большими каменными стенами. А здесь, по ту сторону, в каменных
пещерах они хоронили покойников. Видите это место? Здесь они бросали в людей
камни, пока не забивали их до смерти. Я сам этого не видел, но мне
рассказывали.
-- А гора? -- спросил миссионер, указывая на середину фотографии. -- Не
можешь ли ты нам сказать название этой горы?
Я покачал головой:
-- У нее не было названия. Здесь убивали людей. Я видел ее не раз.
-- На этот раз то, что он говорит, подтверждается крупными
авторитетами, -- объявил миссионер с видом полного удовлетворения. -- Это
гора Голгофа, Гора Черепов, называемая так потому, что она похожа на череп.
Заметьте сходство! Здесь они распяли... -- Он умолк и обратился ко мне. --
Кого они здесь распяли, молодой ученый? Расскажи нам, что ты видишь еще?
О, я видел, -- по словам отца, я так таращил глаза, -- но упрямо качал
головой и говорил:
-- Я не стану вам рассказывать -- вы смеетесь надо мной. Я видел, как
здесь убивали многих, очень многих людей. Их прибивали гвоздями, и на это
уходило очень много времени. Я видел... но я вам не расскажу. Я никогда не
лгу. Спросите папу и маму -- лгу ли я! Они побили бы меня, если бы я лгал.
Спросите их!
Больше миссионер не мог вытянуть из меня ни одного слова, хотя и
соблазнял меня такими фотографиями, что у меня голова закружилась от
нахлынувших воспоминаний и язык так и чесался заговорить, но я упрямо
противился и выдержал характер.
-- Из него выйдет большой знаток Библии, -- говорил миссионер отцу и
матери, после того как я поцеловал их на сон грядущий и улегся спать. -- Или
же, с таким воображением, он сделается превосходным беллетристом!
Этому пророчеству не суждено было исполниться. Я сижу теперь в Коридоре
Убийц и пишу эти строки в мои последние дни -- вернее, в последние дни
Дэрреля Стэндинга, которого скоро выведут и швырнут в темноту на конце
веревки; я пишу и улыбаюсь про себя. Я не сделался ни знатоком Библии, ни
романистом. Напротив, до того как меня заперли в эту камеру молчания на
целую половину десятилетия, я был как раз всем чем угодно, но только не тем,
что предсказал миссионер, -- экспертом по сельскому хозяйству, профессором
агрономии, специалистом по науке уничтожения излишних движений, мастером
практического земледелия, лабораторным ученым в области знания, где точность
и учет самых микроскопических фактов составляют непременное требование.
И вот я сижу в жаркое предвечерье в Коридоре Убийц, отрываясь время от
времени от писания своих мемуаров, чтобы прислушиваться к ласковому жужжанию
мух в дремотном воздухе и ловить отдельные фразы тихой беседы, которую ведут
между собой негр Джозеф Джексон, убийца, по правую мою руку, и итальянец
Бамбеччио, убийца, по левую руку. Из одной решетчатой двери в другую
решетчатую дверь, мимо моей решетчатой двери, перебрасываются они
рассуждениями об антисептических и других превосходных достоинствах
жевательного табаку, как средства врачевания телесных ран.
А я держу в своей поднятой руке вечное перо с резервуаром и вспоминаю.
что в давно минувшие, стародавние времена другие мои руки держали кисточку
для туши, гусиное перо и стилос; мысленно я задаю себе вопрос: а что этот
миссионер, в бытность маленьким мальчиком, тоже носился по облакам света и
сиял блеском межзвездных скитаний?
Вернемся, однако, в мою одиночку, к моменту, когда я, изучив искусство
перестукиваться, все же убедился, что часы сознания бесконечно, нестерпимо
долги. Путем самогипноза, которым я научился искусно управлять, я получил
возможность усыплять свое сознательное, бодрственное "я" и будить, выпускать
на свободу мое подсознательное "я". Но это последнее "я" было существом, не
желавшим знать никаких законов и дисциплины. Оно бессвязно, без смысла
скиталось по кошмарам безумия; и лица, и события -- все носило отрывочный,
разрозненный характер.
Мой метод механического самовнушения был весьма прост. Скрестив ноги
по-турецки на моем соломенном тюфяке, я устремлял неподвижный взор на
кусочек блестящей соломинки, которую перед тем прикрепил к стене моей
камеры, в том месте у дверей, где падало больше всего света. Приблизив к ней
глаза, я смотрел на блестящую точку, пока глаза не уставали глядеть.
Одновременно с этим я сосредоточивал всю свою волю и отдавался во власть
чувству головокружения, всегда овладевавшего мною под конец сеанса.
Откидываясь навзничь, я закрывал глаза и без сознания падал на тюфяк. После
этого, в течение получаса, или десяти минут, или часа, скажем, я
беспорядочно и бестолково скитался по громадам воспоминаний о моих былых, то
и дело возникавших существованиях на земле. Но места и эпохи сменялись при
этом с невероятной быстротой. Впоследствии, просыпаясь, я понимал, что это
я, Дэррель Стэндинг, был связующим звеном, той личностью, которая соединяла
в одно все эти причудливые и уродливые моменты. Но и только. Мне ни разу не
удалось вполне запомнить одно целое переживание, объединенное сознанием во
времени и пространстве. Мои сны, если их можно назвать снами, были
бессмысленны и нестройны.
Вот образец моих грезовых скитаний. В течение пятнадцати минут
подсознательного бытия я ползал и мычал в тине первобытного мира, потом
сидел рядом с Гаазом, рассекая воздух двадцатого века на моноплане с газовым
двигателем. Проснувшись, я вспомнил, что я, Дэррель Стэндинг во плоти, за
год до моего заточения в СанКвэнтин летал с Гаазом над Тихим океаном у
СантаМоники. Проснувшись, я не вспомнил о том, что ползал и мычал в древнем
иле. Тем не менее после пробуждения я соображал, что каким-то образом мне
все же припомнилось это далекое бытие в первобытной тине, что это
действительно было мое существование в ту пору, когда я был не Дэррелем
Стэндингом, а кем-то другим, ползавшим и мычавшим. Просто -- одно
переживание было древнее другого. Оба переживания были равно реальны, --
иначе как бы я мог помнить их?
О, что это было за непрерывное мелькание светлых образов и движений! На
протяжении нескольких минут освобожденного подсознательного бытия я сидел в
царских палатах на верхнем конце стола и на нижнем его конце, был шутом и
монахом, писцом и солдатом, был владыкой над всеми и сидел на почетном месте
-- мне принадлежала светская власть по праву меча, толстых стен замка и
численности моих бойцов; мне же принадлежала и духовная власть, ибо
раболепные патеры и тучные аббаты сидели ниже меня, лакали мое вино и жрали
мои яства.
В холодных странах я носил, помнится, железный ошейник раба; я любил
принцесс королевского дома в ароматные тропические ночи: чернокожие рабы
освежали застоявшийся знойный воздух опахалами из павлиньих перьев, а
издали, из-за пальм и фонтанов, доносилось рычание львов и вопли шакалов. И
еще -- я сидел на корточках в холодной пустыне, грея руки над костром из
верблюжьего помета, или лежал в редкой тени сожженного солнцем кустарника у
пересохшего родника, сгорая от жажды, а вокруг, разбросанные по солончаку,
валялись кости людей и животных, уже погибших от жажды.
В разное время я был морским пиратом и "браво" -- наемным убийцей;
ученым и отшельником. То я корпел над рукописными страницами огромных
заплесневевших томов в схоластической тишине и полумраке прилепившегося к
высокому утесу монастыря; а внизу, при свете угасающего дня, крестьяне
трудились над виноградными лозами и оливами и пастухи гнали с пастбища
блеющих коз и мычащих коров. То я предводительствовал ревущими толпами на
изрытых ухабами и колеями улицах древних забытых городов. Торжественным
голосом, холодным как могила, я оглашал закон, устанавливал степень вины и
приговаривал к смерти людей, нарушивших закон, как ныне приговорили Дэрреля
Стэндинга в Фольсомской тюрьме.
С головокружительной высоты мачт, качавшихся над палубами судов, я
обозревал сверкавшую на солнце поверхность моря, радужные переливы
коралловых рифов, поднимавшихся из бирюзовой пучины, и направлял корабли в
спасительную гладь зеркальных лагун, где приходилось бросать якорь чуть ли
не у корней пальм, растущих на самом берегу. И я же дрался на забытых полях
сражений более древней эпохи, когда солнце закатилось над битвой, которая не
прекратилась, а продолжалась в ночные часы при мерцании звезд и
пронзительном, холодном ветре, тянувшем со снеговых вершин, -- но и этой
стуже не удалось охладить пыл бойцов; потом я опять видел себя маленьким
Дэррелем Стэндингом, босоножкой, бегающим по весенней траве фермы в
Миннесоте. В морозные утра, задавая корм скотине в дымящихся животным паром
стойлах, я отмораживал себе пальцы, а по воскресеньям со страхом и
благоговением слушал проповеди о Новом Иерусалиме и муках адского пламени.
Вот что грезилось мне, когда в одиночной камере No 1 Сан-Квэнтинской
тюрьмы я доводил себя до потери сознания созерцанием блестящего кусочка
соломы. Как мне могло привидеться все это? Уж конечно, я не мог построить
своих видений из чего-либо, находящегося в стенах моей темницы, как не мог
создать из ничего тридцать пять фунтов динамита, который так безжалостно
требовали от меня капитан Джэми, смотритель Этертон и комитет тюремных
директоров.
Я -- Дэррель Стэндинг, родившийся и воспитанный на участке земли в
Миннесоте, бывший профессор агрономии, неисправимый узник Сан-Квэнтина, а в
данный момент -- приговоренный к смерти узник Фольсома. Из опыта Дэрреля
Стэндинга я не знаю вещей, о которых пишу и которые откопал в подвалах моего
подсознания. Я -- Дэррель Стэндинг, рожденный в Миннесоте и которому вскоре
придется умереть на веревке в Калифорнии, -- конечно, никогда не любил
царских дочерей в царских чертогах, не дрался кортиком на зыбких палубах
кораблей, не тонул в спиртных кладовых судов, лакая водку под пьяные крики и
песни матросов, в то время как корабль с треском напарывался на черные зубцы
утесов и вода булькала и пузырилась сверху, снизу, с боков, отовсюду. Это
все -- не из опыта Дэрреля Стэндинга на этом свете. И все же я, Дэррель
Стэндинг, отыскал все это в своем "я", в одиночке Сан-Квэнтина, при помощи
самогипноза. Столь же незначительное отношение к опыту Дэрреля Стэндинга
имело и слово Самария, сорвавшееся с моих детских уст при виде фотографии!..
Из ничего выйдет только ничто! В одиночной камере я не мог создать
тридцать пять фунтов динамита. И в одиночке, из опыта Дэрреля Стэндинга, я
не мог создать эти широкие и далекие видения времени и пространства. Все они
находились в моей душе, и я только что начал в ней разбираться...
Вот каково было мое положение: я знал, что во мне зарыта целая Голконда
воспоминаний о других жизнях, но мог только с бешеной скоростью промчаться
сквозь эти воспоминания. У меня была Голконда -- но я не мог ее
разрабатывать.
Вспоминался мне, например, Стэнтон Мозес, священник, воплощавший в себе
личность св. Ипполита, Плотина, Афинодора и друга Эразма, которого звали
Гроцином. Размышляя об опытах полковника де Рочаса, которыми я зачитывался с
увлечением новичка в прежней, трудовой моей жизни, -- я начинал убеждаться,
что Стэнтон Мозес в своих предыдущих жизнях и был теми самыми лицами,
которыми он в разное время впоследствии был одержим. В сущности это были
звенья цепи его воспоминаний.
Но с особенным вниманием я останавливался на экспериментах полковника
де Рочаса. Он утверждал, что при помощи медиумов ему удалось вернуться
назад, в глубину времен, к предкам этих медиумов. Вот, например, случай с
Жозефиной, описываемый им. Это была восемнадцатилетняя девушка, проживавшая
в Вуароне, в департаменте Изера. Гипнотизируя ее, полковник де Рочас
заставил ее пережить в обратном порядке период ее созревания, ее девичества,
детства, состояние грудного младенца, безмолвный мрак материнского чрева и
еще дальше -- мрак и безмолвие периода, когда она еще даже не родилась,
вплоть до жизни, предшествовавшей ее бытию, когда она жила в образе весьма
сварливого, подозрительного и злобного старикашки, некоего Жан-Клода
Бурдона, который служил в свое время в Седьмом Артиллерийском полку в
Безансоне и скончался в возрасте семидесяти лет, после долгой болезни. Мало
того, полковник де Рочас загипнотизировал и эту тень Жан-Клода Бурдона и
провел ее назад, через детство, рождение и тьму нерожденного состояния, пока
она не ожила в образе злой старухи Филомены Картерон.
Но сколько я ни гипнотизировал себя блестящей соломинкой в моей
одиночке, мне не удалось с такою же определенностью воскресить свои
предшествующие "я". Неудача моих опытов убедила меня в том, что только при
помощи смерти я мог бы отчетливо и связно воскресить воспоминания о моих
бывших "я".
Между тем жизнь бурно предъявляла свои права. Я, Дэррель Стэндинг, до
того не хотел умирать, что не давал смотрителю Этертону и капитану Джэми
убить меня. Я так страстно, всем существом своим хотел жить, что иногда мне
думается -- только по этой причине я еще жив, ем, сплю, размышляю и грежу,
пишу это повествование о моих многоразличных "я", ожидая неизбежной веревки,
которая положит конец непрочному периоду моего существования.
И вот пришла эта смерть при жизни! Я научился проделывать эту штуку.
Как вы увидите, научил меня ей Эд Моррель. Начало всему положили смотритель
Этертон и капитан Джэми. Должно быть, ими овладел новый приступ безумного
страха при мысли о динамите, якобы где-то спрятанном. Они ворвались в мою
темную камеру с угрозами "запеленать" меня до смерти, если я не признаюсь,
где спрятан динамит. И уверяли меня, что сделают это по долгу службы, без
малейшего вреда для своего служебного положения. Мою смерть припишут
естественным причинам.
О, дорогой, закутанный в довольство, точно в вату, гражданин! Поверьте
мне, когда я говорю, что и сейчас людей убивают в тюрьмах, как их убивали
всегда -- с той поры, как люди построили первые тюрьмы!
Я хорошо изведал смертельные муки и опасности "смирительной куртки". О,
эти люди, павшие духом после смирительной куртки! Я их видел. Я видел людей,
на всю жизнь искалеченных курткой. Я видел крепких мужчин, -- таких крепких,
что их организм победоносно сопротивлялся тюремной чахотке; после длительной
порции смирительной куртки сопротивление оказывалось сломленным и они в
каких-нибудь шесть месяцев умирали от туберкулеза. Вот, например, Вильсон
Косоглазый, со слабым сердцем, который скончался в смирительной куртке в
первый же час, в то время как ничего не подозревавший тюремный доктор
смотрел на него и улыбался. Я был свидетелем того, как человек, проведя
полчаса в "куртке", признался и в правде, и в таких вымыслах, которые на
много лет определили его репутацию.
Я сам все это пережил. В настоящий момент добрых полтысячи рубцов
исполосовывают мое тело. Они пойдут со мной на виселицу. Проживи я еще сто
лет, эти рубцы пошли бы со мной в могилу. Дорогой гражданин, разрешающий все
эти мерзости, оплачивающий своих палачей, которые за него стягивают
смирительную куртку, -- может быть, вы незнакомы с этой курткой, или
рубашкой? Позвольте же мне описать ее, чтобы вы поняли, каким способом мне
удавалось осуществить смерть при жизни, делаться временным хозяином времени
и пространства и уноситься за тюремные стены для скитаний меж звездами.
Видели ли вы когда-нибудь брезентовые или резиновые покрывала с медными
петлями, проделанными вдоль краев? В таком случае вообразите себе брезент,
этак в четыре с половиной фута длины, с большими, тяжелыми медными петлями
по обоим краям. Ширина этого брезента никогда не соответствует полному
объему человеческого тела, которое он должен охватить. Ширина к тому же
неодинаковая -- шире всего у плечей, затем у бедер, уже всего в талии.
Куртку расстилают на полу. Человек, которого нужно наказать или предать
пыткам, для того чтобы он сознался, ложится, по приказу, ничком на
разостланный брезент. Если он отказывается это сделать, его избивают. После
этого он уже ложится "добровольно", то есть по воле своих палачей, то есть
-- по вашей воле, дорогой гражданин, прикармливающий и оплачивающий палачей,
чтобы они это делали за вас!
Человек ложится ничком, лицом вниз. Края куртки сближаются возможно
больше посередине спины. Затем в петли пропускается, на манер шнурка от
башмаков, веревка, и человека, по тому же принципу шнурка от башмаков,
стягивают в этом брезенте, но только стягивают куда сильнее, чем башмаки. На
тюремном языке это называется "пеленать". Иногда, если попадаются
мстительные и злые сторожа или же на это отдан приказ свыше, сторож, чтобы
усилить муки, упирается ногой в спину человека, стягивая куртку. Случалось
ли вам когда-нибудь чересчур стянуть башмак и через полчаса ощутить
мучительную боль в подъеме ноги от затрудненного кровообращения? Помните ли
вы, что после немногих минут такой боли вы абсолютно не в состоянии были
сделать шагу и спешили распустить шнурок и уменьшить давление башмака? Так
вот представьте себе, что этаким манером стянуто все ваше тело, но только
неизмеримо туже, и что давление приходится не на подъем одной ноги, но и на
все ваше туловище, что стиснуты чуть ли не до смерти ваше сердце, ваши
легкие, все ваши органы!
Хорошо помню первый раз, когда меня упрятали в карцер и в куртку. Это
было в самом начале моей "неисправимости", вскоре после того, как я поступил
в тюрьму; в это время я отрабатывал свой урок тканья (сто ярдов в сутки) на
джутовой фабрике и оканчивал работу на два часа раньше, чем полагалось.
Вдобавок моя джутовая ткань была много выше того среднего качества, которое
требовалось от арестантов. В первый же раз меня "затянули" в куртку, как
сказано было в тюремной книге, за "прорывы" и "пробелы" в моей ткани, --
короче говоря, потому, что моя работа оказалась с браком. Разумеется, это
вздор. В действительности меня затянули в куртку потому, что я, новый
арестант, знаток производительности труда, искусный эксперт по части
устранения излишних движений в работе, вздумал сказать главному ткачу
несколько истин о его специальности, о которой он не имел понятия; главный
ткач в присутствии капитана Джэми позвал меня к столу, где мне показали
безобразную ткань, которая никоим образом не могла выйти из моего станка.
Три раза меня вызывали к столу таким манером. Третий раз влечет за собой
наказание, по правилам ткацкой. Мне назначили куртку на двадцать четыре
часа.
Меня повели в карцер. Мне приказали лечь ничком на брезент,
разостланный на полу. Я отказался. Один из сторожей, Моррисон, сдавил мне
пальцами горло. Тюремный староста Мобинс, сам каторжник, несколько раз
ударил меня кулаком. В конце концов я лег, как мне приказали, И так как я
разозлил палачей своим сопротивлением, то они стянули меня особенно туго,
потом перевернули на спину, как какое-нибудь бревно.
Поначалу мое положение показалось мне не слишком плохим. Когда они с
шумом и грохотом захлопнули дверь, накинув на нее болт, и оставили меня в
полной темноте, было одиннадцать часов утра. В первую минуту я только ощущал
неудобное давление, которое уменьшится, думал я, когда я привыкну к нему. Но
мое сердце, напротив, колотилось все учащеннее, а легкие уже не в состоянии
были вобрать достаточное количество воздуха. Это чувство удушья вселяло
непобедимый ужас, каждое биение сердца, казалось, грозило разорвать легкие.
После того как прошли часы, -- теперь, после бесчисленных опытов с
курткой, я могу с уверенностью сказать, что на самом деле прошло не более
получаса, -- я начал кричать, вопить, завывать, реветь с безумным
смертельным страхом. К этому меня побуждала неимоверная боль в сердце. Это
была острая, колющая боль, похожая на боль от плеврита, с той лишь разницей,
что она пронизывала самое сердце.
Умереть нетрудно, но умирать таким медленным и страшным образом --
жутко. Как дикий зверь, попавший в западню, я терзался безумными приступами
страха, ревел, завывал, пока не убедился, что от криков у меня только еще
сильнее болит сердце, и притом они уменьшают количество воздуха в моих
легких. Я смирился и долго лежал спокойно -- целую вечность, хотя теперь я
уверен, что прошло не более четверти часа. У меня голова кружилась, я почти
задыхался, сердце колотилось так, что казалось -- вот-вот разорвет брезент,
стягивающий меня. Я вновь потерял самообладание и громко заревел о помощи.
Тут я услышал голос, доносившийся из соседнего карцера.
-- Замолчи! -- кричал кто-то, хотя звуки еле-еле пробивались ко мне. --
Замолчи! Ты мне надоел!
-- Я умираю! -- вопил я.
-- Ударься ухом об пол и забудь! -- был ответ.
-- Но ведь я умираю! -- твердил я.
-- В таком случае из-за чего шуметь? -- отвечал голос. -- Скоро ты
умрешь, и дело с концом. Издыхай, но не шуми. Ты мне портишь мой славный
сон.
Меня так взбесило это бессердечие, что я взял себя в руки и только чуть
слышно стонал. Это длилось бесконечно долго -- вероятно, минут десять, --
затем какое-то щекочущее онемение стало распространяться по всему моему
телу. Ощущение было такое, словно меня кололи иголками и булавками, и пока
длилась эта боль, я оставался спокойным. Но когда прекратились эти уколы
бесчисленных дротиков и осталось одно онемение, с каждой минутой
усиливавшееся, на меня снова напал ужас.
-- Дашь ты мне, наконец, поспать? -- возмутился мой сосед. -- Я в таком
же положении, как и ты! Моя куртка так же крепко стянута, как и твоя, я хочу
уснуть и забыться!
-- А ты давно тут? -- спросил я, полагая, что это новичок, не имеющий
понятия о столетней пытке, пережитой мною.
-- С позавчерашнего дня, -- был ответ.
-- Я хочу сказать -- в куртке, -- поправил я его.
-- С позавчерашнего дня, братец!
-- Боже мой! -- воскликнул я.
-- Да, братец, ровно пятьдесят часов! И смотри, ведь я не кричу! Меня
пеленали, упираясь ногой в мою спину. Меня очень туго стянули, поверь мне!
Ты не один попал в беду. Ты и часу еще не пролежал здесь.
-- Нет, я лежу уже много часов! -- протестовал я.
-- Может быть, тебе так кажется, но это неверно. Говорят тебе, ты здесь
не больше часу. Я слышал, как тебя связывали.
Невероятно! Меньше чем в час я умирал уже тысячу раз! А этот сосед,
такой уравновешенный и равнодушный, со спокойным, почти благодушным голосом,
несмотря на резкость первых своих замечаний, пролежал в смирительной куртке
пятьдесят часов.
-- Сколь ко еще времени тебя продержат? -- спросил я.
-- Одному Богу известно. Капитан Джэми здорово обозлился на меня и
скоро не выпустит, разве что начну подыхать. А теперь, братец, я дам тебе
такой совет: замолчать и забыться! Вытье и крики тебе не помогут.
Единственный способ -- забыться, -- во что бы то ни стало забыться. Начни,
например, вспоминать всех женщин, которых ты знал. Это отнимет у тебя много
часов. Может быть, у тебя голова закружится -- пускай. Нет ничего лучше
этого, чтобы убить время. А когда женщин не хватит, начни думать о парнях, с
которыми они сходились; о том, что бы ты сделал с ними, если бы мог, и что
ты с ними сделаешь, когда доберешься до них.
Этот человек был разбойник из Филадельфии, по прозвищу Красный. Он
отбывал пятьдесят лет за грабеж на улицах Аламеды. В тот момент, когда он со
мной заговорил, он отбыл лет двенадцать своего срока, а это было семь лет
назад. Он был один из сорока вечников, которых выдал Сесиль Винвуд. За это
он был лишен своей "досрочной выслуги". Теперь он пожилой человек и все еще
сидит в Сан-Квэнтине. Если он доживет до момента, когда его выпустят, он к
тому времени будет стариком.
Я выжил свои двадцать четыре часа и стал совершенно другим человеком.
О, не физически, хотя на другое утро, когда меня развязали, я был наполовину
парализован и в таком состоянии изнеможения, что только пинками сторожам
удалось заставить меня встать на ноги. Но я изменился духовно, морально.
Грубая физическая пытка нанесла страшный удар, унизила, оскорбила мою душу и
мое чувство справедливости. Из этой первой "пеленки" я вышел с озлоблением и
ненавистью, которые только росли в последующие годы. Боже, что эти люди
сделали со мной! Двадцать четыре часа в смирительной куртке! В то утро,
когда меня пинками подняли на ноги, я не думал, что наступит время, когда
двадцать четыре часа пребывания в куртке поистине будут пустяком. Что и
после ста часов, проведенных в куртке, меня будут заставать улыбающимся, и
что после д в у х с о т с о р о к а часов в куртке та же улыбка будет играть
на моих губах!
Да, двести сорок часов, дорогой нарядный гражданин, закутанный в свое
благополучие, как в вату! Знаете ли вы, что это значит? Это значит -- десять
дней и десять ночей в смирительной куртке. Разумеется, таких вещей не делают
в христианском мире через тысячу девятьсот лет после Рождества Христова. Я
не прошу вас верить мне. Я сам этому не верю! Я только з н а ю, что со мной
это было сделано в Сан-Квэнтине и что я научился смеяться над палачами и
заставил их послать меня на виселицу за то, что я раскровянил нос сторожу.
Я пишу эти строки в тысяча девятьсот тринадцатом году после Рождества
Христова, и в этот день, в тысяча девятьсот тринадцатом году после Рождества
Христова, люди лежат в смирительных куртках в карцерах СанКвэнтина.
Сколько я ни буду жить, сколько жизней мне ни суждено в грядущем,
никогда мне не забыть моего расставания с разбойником из Филадельфии в то
утро. До этой минуты он провел семьдесят два часа в куртке.
Что, братец, ты еще жив и брыкаешься? -- окликнул он меня, когда меня
потащили из моего карцера в коридор.
-- Замолчи! -- зарычал на него капрал.
-- Об этом забудь, -- был ответ.
-- Я еще доберусь до тебя, Красный, -- пригрозил капрал.
-- Ты так думаешь? -- спросил Красный ласковым тоном, в котором
послышались нотки ярости. -- Ты, старый бродяга, ничего от меня не
добьешься. Ты не мог бы раздобыть себе даже куска хлеба, а не то что
должности, которую ты занимаешь, если бы не беда твоего ближнего. Но мы все
хорошо знаем, как воняет то место, от которого пошла беда твоих ближних!
Это было великолепно -- присутствие духа в человеке, доходящее до
крайнего бесстрашия, несмотря на все страдания и пытки, соединенные с этой
зверской системой.
-- Прощай, братец, -- обратился он ко мне. -- Веди себя хорошо и люби
смотрителей. Скажи им, что ты меня видел, но что я не сдрейфил!
Капрал побагровел от гнева, и мне за шутку Красного досталось несколько
пинков и тумаков.
В одиночной камере No 1 смотритель Этертон и капитан Джэми продолжали
пытать меня. Смотритель Этертон говорил мне:
-- Стэндинг, ты признаешься насчет этого динамита, или я уморю тебя в
смирительной куртке. Куда более строптивые малые признавались прежде, чем я
разделывался с ними окончательно. Вот тебе на выбор -- динамит или
"пеленки".
-- Пусть будут "пеленки", -- отвечал я. -- Я ничего не знаю ни о каком
динамите.
Это до такой степени взбесило смотрителя, что он ощутил потребность в
немедленных действиях.
-- Ложись, -- скомандовал он.
Я повиновался, ибо отлично знал, что было бы безумием сопротивляться
трем или четырем здоровым мужчинам. Меня крепко скрутили и оставили на сто
часов. Три раза в сутки мне давали глоток воды. Есть мне не хотелось, да мне
и не предлагали еды. К концу ста часов тюремный врач Джексон несколько раз
выслушивал и выстукивал меня.
Но я так привык к смирительной рубашке за время моей "неисправимости",
что одна порция "пеленок" не могла уже причинить мне серьезного вреда!
Разумеется, "пеленки" ослабляли меня, выгоняли из меня жизнь; но я научился
кое-каким мускульным фокусам, которые позволяли "уворовать" немножко
пространства, когда меня связывали. По истечении первой порции в сто часов я
был измотан, измучен -- но и только.
Мне отпустили новую порцию такой же продолжительности, дав передохнуть
день и ночь. Затем меня связали на сто пятьдесят часов.
Значительную часть этого времени я пролежал в оцепенении и в бреду.
Кроме того, усилием воли я заставил себя проспать довольно много часов.
После этого смотритель Этертон внес в пытку некоторое разнообразие. Он
чередовал "пеленки" и отдых неправильными промежутками времени. Я никогда не
знал наперед, когда меня стянут "пеленками". Так, мне давали отдохнуть
десять часов и на двадцать часов затягивали в рубашку; или же давали только
четыре часа отдыха. В самые неожиданные часы ночи дверь моя с грохотом
распахивалась, и дежурные сторожа связывали меня. Иногда в этом наблюдался
своеобразный ритм. Так, в течение трех дней и ночей я получал попеременно
восемь часов куртки и восемь часов отдыха. Как только я привык к этому
ритму, его внезапно переменили и связали меня на двое суток. И вечно мне
ставился один и тот же вопрос: "Где динамит?" Иногда смотритель Этертон
положительно выходил из себя. Однажды, когда я только что перенес необычайно
суровую пытку в "пеленках", он чуть ли не умолял меня признаться; а раз он
обещал мне три месяца больницы в полном покое и на отличном питании, а затем
место хранителя библиотеки.
Доктор Джексон -- плюгавое создание с самыми поверхностными
медицинскими познаниями -- был настроен скептически. Он настаивал, что
смирительная куртка, сколько меня в ней ни держать, не может убить меня. И
это побуждало смотрителя продолжать свои пытки.
-- Эти тощие университетские молодчики способны надуть самого сатану!
-- ворчал он. -- Они крепче сыромятной кожи! Однако мы его сломим. Стэндинг,
выслушай меня! То, что ты получал до сих пор, даже не намек на то, что ты
получишь! Лучше сознайся сейчас и избавь себя от хлопот. Я -- господин
своего слова. Ты слышал, что я тебе сказал -- динамит или "пеленки". Так оно
и будет. Выбирай!
-- Неужели вы думаете, что я терплю такие муки потому, что мне это
нравится? -- сказал я, внезапно охнув, ибо в это мгновение Пестролицый Джон
уперся в мою спину ногой, чтобы потуже стянуть, а я всячески старался
уворовать у него хоть кусочек пространства, отчаянно работая мускулами. --
Признаваться мне не в чем. Да я дал бы отрезать сейчас свою правую руку,
чтобы иметь возможность показать вам какой-нибудь динамит!
-- Знаем мы вас, образованных, -- оскалился насмешливо смотритель. --
Уж если вы заберете себе что-нибудь в голову, то никаким чертом не
выколотишь. Норовисты, как лошадь... Потуже, Джонс, -- ты и наполовину не
стянул его... Стэндинг, если не признаешься, будут "пеленки". Мое слово
крепко!
Я сделал одно утешительное открытие: по мере того как человек
ослабевает, он становится менее чувствительным к страданиям. Боль
уменьшается, потому что почти нечему болеть. А человек, однажды ослабев,
затем ослабевает уже медленнее. Вещь общеизвестная, что очень крепкие люди
сильнее страдают от обыкновенных болезней, чем женщины или слабые мужчины.
По мере того как истощаются запасы сил, меньше остается терять. После того
как излишняя плоть сойдет с человека, остается жилистый и неподатливый
материал. Так было со мной -- я представлял собой какой-то организм из жил,
настойчиво продолжавший жить.
Моррель и Оппенгеймер жалели меня и выстукивали свое сочувствие и
советы. Оппенгеймер уверял меня, что сам прошел через это и даже худшее, а
вот же остался жив...
-- Не давай им извести себя! -- выстукивал он мне. -- Не давай им убить
себя, это будет им на руку! А главное, не проболтайся о складе динамита.
-- Да ведь нет никакого склада, -- выстукивал я в ответ краем подошвы
моего башмака о решетку. Я все время лежал в смирительной куртке и мог
разговаривать только ногами. -- Я ничего не знаю об этом проклятом динамите!
-- Ладно! -- одобрительно заметил Оппенгеймер. -- Он из настоящего
теста, не правда ли, Эд?
Из этого видно, как мало было шансов убедить смотрителя Этертона в
своем полном незнании чего бы то ни было о динамите. Его настойчивость в
вопросах убедила даже такого человека, как Джек Оппенгеймер, который только
восхищался мужеством, с каким я держал язык за зубами!
В этот первый период пытки смирительной рубашки я умудрялся много
спать. Сны были замечательны. Разумеется, они все носили очень живой и
реальный характер, как почти все сны. Но замечательна была их связность и
непрерывность. Часто я читал доклады в собраниях ученых на отвлеченные темы,
читал тщательно разработанные статьи о моих исследованиях или о выводах из
исследований и экспериментов других ученых. Просыпаясь, я еще слышал свой
голос, а глаза мои отчетливо видели напечатанные на белой бумаге фразы и
абзацы, которые я неоднократно перечитывал и которым дивился, пока видение
не исчезало. Между прочим, должен отметить свое наблюдение, что во время
своих речей во сне я пользовался исключительно дедуктивным методом
рассуждения.
Затем мне снились огромные земледельческие районы, тянувшиеся на север
и юг на много сотен миль в одном из умеренных поясов, по климату, флоре и
фауне сильно походившем на Калифорнию. Не раз и не два, но тысячи раз я
странствовал во сне по этим областям. Я хочу подчеркнуть, что это всегда
были одни и те же места. В этих снах ни разу не менялись их существенные
черты. Я помню, что всегда совершал восьмичасовую поездку на тележке,
запряженной горными конями, с лугов, поросших альфой, где паслись коровы
джерсейской породы, к деревне, разбросанной у большого пересохшего ручья,
где я садился в маленький поезд узкоколейки. Каждая межа, каждая
возвышенность, попадавшаяся мне во время восьмичасовой поездки в горной
тележке, каждое дерево, каждая горка, каждый кряж и горный склон были всегда
одни и те же.
В этой связной картине моих бредовых снов детали менялись в зависимости
от времени года и труда людей. Так, на горном пастбище за моими лугами альфы
я разводил стада ангорских коз. Здесь с каждым новым посещением во сне я
замечал перемены -- и эти перемены соответствовали времени, протекшему между
этими посещениями.
О, эти заросшие кустарником склоны! Я их вижу теперь так же живо, как в
тот день, когда я впервые гнал сюда коз. И как хорошо я помню последующие
перемены -- как постепенно образовывались тропинки, по мере того как козы
буквально выедали себе дорогу в густых чащах; как исчезал молодой мелкий
кустарник, как во всех направлениях в старых, высоких кустарниках
образовывались просеки благодаря тому, что козы объедали деревья до самого
верху, становясь на задние ноги. Да, непрерывность этих снов составляла их
главную прелесть... Помню день, когда люди с топорами посрубали все высокие
кусты, чтобы дать козам доступ к листьям, почкам и коре. Помню зимний день,
когда обнаженный скелет этих кустов был собран в кучу и сожжен. Помню день,
когда я погнал моих коз на другой, поросший непроницаемым кустарником,
горный склон, а следом за нами шел крупный скот по колено в сочной траве,
выросшей на том месте, где раньше рос один лишь кустарник. Помню день, когда
я гнал скот, а мои пахари ходили взад и вперед по горному склону, взрывая
жирную плодородную почву и бросая в нее семена.
Сколько раз в своих снах я выходил из маленького вагона узкоколейки,
брел к деревушке, разбросанной у большого пересохшего ручья, садился в
тележку, запряженную горными конями, и час за часом ехал мимо старых
знакомых отметин, по моим лугам альфы, все выше, на горные пастбища,
попеременно засеянные маисом, ячменем и клевером, уже поспевшими для жатвы.
Я наблюдал за работниками, убиравшими хлеб, а дальше паслись мои козы,
забираясь все выше и выше и превращая поросший кустарником склон в
расчищенные и возделанные поля.
Но это были сны -- только сны! Воображаемые приключения
подсознательного ума. Совершенно непохожи на них были, как вы увидите,
другие мои приключения, когда я заживо прошел врата смерти и вновь пережил
жизнь, бывшую моим уделом когда-то далеко в прошлом.
В долгие часы бодрствования в смирительной куртке я не раз думал о
Сесиле Винвуде, поэте-доносчике, который легкомысленно навлек на меня все
эти муки, а сам в этот момент находился на свободе, на вольном свете. Нет, я
не ненавидел его. Это слишком слабое слово. Нет слов в человеческом языке,
которые могли бы выразить мои чувства! Могу только сказать, что я познал
грызущую тоску о мщении -- эта тоска невероятно мучительная и не поддается
никакому описанию. Не стану рассказывать вам о том, как я целыми часами
строил планы пыток для Винвуда, о сатанинских приемах пытки, какие я
изобретал для него. Приведу только один пример. Я облюбовал старинную пытку,
заключавшуюся в том, что железную чашку с крысой прижимают к телу человека.
Крыса только одним путем может выйти на волю -- с к в о з ь человека.
Повторю, я был в л ю б л е н в эту идею -- пока не сообразил, что это была
бы слишком скорая смерть, после чего стал подолгу и любовно останавливаться
мыслью на мавританской пытке... но нет, я ведь обещал не распространиться об
этом предмете. Довольно будет сказать, что безумно-мучительные часы моего
бодрствования в значительной мере были посвящены мечтам о мщении Сесилю
Винвуду.
За долгие тягостные часы моего бодрствования я узнал одну очень ценную
вещь, именно -- познакомился с властью души над телом. Я научился страдать
пассивно, -- чему, вероятно, научились и все люди, проходившие
послеуниверситетский курс смирительной рубашки. О, не так легко, как вы
думаете, поддерживать мозг в таком ясном спокойствии, чтобы он совершенно
забывал о неустанной, отчаянной жалобе пытаемых нервов!
И эта власть духа над плотью, приобретенная мною, дала мне возможность
без труда проделать над собой опыт, которым Эд Моррель поделился со мной.
-- Ты, надо полагать, в "пеленках"? -- простучал мне как-то ночью Эд
Моррель.
Меня только что развязали после сточасовой порции, и на этот раз я
ослабел больше, чем когда бы то ни было прежде. Я был так слаб, что, хотя
все мое тело представляло сплошную массу ссадин и кровоподтеков, я едва
сознавал, что у меня есть тело.
-- Похоже на "пеленки", -- простучал я в ответ. -- Они меня доконают,
если будут продолжать в этом роде.
-- Не поддавайся, -- советовал он. -- Есть способ! Я научился этому в
карцере, когда мы с Масси получили полную порцию. Я выдержал, а Масси
скапутился. Не научись я этому фокусу, я окочурился бы вместе с ним. Прежде
чем попробовать э т о, ты должен хорошо ослабеть. Если ты попытаешься, не
ослабев совсем, то срежешься, и это испортит тебе музыку навсегда. Я сделал
оплошность с Джеком. Он попробовал эту штуку, когда был еще в силе.
Разумеется, он потерпел неудачу, а когда это ему понадобилось, то было уже
поздно: первая неудача все испортила. Теперь он не верит этому, он думает,
что я его морочу. Не правда ли, Джек?
И Джек простучал в ответ из камеры No 13:
-- Не слушай его, Дэррель! Это просто сказки!
-- Продолжай рассказывать, -- простучал я Моррелю.
-- Вот почему я ждал, пока ты как следует ослабнешь, -- продолжал
Моррель, -- теперь это тебе нужно, я расскажу. Так вот, если у тебя есть
сила воли, ты это сделаешь; я проделал три раза и знаю, что это возможно.
-- В чем же дело? -- нетерпеливо выстукивал я.
-- Штука заключается в том, чтобы умереть в "пеленках", з а х о т е т ь
умереть! Я знаю, ты еще не понимаешь, но погоди. Ведь тебе случалось онеметь
в "пеленках" -- засыпает, например, рука или нога. Бороться с этим ты не
можешь, ты ухватись за это и усовершенствуй. Ты не жди, пока у тебя заснут
ноги или что-нибудь другое. Ты лежи на спине как можно спокойнее и начинай
упражнять свою волю. Думай об этом непрерывно, все время, и все время ты
должен верить тому, о чем будешь думать. Если не веришь -- ничего не
добьешься. А думать и верить ты должен вот во что: тело твое -- одно, а душа
-- совсем другое! Ты -- это ты, а тело -- нечто другое, не стоящее гроша.
Тело твое в счет не идет. Ты -- хозяин! Ты не нуждаешься в теле. Думая об
этом и веруя, ты докажешь это напряжением своей воли. Ты заставишь свое тело
умереть.
-- Начинаешь ты с пальцев ноги, по одному в раз. Ты заставляешь умереть
свои пальцы. Ты х о ч е ш ь, чтобы они умерли. И если у тебя есть вера и
воля, то пальцы умрут. В этом самое главное -- н а ч а т ь умирание. Раз ты
умертвил первые пальцы, остальное дается легко, и верить тебе уже не нужно
-- ты з н а е ш ь. Затем ты вкладываешь всю свою волю в желание умертвить
остальное тело. Говорят тебе, Дэррель, я знаю это наверное! Я сам проделывал
это целых три раза.
-- И раз ты начал умирание, дальше пойдет как по маслу. И всего
забавнее, что все это время ты тут же присутствуешь! То, что твои пальцы
мертвы, нисколько не делает тебя мертвым. Понемногу твои ноги умирают до
колен, затем ляжки -- а ты все время тут! Тело твое уходит из жизни по
кусочкам, а ты -- это ты, каким был перед тем, как начал.
-- А что же дальше? -- допытывался я.
-- И вот когда твое тело совсем умрет, а ты еще тут, ты просто-напросто
выходишь из своего тела, покидаешь его. А раз ты покинул тело. ты покинешь и
камеру. Каменные стены и железная дверь сделаны для того, чтобы удержать
тело, но они не могут удержать душу. Ты -- дух вне своего тела. Ты можешь
взглянуть на свое тело со стороны. Говорят тебе, я это з н а ю, ибо
проделывал три раза, смотрел на свое тело, лежащее где-то в стороне от меня.
-- Ха-ха-ха! -- застучал Джек Оппенгеймер, лежащий в тринадцатой камере
от нас.
-- Видишь ли, вся беда Джека в том, -- продолжал Моррель, -- что он не
может поверить. В тот единственный раз, когда он попробовал, он был еще
слишком крепок, и ему не удалось. И теперь он думает, что я шучу.
-- Когда ты умираешь, ты мертв; а мертвые люди и остаются мертвыми, --
возразил Оппенгеймер.
-- Говорят тебе -- я умирал трижды, -- настаивал Моррель.
-- И дожил до того, что рассказываешь нам об этом? -- издевался
Оппенгеймер.
-- Но ты вот чего не забывай, Дэррель, -- продолжал выстукивать Моррель
по моему адресу. -- Это дело щекотливое, у тебя все время такое чувство,
словно ты играешь с огнем. Не могу тебе объяснить хорошенько, но мне всегда
кажется, что если я буду отсутствовать в тот момент, когда придут и выпустят
мое тело из "пеленок", то не смогу попасть в него обратно. Я хочу сказать:
мое тело умрет навсегда. А мне не хотелось бы умереть, мне не хотелось бы
доставить капитану Джэми это удовольствие. Но говорю тебе, Дэррель, если ты
научишься этой штуке, ты можешь плюнуть на смотрителя. Раз ты заставишь свое
тело умереть, тебе уже все равно, будут ли тебя держать в "пеленках" хоть
целый месяц подряд. Ты нисколько не страдаешь. И тело твое не болит. Знаешь,
бывают случаи, когда люди спят целый год сряду. Так вот это самое будет
происходить с тобой, когда твое тело умрет. Оно просто остается в "пеленках"
и ждет твоего возвращения. Ты попробуй, я тебе даю дельный совет.
-- А если он не вернется? -- спросил Оппенгеймер.
-- Тогда над ним посмеются, пожалуй, -- отвечал Моррель, -- а может
быть, посмеются над нами, что мы тянем старую лямку, когда легко могли бы
избавиться от нее.
На этом разговор закончился, ибо Пестролицый Джонс очнулся от своей
дремоты и пригрозил Моррелю и Оппенгеймеру, что утром пожалуется на них, а
это значило, что их "спеленают"; мне он не грозил, ибо знал, что я все равно
обречен "пеленкам". Долго лежал я в молчании, забыв о физических муках, и
все думал о предложении, сделанном Моррелем. Как я уже говорил, посредством
самогипноза я пытался проникнуть в прошлое, в свое предыдущее существование.
Я знал, что отчасти мне это удалось; но то, что я переживал, носило характер
бессвязных видений.
Предлагаемый же Моррелем метод настолько не походил на мой метод
самогипноза, что просто очаровал меня. По моему способу, первым от меня
уходило сознание; по его же способу -- сознание исчезало последним, и когда
мое сознание уйдет, оно должно будет перейти в такую стадию, что покинет
тело, покинет Сан-Квэнтинскую тюрьму, будет странствовать в далеких
просторах -- и притом оставаться сознанием.
Попытаться, во всяком случае, стоило. Так я решил, и несмотря на
привычный мне скептицизм ученого -- я поверил. Я не сомневался, что смогу
проделать то, что Моррель проделывал трижды. Может быть, я так легко поверил
потому, что страшно изнемог физически. Может быть, во мне не оставалось уже
сил для скептицизма. Такую именно гипотезу и развивал ведь Моррель.
Это был чисто эмпирический вывод, и, как вы увидите ниже, я доказал его
эмпирически.
В довершение всего на следующее утро смотритель Этертон ворвался в мою
камеру с явным намерением убить меня. С ним были капитан Джэми, доктор
Джексон, Пестролицый Джонс и Эль Гетчинс. Эль Гетчинс отбывал сорокалетний
срок заключения и надеялся на помилование. Вот уже четыре года, как он был
главным "старостой" арестантов Сан-Квэнтина. Вы поймете, какой это был
важный пост, если я вам скажу, что одни взятки главному старосте исчислялись
в три тысячи долларов в год. Вследствие этого Эль Гетчинс, обладавший
десятью или двенадцатью тысячами долларов капитала и обещанием помилования,
слепо повиновался смотрителю, который мог смело на него рассчитывать. Я
только что сказал, что смотритель Этертон вошел в мою камеру с намерением
убить меня. Последнее было написано на его лице, и он доказал это своими
действиями.
-- Исследуйте его! -- приказал он доктору Джексону.
Это жалкое подобие человека стащило с меня заскорузлую от грязи
рубашку, которую я носил с момента поступления в одиночку, и обнаружил мое
жалкое тело -- кожа сморщилась бурыми пергаментными складками над ребрами и
была сплошь в ссадинах от стягивания курткой. Медицинский осмотр был
произведен бесстыдно поверхностно.
-- Выдержит? -- спросил смотритель
-- Да, -- ответил доктор Джексон.
-- А как сердце?
-- Великолепно!
-- Вы думаете, он выдержит, доктор?
-- Без сомнения.
-- Я не верю этому, -- свирепо огрызнулся смотритель, -- но мы все же
попробуем. Ложись, Стэндинг! -- Я повиновался и лег ничком на разостланный
брезент. Смотритель с минуту, казалось, колебался. -- Перевернись! --
скомандовал он.
Я несколько раз пытался это сделать, но слишком ослабел и мог только
беспомощно ерзать по полу.
-- Притворяется, -- объяснил Джексон.
-- Ну, он забудет притворяться, когда я с ним разделаюсь по-свойски, --
заметил смотритель. -- Помогите ему: я не могу тратить на него много
времени!
Меня положили на спину, и я увидел прямо над собой лицо смотрителя
Этертона.
-- Стэндинг, -- медленно заговорил он. -- Я устал, мне надоело твое
упрямство, терпение мое истощилось. Доктор Джексон говорит, что ты в
состоянии провести десяток суток в куртке. Взвесь свои силы. Теперь я даю
тебе последний шанс. Признайся насчет динамита. В ту же минуту, как он будет
в моих руках, я выпущу тебя отсюда. Ты сможешь принять ванну, побриться,
одеться в чистое платье. Я дам тебе бездельничать шесть месяцев на
больничном пайке, а затем сделаю тебя хранителем библиотеки. Ты не можешь
требовать от меня большего! Кроме того, ты ведь ни на кого не доносишь. Ты
-- единственный человек в Сан-Квэнтине, знающий, где находится динамит. Ты
никому не повредишь, уступив мне, и тебе будет хорошо с той минуты, как ты
признаешься. Если же ты откажешься...
Он помолчал, многозначительно пожав плечами.
-- Что ж, если ты откажешься, так лучше тебе сейчас начинать свои
десять дней!
Перспектива была чудовищная. Я так ослабел, что был уверен не меньше
смотрителя, что новая порция куртки означает для меня верную смерть. И тут я
вспомнил о фокусе Морреля. Вот когда он нужен был мне; вот когда время
испытать свою веру в этот прием! Я усмехнулся прямо в лицо Этертону. Я
вложил веру в эту улыбку, вложил веру в предложение, которое сделал ему.
-- Смотритель, -- начал я, -- видите: я улыбаюсь. Так вот, если через
десять дней, когда вы меня развяжете, я улыбнусь таким же манером, дадите ли
вы пачку табаку и книжку папиросной бумаги Моррелю и Оппенгеймеру?
-- Ну, не сумасшедшие ли они, эти университетские парни? -- прохрипел
капитан Джэми.
Смотритель Этертон был человек холерического темперамента. Он принял
мое предложение как оскорбительную браваду.
-- За это ты получишь лишнюю затяжку! -- объявил он мне.
-- Я сделал вам хорошее предложение, смотритель, -- возразил я. --
Можете стягивать меня, как вам будет угодно, но если через десять дней я
буду улыбаться, дадите вы табаку Моррелю и Оппенгеймеру?
-- Как ты уверен в себе!
-- Оттого я и делаю это предложение.
-- Верующий, а? -- насмешливо спросил он.
-- Нет, -- ответил я, -- просто случилось так, что во мне больше жизни,
чем вы можете отнять у меня! Стяните меня хоть на сто дней, и через сто дней
я буду так же улыбаться.
-- Я думаю, десяти дней будет более чем достаточно, Стэндинг!
-- Так вы полагаете? -- отвечал я. -- Вы в это верите? Если верите, то
вы не потеряете даже стоимости этих двух пятицентовых пачек табаку. В конце
концов, чего вы боитесь?
-- За два цента я сворочу тебе физиономию! -- прорычал он.
-- Не пугайте! -- с вежливой наглостью продолжал я. -- Бейте меня
сколько хотите, а на лице у меня останется довольно места для улыбки. Но раз
вы колеблетесь -- примите мое первоначальное предложение!
Нужно было сильно ослабеть или находиться в полном отчаянии, чтобы в
одиночной камере говорить таким тоном со смотрителем. Но я верил и
действовал по моей вере. Я верил тому, что Моррель рассказал мне. Я верил в
господство духа над телом. Я верил, что даже сто дней, проведенных в куртке,
не убьют меня!
Должно быть, капитан Джэми почувствовал эту веру, ибо он промолвил:
-- Я помню, лет двадцать назад сошел с ума один швед. Это было еще до
вашего поступления сюда, смотритель. Он убил человека в ссоре из-за двадцати
пяти центов. Его приговорили к пожизненному заключению. Он был повар и
верующий человек. Он объявил вдруг, что к нему спускается колесница, чтобы
унести его на небо, сел на раскаленную докрасна плиту и распевал гимны и
осанны, поджариваясь на ней! Его стащили с плиты и через два дня он умер в
больнице. Он прожарился до костей и до конца продолжал клясться, что даже не
почувствовал огня! У него ни разу не вырвалось стона!
-- Мы заставим стонать Стэндинга! -- проговорил смотритель.
-- Раз вы так уверены в этом, почему бы вам не принять моего
предложения? -- вызывающе спросил я.
Смотритель пришел в такую ярость, что я захохотал бы, если бы не мое
бедственное положение. Лицо его судорожно исказилось, он стиснул кулаки, и
мне казалось, что вот он кинется на меня и изобьет. Но он, сделав усилие,
овладел собой.
-- Ладно, Стэндинг, -- пробурчал он. -- Я согласен. Но знай, тебе
придется много вынести до того, как улыбнуться через десять дней!
Переверните его, ребята, и стягивайте, пока у него ребра не затрещат.
Гетчинс, покажи ему, что ты знаком с этим делом!
Меня перевернули и стянули так крепко, как ни разу еще не стягивали.
Без сомнения, главный староста показывал свое усердие! Я старался украсть
кусочек пространства. Оно было очень невелико, ибо я давно уже потерял жир и
мясо, и мускулы мои превратились в какие-то веревочки. Мне удалось уворовать
самую крошечку места, и то ценой невероятного напряжения сил. Но и этого
места меня лишил Гетчинс, который в свое время, до того как он сделался
старостой, имел богатый опыт по части смирительной куртки.
Видите ли, Гетчинс был собакой в душе, хотя когда-то был человеком. Он
обладал десятью или двенадцатью тысячами долларов, и его ждала свобода при
условии беспрекословного исполнения приказаний. Позднее я узнал, что его
ждала преданная ему девушка. Женщина многое объясняет в поступках людей!
Если когда-либо человек совершил предумышленное убийство, то такое
убийство совершил в это утро в одиночной камере Гетчинс по приказу
смотрителя. Он лишил меня ничтожного пространства, которое я себе отвоевал!
И, лишив меня его, при полной моей беспомощности, он уперся ногой мне в
спину и так крепко стянул, как никому еще не удавалось до него. Мне
казалось, что я сейчас умру; но чудо веры оставалось со мной. Я не верил,
что я умру! Я знал, -- да, повторяю, знал, что не умру. В голове у меня
шумело, сердце яростно колотилось, и толчки отдавались во всем моем теле от
конца пальцев на ногах до корней волос на голове.
-- Довольно туго, -- неохотно заметил капитан Джэми.
-- Черта с два! -- возразил Джексон. -- Говорят вам, на него ничто не
действует. Он колдун! Ему давно пора быть на том свете!
С невероятными усилиями смотритель Этертон протиснул указательный палец
между шнуровкой и моей спиной. Он поставил на меня ногу и налег всем телом,
но не мог прощупать ни крохи свободного пространства.
-- Снимаю перед тобой шапку, Гетчинс! Ты знаешь свое дело. Теперь
переверни, и мы полюбуемся им!
Меня перевернули на спину. Я уставился на смотрителя выкатившимися
глазами. Одно я знаю наверное: если бы меня так же крепко спеленали в первый
раз, я, конечно, скончался бы в первые же десять минут. Но теперь я был
вытренирован. За мной была тысяча часов лежания в смирительной куртке; мало
того, со мной была вера, которую вселил в меня Моррель.
-- Теперь смейся, проклятый, смейся! -- говорил смотритель. --
Показывай же улыбку, которой ты похвалялся!
И хотя мои легкие задыхались от недостатка воздуха и сердце, казалось,
вот-вот разорвется, хотя в голове мутилось, -- тем не менее я усмехнулся
прямо в рожу смотрителю Этертону!
Хлопнула дверь, оставив самую узкую полоску света. Я остался лежать на
спине в одиночестве. При помощи уловки, к которой я давно приспособился,
находясь в смирительной куртке, я, извиваясь, подобрался, по дюйму в один
прием, до двери, пока краем подошвы моего правого башмака не коснулся ее. Я
испытал при этом неимоверное облегчение. Я был теперь не совсем одинок! В
случае необходимости я мог перестукнуться с Моррелем.
Но, должно быть, смотритель Этертон отдал строгие приказания сторожам;
ибо хотя мне и удалось вызвать Морреля и сообщить ему, что я намерен
произвести известный ему опыт, сторожа не дали ему ответить. Меня они могли
только ругать; пока я находился в смирительной куртке, я мог не бояться
никаких угроз.
Должен заметить, что все это время мой дух хранил полную ясность.
Обычная боль терзала меня, но дух мой сделался настолько пассивен, что я так
же мало замечал эту боль, как пол под собой или стены вокруг. Трудно было
придумать более подходящее умственное и душевное состояние для задуманного
эксперимента. Разумеется, все это обусловливалось моей крайней слабостью. И
не только этим. Я давно уже чувствовал себя готовым на все. Я не испытывал
ни сомнений, ни страха. Все содержание моей души превратилось в абсолютную
веру в господство разума. Эта пассивность была похожа на грезу и доходила
положительно до экзальтации.
Я начал сосредоточивать свою волю. Тело мое находилось в онемении,
вследствие нарушенного кровообращения у меня было такое чувство, словно меня
кололи тысячами иголок. Я сосредоточил свою волю на мизинце правой ноги и
приказал ему перестать существовать в моем сознании. Я хотел, чтобы этот
мизинец умер, -- умер, поскольку дело касалось меня, его владыки --
существа, от него совершенно отличного. Это была тяжелая борьба. Моррель
предупредил меня, что так и будет. Но я не сомневался. Я знал, что этот
палец умрет, и заметил, что он умер. Сустав за суставом умирали под
действием моей воли.
Дальше дело пошло легче, но медленно. Сустав за суставом, палец за
пальцем -- все пальцы обеих моих ног перестали существовать. Сустав за
суставом -- процесс продолжался дальше. Наступил момент, когда перестали
существовать мои ноги у лодыжек. Наступил момент, когда уже перестали
существовать мои ноги ниже колен.
Я находился в такой экзальтации, что не испытывал даже проблеска
радости при этих успехах. Я ничего не сознавал, кроме того, что заставляло
мое тело умирать. Все, что оставалось от меня, было посвящено этой
единственной задаче. Я делал это дело так же основательно, как каменщик
кладет кирпичи, и смотрел на все это как на вещь столь же обыкновенную, как
для каменщика кладка кирпичей.
Через час мое тело умерло до бедер, и я продолжал умерщвлять его все
выше и выше.
Только когда я достиг уровня сердца, произошло первое помутнение моего
сознания. Из страха, как бы не лишиться сознания, я приказал смерти
остановиться и сосредоточил свое внимание на пальцах рук. Мозг мой опять
прояснился, и умирание рук до плеч совершилось поразительно быстро.
В этой стадии все мое тело было мертво по отношению ко мне, кроме
головы и маленького участка груди. Биение и стук стиснутого сердца уже не
отдавались в моем мозгу. Сердце мое билось правильно, но слабо. И если бы я
позволил себе испытать радость, то эта радость покрыла бы все мои ощущения.
В этом пункте мой опыт отличается от опыта Морреля. Автоматически
продолжая напрягать свою волю, я впал в некоторую дремоту, которую
испытывает человек на границе между сном и пробуждением. Мне стало казаться,
что произошло огромное расширение моего мозга в черепе, хотя самый череп не
увеличился. Были какието мелькания и вспышки, и даже я, верховный владыка,
на мгновение перестал существовать, но в следующий миг воскрес, все еще
жильцом плотского обиталища, которое я умерщвлял.
Больше всего меня смущало кажущееся расширение мозга. Он не вышел за
пределы черепа, и все же мне казалось, что поверхность его находится вне
моего черепа и продолжает расширяться. Наряду с этим появилось самое
замечательное из ощущений, какие я когда-либо испытывал. Время и
пространство, поскольку они составляли содержание моего сознания,
подверглись поразительному расширению. Не открывая глаз, чтобы проверить
это, я положительно знал, что стены моей тесной камеры расступились, я
очутился в какой-то огромной аудитории и знал, что они продолжают
расступаться. Мне пришла в голову капризная мысль, что если такое же
расширение произойдет со всей тюрьмой, то в таком случае наружные стены
Сан-Квэнтина должны будут отодвинуться в Тихий океан с одной стороны, а по
другую сторону -- стены достигнут пустынь Невады. И тут же у меня возникла
другая мысль, что раз материя может проникать в другую материю, то стены
моей камеры могут пройти сквозь тюремные стены, и таким образом моя камера
окажется вне тюрьмы, и я буду на свободе! Разумеется, это была чистая
фантазия, и я все время сознавал, что это фантазия.
Столь же замечательно было и расширение времени. Сердце мое билось
теперь с большими промежутками. Опять у меня мелькнула капризная мысль -- и
я медленно и упорно стал считать секунды, разделявшие биения сердца.
Вначале, как я отчетливо заметил, между двумя биениями сердца проходило
больше сотни секунд. Но по мере того, как я продолжал счет, промежутки
настолько расширились, что я соскучился считать.
И в то же время, как эти иллюзии времени и пространства упорствовали и
росли, я поймал себя на том, что полусонно разрешаю новую глубокую проблему.
Моррель говорил мне, что он освободился от своего тела, убив его -- или
выключив тело из своего сознания, что по результату одно и то же. Теперь мое
тело было настолько близко к полному умерщвлению, что я знал с совершенной
уверенностью: одно быстрое сосредоточение воли на еще живом участке моей
груди -- и оно перестанет существовать. Но тут возникла проблема, о которой
Моррель не предупредил меня: должен ли я умертвить свою голову? Если я это
сделаю, что будет с духом Дэрреля Стэндинга? Не останется ли тело Дэрреля
Стэндинга на веки веков мертвым?
И я проделал опыт с грудью и медленно бьющимся сердцем. Быстрый нажим
моей воли был вознагражден. У меня уже не было ни груди, ни сердца! Я был
теперь только ум, дух, сознание -- назовите как хотите, -- воплощенное в
туманный мозг, который еще помещался внутри моего черепа, но расширялся и
продолжал расширяться в пределах этого самого черепа.
И вдруг, в мельканиях света, я улетел прочь! Одним скачком я
перепрыгнул крышу тюрьмы и калифорнийское небо и очутился среди звезд. Я
обдуманно говорю "звезд". Я странствовал среди звезд и видел себя ребенком.
Я был одет в мягкие шерстяные и нежно окрашенные одежды, мерцавшие в
холодном свете звезд. Разумеется, внешний вид этих одежд объяснялся моими
детскими впечатлениями от цирковых артистов и детскими представлениями об
одеянии ангелочков.
Как бы то ни было, в этом одеянии я ступал по межзвездным
пространствам, гордый сознанием, что переживаю какое-то необычайное
приключение, в конце которого открою все формулы космоса и выясню себе
конечную тайну Вселенной. В руке у меня был длинный стеклянный жезл.
Кончиком этого жезла я должен был коснуться мимоходом каждой звезды. И я
знал с полной уверенностью, что если я пропущу хоть одну звезду, то буду
низвергнут в некую бездну в виде кары за непростительную вину.
Долго продолжались мои звездные скитания. Когда я говорю "долго", то вы
должны принять во внимание неимоверное расширение времени в моем мозгу.
Целые столетия я блуждал по пространствам, задевая на ходу рукой и кончиком
жезла каждую попадающуюся звезду. Путь мой становился все светлее.
Неисповедимая цель бесконечной мудрости приближалась. И я не делал ошибки.
Это не было мое другое "я". Это не было тем переживанием, которое я
испытывал раньше. Все это время я сознавал, что я -- Дэррель Стэндинг --
странствую среди звезд и ударяю по ним стеклянным жезлом. Короче говоря, я
знал, что в этом не было ничего реального, ничего, что когда-либо было или
могло быть. Я знал, что все это смешная оргия воображения, которой люди
предаются под влиянием наркотиков, в бреду или в обыкновенной дремоте.
И вот когда все так удачно складывалось в моих небесных исканиях,
кончик моего жезла не коснулся одной из звезд -- я почувствовал, что
совершил страшное преступление, -- в то же мгновение сильный, неумолимый и
повелительный удар, как топот железного копыта Рока, обрушился и грохотом
отдался по Вселенной! Все звезды ярко засверкали, зашатались и провалились в
огненную пропасть. Я почувствовал острую рвущую боль и в то же мгновение
сделался Дэррелем Стэндингом, каторжником, осужденным на пожизненное
заключение, лежащим в смирительной куртке в одиночной камере. И я понял
ближайшую причину этого. Это был стук Эда Морреля из камеры No 5; он
выстукивал мне какую-то весть.
А теперь я хочу дать вам некоторое понятие о пределах расширения
времени и пространства в моем сознании. Через много дней после этого случая
я спросил както Морреля, что он хотел простучать мне.
Оказалось -- вот что:
-- Стэндинг, ты здесь?
Он быстро простучал это, пока сторожа находились на другом конце
коридора, в который выходили одиночные камеры. Как я уже сказал, простучал
он эту фразу очень быстро. И вот посудите: между первым и вторым ударом я
улетел и очутился среди звезд, трогая каждую звезду, в погоне за формулой,
объясняющей конечную тайну жизни, и, как уже говорил прежде, я продолжал эти
искания в течение столетий. Потом раздался топот копыт Рока, появилось
ощущение страшной рвущей боли, и я опять очутился в своей камере в
Сан-Квэнтине. Это был второй удар костяшек Эда Морреля! Промежуток между
первым и вторым ударом не мог составлять больше пятой доли секунды. А время
так растянулось для меня, что в течение одной пятой доли секунды я успел
пространствовать долгие века среди звезд!
Я знаю, читатель, что все это кажется вам какой-то чепухой. Я согласен
с вами -- это чепуха. Но я пережил это. И было это для меня так же реально,
как змея для человека, одержимого белой горячкой.
По самой щедрой оценке выстукивание Морреля могло отнять у него не
более двух минут. А для меня между первым ударом его костяшек и последним
протекли целые тысячелетия. Я не мог уже шествовать по моей звездной стезе в
неизреченной простодушной радости, ибо путь мой был отягчен страхом
неизбежного оклика, который рвал меня, дергал назад в ад смирительной
рубашки. Таким образом, тысячелетия моих звездных странствий были
тысячелетиями страха.
Я все время знал, что именно стуки Эда Морреля так грубо стаскивают
меня на землю. Я попробовал заговорить, попросить его перестать. Но я так
основательно изолировал свое тело от сознания, что оказался не в состоянии
воскресить его. Тело мое лежало мертвым в смирительной куртке, сам же я
обитал в черепе. Тщетно пытался я напряжением воли заставить свою ногу
простучать мою просьбу к Моррелю. Рассуждая, я знал, что у меня есть нога;
но я так основательно произвел эксперимент, что ноги у меня в сущности не
было.
Затем -- теперь я знаю это потому, что Моррель выстукал свое сообщение
до конца, -- я мог снова начать свои скитания среди звезд, не прерываемый
окликами. После этого я смутно почувствовал, что засыпаю, и сон мой был
восхитителен. Время от времени в дремоте я шевелился -- обратите внимание,
читатель, на это слово -- ш е в е л и л с я. Я шевелил руками, ногами. Я
ощущал чистое, мягкое постельное белье на своей коже. Я испытывал физическое
благосостояние! О, как это было восхитительно! Как жаждущий в пустыне грезит
о плеске фонтана, о струях родников, так и я мечтал о свободе от тисков
смирительной куртки, о чистоте, о гладкой, здоровой коже вместо моей
сморщенной, как пергамент, шкуры. Но вы сейчас увидите, что мои грезы носили
своеобразный характер.
Я проснулся. Проснулся целиком и вполне, хотя не раскрывал глаз. И
поразительно, что все последовавшее за тем ни в какой степени меня не
изумляло. Все было естественным, не неожиданным. Я остался собой -- это
несомненно. Но я был у ж е не Д э р р е л ь С т э н д и н г. Дэррель
Стэндинг имел такое же отношение к моему теперешнему "я", как сморщенная
подобно пергаменту кожа Дэрреля Стэндинга имела отношение к прохладной
гладкой коже, принадлежащей мне теперь. Я и не подозревал существования
Дэрреля Стэндинга -- ведь Дэррель Стэндинг еще не родился и не должен был
родиться в течение нескольких столетий. Но вы сами это увидите.
Я лежал с закрытыми глазами, лениво прислушиваясь. Ко мне доносился
мерный топот множества копыт по каменным плитам. По звону и лязгу
металлических частей доспехов и конской сбруи я понял, что по улице под
моими окнами проходит какая-то кавалькада. Я лениво соображал, кто бы это
мог быть. Откуда-то -- и я знал откуда, ибо знал, что это двор гостиницы, --
раздавался топот копыт и нетерпеливое ржанье, в котором я признал ржанье
моей лошади, ожидавшей меня.
Послышались шаги и движение -- очевидно, осторожное, чтобы не нарушить
тишины, и все же умышленношумное, с тайным намерением разбудить меня, если я
еще сплю. Внутренне я улыбнулся этому лукавому маневру.
-- Понс, -- приказал я, не раскрывая глаз, -- воды, холодной воды,
скорей, целый потоп! Я слишком много пил вчера, и во рту у меня горит.
-- И слишком много спал! -- с укором проговорил Понс, подавая мне воду.
Я сел, раскрыл глаза, поднес кружку к губам обеими руками и, глотая
воду, глядел на Понса...
Теперь заметьте два обстоятельства. Я говорил пофранцузски и не
сознавал, что говорю по-французски. Только впоследствии, в одиночестве моей
камеры вспоминая то, что я сейчас рассказываю, я понял, что говорил
по-французски, -- мало того, говорил хорошо. Что касается меня, Дэрреля
Стэндинга, пишущего эти строки в Коридоре Убийц Фольсомской тюрьмы, то я
знаю французский язык лишь настолько, чтобы читать научные книги. Но
говорить по-французски -- немыслимо! Едва ли я сумел бы правильно прочесть
вслух обеденное меню.
Но вернемся к моему повествованию. Понс был сморщенный старикашка; он
родился в нашем доме -- я это знаю, ибо об этом говорилось в описываемый
мною день. Понсу было все шестьдесят лет; у него почти не осталось зубов;
несмотря на явную хромоту, заставлявшую его ходить вприпрыжку, он был очень
подвижен и ловок в своих движениях. Фамильярен он был до дерзости. Это
объяснялось тем, что он прожил в нашем доме шестьдесят лет. Он служил моему
отцу, когда я еще не умел ходить, а после смерти отца (о нем мы с Понсом
говорили в этот самый день) стал моим слугой. Хромоту он получил на поле
сражения в Италии, во время кавалерийской атаки. Едва успел он вытащить
моего отца из-под копыт, как был пронзен пикой в бедро, опрокинут и
растоптан. Отец мой, сохранивший сознание, но ослабевший от ран, был всему
этому свидетелем. Стало быть, старый Понс заслужил свое право на дерзкую
фамильярность, которую во всяком случае не мог бы осудить я -- сын моего
отца.
Когда я осушил огромную кружку, Понс покачал головой.
-- Слышал, как закипело? -- засмеялся я, возвращая ему пустой сосуд.
-- Точь-в-точь как отец, -- с какой-то безнадежностью проговорил он. --
Но твой отец исправился в конце концов, а будет ли это с тобой --
сомневаюсь!
-- У него была болезнь желудка, -- слукавил я, -- так что от маленького
глотка спирта его мутило. Зачем пить то, чего нутро не выносит?
Пока мы так разговаривали, Понс собирал мое платье.
-- Пей, господин мой, -- отвечал слуга, -- тебе не повредит, ты умрешь
со здоровым желудком.
-- Ты думаешь, у меня желудок обит железом? -- сделал я вид, что не
понял его.
-- Я думаю... -- начал он раздраженно, но умолк, поняв, что я дразню
его, и, обиженно поджав губы, повесил мой новый соболий плащ на спинку
стула. -- Восемьсот дукатов! -- язвительно заметил он. -- Тысяча коз и
тысяча жирных волов только за то, чтобы красиво одеться! Два десятка
крестьянских ферм на плечах одного дворянина!
-- А в этом сотня крестьянских ферм и один-два замка в придачу, не
говоря уже о дворце, -- промолвил я, вытянув руку и коснувшись ею рапиры,
которую он в этот момент клал на стул.
-- Твой отец все добывал своей крепкой десницей, -- возразил Понс. --
Но отец умел удержать добытое!
Понс с презрением поднял на свет мой новый алый атласный камзол --
изумительную вещь, за которую я заплатил безумные деньги.
-- Шестьдесят дукатов -- и за что? -- укоризненно говорил Понс. -- Твой
отец отправил бы к сатане на сковородку всех портных и евреев христианского
мира, прежде чем заплатить такие деньги.
Пока мы одевались -- то есть пока Понс помогал мне одеваться, -- я
продолжал дразнить его.
-- Как видно, Понс, ты не слыхал последних новостей? -- лукаво заметил
я.
Старый сплетник навострил уши.
-- Последних новостей? -- переспросил он. -- Не об английском ли дворе?
-- Нет, -- замотал я головой. -- Новости, впрочем, вероятно, только для
тебя -- другим это не ново. Неужели не слыхал? Вот уже две тысячи лет, как
философы Греции пустили их шепотком! Из-за этих-то новостей я нацепил на
свои плечи двадцать плодороднейших ферм, живу при дворе и сделался франтом.
Видишь ли, Понс, мир -- прескверное место, жизнь -- тоскливая штука, люди в
наши дни, как я, ищут неожиданного, хотят забыться, пускаются в шалости, в
безумства...
-- Какая же новость, господин? О чем шептались философы встарь?
-- Что Бог умер, Понс! -- торжественно ответил я. -- Разве ты этого не
знал? Бог мертв, как буду скоро мертв и я, -- а ведь на моих плечах двадцать
плодородных ферм...
-- Бог жив! -- горячо возразил Понс. -- Бог жив, и царствие его близко.
Говорю тебе, господин мой, оно близко. Может быть, не дальше как завтра
сокрушится земля!
-- Так говорили люди в Древнем Риме, Понс, когда Нерон делал из них
факелы для освещения своих игрищ.
Понс с жалостью посмотрел на меня.
-- Чрезмерная ученость -- та же болезнь! -- проговорил он. -- Я был
всегда против этого. Но тебе непременно нужно поставить на своем, повсюду
таскать за собою мои старые кости -- ты изучаешь астрономию и арифметику в
Венеции, поэтику и итальянские песенки во Флоренции, астрологию в Изе и бог
ведает еще что в этой полоумной Германии. К черту философов! Я говорю тебе,
хозяин, -- я, бедный старик Понс, твой слуга, для которого что буква, что
древко копья -- одно и то же, -- я говорю тебе: жив Господь, и недолог срок
до того, как тебе придется предстать перед ним! -- Он умолк, словно вспомнив
что-то, и добавил: -- Он тут -- священник, о котором ты говорил...
Я мгновенно вспомнил о назначенном свидании.
-- Что же ты мне не сказал этого раньше? -- гневно спросил я.
-- А что за беда? -- Понс пожал плечами. -- Ведь он и так ждет уже два
часа.
-- Отчего же ты не позвал меня?
Он бросил на меня серьезный, укоризненный взгляд.
-- Ты шел спать и орал, как петух какой-то: "Пой куку, пой куку,
куку-куку!.."
Он передразнил меня своим пронзительным пискливым фальцетом.
Без сомнения, я нес околесицу, когда шел спать.
-- У тебя хорошая память, -- сухо заметил я и накинул было на плечи
свой новый соболий плащ, но тотчас же швырнул его Понсу, чтобы он убрал
плащ. Старый Понс с неудовольствием покачал головой.
-- Не нужно и памяти -- ведь ты так разорался, что полгостиницы
сбежалось заколоть тебя за то, что ты не даешь никому спать! А когда я честь
честью уложил тебя в постель, не позвал ли ты меня к себе, не приказал
говорить: кого бы черт ни принес с визитом -- что господин спит? И опять ты
позвал меня, стиснул мне плечо так, что и сейчас на нем синяк, потребовал
сию же минуту жирного мяса, затопить печку и утром не трогать тебя, за одним
исключением...
-- Каким? -- спросил я его. -- Совершенно не представляю себе, в чем
дело.
-- Если я принесу тебе сердце одного черного сыча, по фамилии
Мартинелли -- бог его знает, кто он такой! -- сердце Мартинелли, дымящееся
на золотом блюде. Блюдо должно быть золотое, говорил ты. И разбудить тебя в
этом случае я должен песней: "Пой куку, пой куку, пой куку". И ты начал
учить меня петь: "Пой куку, пой куку!"
Как только Понс выговорил фамилию, я тотчас же вспомнил патера
Мартинелли -- это он дожидался меня два часа в другой комнате.
Когда Мартинелли ввели и он приветствовал меня, произнеся мой титул и
имя, я сразу осознал и все остальное. Я был граф Гильом де Сен-Мор. (Как
видите, я мог осознать это тогда и вспомнить впоследствии потому, что это
хранилось в моем подсознательном "я".)
Патер был итальянец -- смуглый и малорослый, тощий, как постник
нездешнего мира, и руки у него были маленькие и тонкие, как у женщины! Но
его глаза! Они были лукавы и подозрительны, с узким разрезом и тяжелыми
веками, острые, как у хорька, и в то же время ленивые, как у ящерицы.
-- Долго вы мешкаете, граф де Сен-Мор! -- быстро заговорил он, когда
Понс вышел из комнаты, повинуясь моему взгляду. -- Тот, кому я служу,
начинает терять терпение!
-- Перемени тон, патер! -- с сердцем оборвал я его. -- Помни, ты теперь
не в Риме.
-- Мой августейший владыка... -- начал он.
-- Августейшие правят в Риме, надо полагать, -- опять перебил я его. --
Здесь Франция!
Мартинелли со смиренной и терпеливой миной пожал плечами, но взгляд
его, загоревшийся, как у василиска, противоречил внешнему спокойствию его
манер.
-- Мой августейший владыка имеет некоторое отношение к делам Франции,
-- невозмутимо проговорил он. -- Эта дама не для вас. У моего владыки другие
планы... -- Он увлажнил языком свои тонкие губы. -- Другие планы для дамы...
и для вас.
Разумеется, я знал, что он намекает на великую герцогиню Филиппу, вдову
Жофруа, последнего герцога Аквитанского. Но великая герцогиня и вдова прежде
всего была женщина -- молодая, веселая и прекрасная и, по моим понятиям,
созданная для меня.
-- Какие у него планы? -- бесцеремонно спросил я.
-- Они глубоки и обширны, граф де Сен-Мор, -- слишком глубоки и
обширны, чтобы я дерзнул их представить себе, а тем паче обсуждать с кем бы
то ни было.
-- О, я знаю, затеваются большие дела, и липкие черви уже закопошились
под землею, -- сказал я.
-- Мне говорили, что вы упрямы; но я лишь повиновался приказу.
Мартинелли поднялся, собираясь уйти; встал и я.
-- Я говорил, что это будет бесполезно, -- продолжал он. -- Но вам дали
последний случай одуматься. Мой августейший владыка поступил честней
честного!
-- Я подумаю, -- весело проговорил я, откланиваясь патеру у дверей.
Он вдруг остановился на пороге.
-- Время думать прошло! Я приехал за решением.
-- Я обдумаю это дело, -- повторил я и затем прибавил, словно
сообразив: -- Если желания дамы не совпадают с моими, то, пожалуй, планы
вашего владыки осуществятся так, как ему желательно. Ибо помни, патер, -- он
мне не владыка!
-- Ты не знаешь моего владыки, -- важно проговорил он.
-- И не хочу его знать! -- отрезал я.
Я стал прислушиваться к легким, мягким шагам патера, спускавшегося по
скрипучим ступеням.
Если бы я вздумал передавать подробности всего, что я пережил за эти
полдня и полночи моей бытности графом Гильомом де Сен-Мор, то на описание
этого не хватило бы и десяти книг, по размеру равных той, что я пишу сейчас.
Многое я должен обойти молчанием; по правде сказать, я умолчу почти обо
всем; ибо мне не доводилось слышать, чтобы осужденному на смерть
предоставляли отсрочку для окончания составляемых им мемуаров, -- по крайней
мере, в Калифорнии.
Когда я в этот день въехал в Париж, то увидел Париж средневековья.
Узкие улицы, грязные и вонючие... Но я умолчу об этом. Я умолчу о
послеобеденных происшествиях, о поездке за городские стены, о большом
празднике, который давал Гюг де Мен, о пире и пьянстве, в которых я принимал
участие. Я буду писать только о конце приключения, с момента, когда я стоял
и шутил с самой Филиппой -- великий боже, как она была божественно
прелестна! Высокопоставленная дама -- но прежде всего, и после всего, и
всегда -- женщина.
Мы беззаботно смеялись и дурачились в давке веселой толпы. Но под
нашими шутками таилась глубокая серьезность мужчины и женщины, перешагнувших
порог любви и еще не совсем уверенных друг в друге. Я не стану описывать ее.
Она была миниатюрна, изящно-худощава -- но что же это, я описываю ее? Короче
-- это была для меня единственная женщина в мире -- и мало я думал в это
время о длинной руке седовласого старца из Рима, которая могла протянуться
через пол-Европы, отделив меня от моей возлюбленной.
Между тем итальянец Фортини склонился к моему плечу и прошептал:
-- Некто желает с вами говорить.
-- Ему придется подождать, пока мне будет угодно, -- кратко ответил я.
-- Я никого не дожидаюсь, -- последовал столь же краткий ответ с его
стороны.
Кровь закипела во мне -- я вспомнил о патере Мартинелли и о седовласом
старце в Риме. Положение было ясно. Это было подстроено! Это была длинная
рука! Фортини лениво улыбался мне, видя, что я задумался, но в улыбке его
сквозила невыразимая наглость.
Именно в этот момент мне нужно было сохранить величайшее хладнокровие.
Но багровый гнев уже начал подниматься во мне. Это были интриги патера, а
Фортини, богатый только хорошим происхождением, уже лет двадцать считался
лучшим фехтовальщиком Италии. Если он сегодня потерпит неудачу, завтра по
приказу седовласого старца явится другой боец, послезавтра -- третий. Если и
это не удастся, я могу ожидать удара кинжалом в спину со стороны наемного
убийцы или же зелья отравителя в мое вино, мое мясо, мой хлеб...
-- Я занят, -- сказал я. -- Отойдите!
-- Но у меня к вам неотложное дело, -- ответил он.
Незаметно для нас самих мы возвысили голос, так что Филиппа услыхала.
-- Уходи, итальянская собака! -- промолвил я. -- Уноси свой вой от моих
дверей! Я сейчас займусь тобою!
-- Месяц взошел, -- говорил он. -- Трава сухая, удобная. Росы нет. За
рыбным прудом, на полет стрелы влево, есть открытое место, тихое и
укромное...
-- Я сейчас исполню твое желание, -- нетерпеливо пробормотал я.
Но он продолжал торчать над моим плечом.
-- Сейчас, -- твердил я. -- Сейчас я займусь тобой!
Но тут вмешалась Филиппа с присущим ей мужеством и железной волей.
-- Удовлетворите желание кавалера, Сен-Мор. Займитесь им тотчас же. И
да будет вам удача! -- Она умолкла и поманила к себе своего дядю Жана де
Жуанвилля, проходившего мимо, -- дядю с материнской стороны, из анжуйских
Жуанвиллей. -- Счастье да сопутствует вам, Сен-Мор. Не мешкайте, я буду
ждать вас в большой зале!
Я был на седьмом небе. Я не шел, а словно ступал по воздуху. Это было
первое откровенное проявление ее любви. С таким благословением я чувствовал
себя столь сильным, что мог убить десяток Фортини и плюнуть на десяток
седовласых старцев Рима.
Жан де Жуанвилль торопливо увел Филиппу прочь, а мы с Фортини
договорились в одну минуту. Мы расстались -- он для того, чтобы разыскать
одного или двух приятелей, и я для того, чтобы разыскать одного или двух
приятелей, и все мы должны были сойтись в назначенном месте за рыбным
прудом.
Первым мне попался Робер Ланфран, а затем Анри Боэмон. Но еще до них на
меня налетела вихревая соломинка, показавшая мне, откуда дует ветер, и
предвещавшая шторм.
Я знал эту соломинку. Это был Гюи де Вильгардуэн, грубый юнец из
провинции, впервые попавший ко двору и горячий, как петух. У него были
ярко-рыжие волосы. Голубые глаза его, маленькие и близко поставленные друг к
другу, также были красноваты -- по крайней мере, их белки. Кожа у него, как
бывает у людей этого типа, была красная и веснушчатая, и весь он имел
какой-то ошпаренный вид.
Когда я проходил мимо него, он неожиданным движением толкнул меня.
Разумеется, это было сделано намеренно. Он вспыхнул и схватился рукой за
свою рапиру.
"Поистине у седовласого старца много всяких и притом престранных
орудий", -- подумал я про себя. Но задорному петушку я поклонился и
пробормотал:
-- Прошу прощения за свою неловкость. Виноват. Прошу прощения,
Вильгардуэн!
Но не так-то легко было угомонить его! Пока он кипятился и пыжился, я,
завидев Робера Ланфрана, подманил его к нам и рассказал о случившемся.
-- Сен-Мор дал вам удовлетворение! -- решил он. -- Он попросил у вас
извинения.
-- Именно так, -- подхватил я самым заискивающим тоном, -- и снова
прошу у вас прощения, Вильгардуэн, за свою великую неловкость. Я провинился,
хотя и неумышленно. Спеша на свидание, я сделал неловкость, крайне
прискорбную неловкость -- но, право, без всякого намерения.
Что оставалось делать этому олуху, как не принять, ворча, извинения,
столь щедро рассыпанные перед ним? Но, удаляясь от него вместе с Ланфраном,
я знал, что не пройдет нескольких дней, а то и часов, как этот горячий юнец
постарается добиться того, чтобы мы с ним скрестили клинки на траве.
Я бегло объяснил Ланфрану, что мне от него нужно, а он особенно не
допытывался. Это был живой юноша лет двадцати, он привык владеть оружием,
сражался в Испании и имел за собой почтенный рекорд дуэлей на рапирах. Он
только сверкнул своими черными глазами, узнав, чему он будет свидетелем, и
так разохотился, что сам пригласил Анри Боэмона присоединиться к нам.
Когда мы втроем подошли к луговине за рыбным прудом, Фортини уже
дожидался нас со своими друзьями. Один из них был Феликс Пасквини, племянник
кардинала с такой же фамилией, и пользовался таким же доверием своего дяди,
каким тот пользовался у седовласого старца. Другим был Рауль де Гонкур,
присутствие которого изумило меня, ибо он был слишком хороший, благородный
человек для компании, в которой теперь очутился.
Мы вежливо раскланялись и приступили к делу. Оно не было новым ни для
кого из нас. Почва была хорошая, как мне и обещали. Росы не было. Луна ярко
светила, мы с Фортини обнажили клинки и начали нашу серьезную игру.
Я хорошо знал, что хотя и считаюсь во Франции хорошим фехтовальщиком,
но Фортини искусней меня. Знал я и то, что в эту ночь я ношу с собой сердце
моей возлюбленной и что этой ночью благодаря мне на свете станет одним
итальянцем меньше. Я говорю, что знал это. Для меня исход не подлежал ни
малейшему сомнению. Скрещивая с противником рапиру, я обдумывал, как мне
покончить с ним. Я не хотел затягивать борьбу. Быстро и метко -- такова была
моя всегдашняя манера. Кроме того, после нескольких месяцев веселого
бражничанья и распевания "Пой куку, пой куку" в самые неподходящие часы
суток я и не подготовлен был к продолжительному бою. Быстро и метко --
таково было мое решение.
Но "быстро и метко" была трудная вещь с таким совершенным мастером
фехтования, каким был Фортини. Кроме того, как назло, Фортини, всегда
холодный, всегда неутомимо-терпеливый, всегда уверенный и медлительный, как
утверждала молва, в эту ночь тоже хотел действовать быстро и метко.
Работа была трудная, нервная, ибо как я разгадал его намерение
сократить бой, так и он чувствовал мое решение. Сомневаюсь, удался ли бы мне
мой прием, если бы вместо лунной ночи дело происходило при дневном свете.
Тусклый свет месяца помогал мне. Кроме того, я за мгновение вперед угадывал,
что он затевает. Это была "темповая" атака, обыкновенный, но опасный прием,
известный каждому новичку, часто кончающийся гибелью бойца, прибегающего к
нему; он настолько рискован, что фехтовальщики не очень любят его.
Мы дрались едва ли минуту, как я уже понял, что, несмотря на притворный
натиск, Фортини замышляет эту самую темповую атаку. Он выжидал моего выпада
и толчка не для того, чтобы отпарировать удар, но для того, чтобы выдержать
его, отвести легким поворотом кисти и встретить концом своей рапиры мое
подавшееся за рапирою тело. Трудная вещь, -- трудная даже при ярком дневном
свете. Если он отведет мою рапиру секундою раньше, чем следует, я буду
предупрежден и спасен. Если он отведет ее секундою позже -- моя рапира
пронзит его.
"Быстро и метко, -- подумал я. -- Ладно, мой итальянский приятель, это
будет сделано быстро и метко, в особенности же быстро!"
До некоторой степени это была темповая атака против темповой атаки, но
я хотел обмануть его излишней быстротой. И я показал быстроту! Как я уже
говорил, мы профехтовали едва ли минуту, как роковое случилось. Быстро!
Выпад и удар слились у меня в одно. Это был как бы взрыв, как бы миг! Мой
выпад и толчок были на частицу секунды быстрее, чем в состоянии сделать
боец. Я выгадал эту частицу секунды. С опозданием на эту частицу секунды
Фортини попытался отвести мой клинок и всадить в меня свой. Но отведенным
оказался его клинок. Он молниеносно скользнул мимо моей груди, рассекая всей
своей длиной воздух, -- а мой клинок вошел в противника, пронзил его на
высоте сердца, от правого бока в левый, пройдя насквозь и выйдя наружу.
Странное это ощущение, когда живого человека насаживаешь на стальной
клинок! Вот я сижу в своей камере и отрываюсь на минуту от писания, чтобы
пораздумать об этом. И часто думаю об этой лунной ночи во Франции, когда я
много-много времени тому назад проучил "итальянскую собаку". Как легко
оказалось пронзить человеческое туловище! Можно было ожидать большего
сопротивления. Сопротивление было бы, если бы моя рапира наткнулась на
кость. Но она встретила только мякоть, Все же -- как легко пронзила она
тело! У меня в руке и сейчас, в то время как я пишу, это ощущение. Шпилька
для женской шляпки прошла бы сквозь плумпудинг не с большей легкостью, чем
мой клинок прошел сквозь итальянца. О, во времена Гильома де Сен-Мор здесь
не было ничего изумительного, -- изумительно это мне, Дэррелю Стэндингу,
когда я вспоминаю и размышляю об этом спустя века. Легко, страшно легко
убить крепкого, живого, дышащего человека таким грубым оружием, как кусок
стали! Право же, люди -- что рыбы с рыбьей чешуей, так они нежны, хрупки и
легко уязвимы.
Вернемся, однако, к лунной ночи на траве. Мой удар попал в цель,
наступила пауза. Не сразу упал Фортини. Не сразу я выдернул клинок. Целую
секунду стояли мы на своих местах -- я, расставив ноги, напряженно упершись
ими, подавшись телом вперед и вытянув горизонтально правую руку; Фортини
стоял, протянув свой клинок так далеко за меня, что его рука с эфесом слегка
опиралась на левую сторону моей груди, с неподвижно застывшим телом, с
раскрытыми блестящими глазами.
Мы стояли как статуи, и я готов поклясться, что окружавшие нас не сразу
поняли, что случилось. Фортини охнул и кашлянул. Тело его как-то размякло.
Рука его с эфесом у моего плеча задрожала, потом опустилась вдоль тела, так
что кончик рапиры уперся в траву. В этот момент Пасквини и де Гонкур
подбежали к нему, и он упал им на руки. Право, мне труднее было вытащить
сталь, чем вонзить ее! Его мясо облепило ее, и словно ревнуя, не хотело
выпускать. Поверьте, потребовалось заметное физическое усилие, чтобы извлечь
оружие...
Но должно быть, боль от вытаскивания стали пробудила в нем жизнь и
волю, потому что он стряхнул с себя своих друзей, выпрямился и, став в
позицию, поднял свою рапиру. Я тоже стал в позицию, недоумевая, как могло
случиться, чтобы я пронзил его на высоте сердца и не задел ни одного важного
для жизни органа. Но тут, прежде чем друзья успели его подхватить, ноги его
подкосились, и он грузно упал на траву. Его положили на спину, но он был уже
мертв, лицо его казалось призрачным при луне, правая рука все еще сжимала
рапиру.
Да, поистине изумительно легко убить человека!
Мы откланялись его друзьям и собрались было уходить, как Феликс
Пасквини остановил меня.
-- Простите, -- проговорил я. -- Пусть это будет завтра.
-- Нам стоит только на шаг отступить в сторону, где трава суха, --
приставал он.
-- В таком случае, де Сен-Мор, позвольте оросить ее за вас! -- попросил
меня Ланфран, которому хотелось самому разделаться с итальянцем.
Я покачал головой.
-- Пасквини мой, -- отвечал я. -- Он будет первым завтра!
-- А есть другие? -- спросил Ланфран.
-- Спросите де Гонкура, -- улыбнулся я. -- Я полагаю, он претендует на
честь быть третьим!
Услышав это, де Гонкур растерянно выразил согласие. Ланфран
вопросительно взглянул на него, и де Гонкур кивнул.
-- А за ним, не сомневаюсь, явится петушок!
Я не успел договорить, как рыжеволосый Гюи де Вильгардуэн в
единственном числе зашагал к нам по освещенной луной траве.
-- По крайней мере, я сражусь хоть с ним! -- вскричал Ланфран чуть не
заискивающим голосом -- так хотелось ему сразиться.
-- Спросите его, -- засмеялся я и обратился к Пасквини. -- Завтра, --
проговорил я. -- Назначьте время и место, и я приду.
-- Трава превосходна, -- приставал он, -- место чудесное, и мне
хочется, чтобы вы составили компанию Фортини в эту ночь!
-- Лучше пусть его сопровождает друг, -- насмешливо заметил я. -- А
теперь простите, мне надо уходить! Но он загородил мне дорогу.
-- Нет, пусть это будет сейчас! -- настаивал он.
Тут опять меня охватил багровый гнев.
-- Вы хорошо служите своему господину! -- язвительно бросил я.
-- Я служу только своим удовольствиям, -- отвечал он. -- Господина надо
мною нет!
-- Простите, если я позволю себе сказать правду, -- проговорил я.
-- Какую? -- тихо спросил он.
-- Что вы лгун, Пасквини, лгун, как все итальянцы!
Он мгновенно повернулся к Ланфрану и Боэмону.
-- Вы слышали? -- спросил он. -- После этого вы не станете отрицать мое
право на него.
Они заколебались и смотрели на меня, ища у меня совета. Но Пасквини не
стал ждать.
-- А если у вас есть какие-нибудь сомнения, -- торопливо добавил он, --
так позвольте мне устранить их... таким манером!
И он плюнул на траву у моих ног. Тут гнев овладел мной и уже не
оставлял меня. Я называю его багровым гневом -- это неудержимое,
всепоглощающее желание убить, уничтожить. Я забыл, что Филиппа ждет меня в
большом зале. Я сознавал только свою обиду -- непростительное вмешательство
в мои дела седовласого старца, поручение патера, наглость Фортини,
нахальство Вильгардуэна -- и этого Пасквини, загораживавшего мне дорогу и
плюнувшего на траву. Все побагровело в моих глазах. Все застлалось красным
туманом. Я смотрел на всех этих тварей как на противную сорную траву,
которую мне нужно убрать со своей дороги, стереть с лица земли. Как лев
ярится на сеть, в которую он попался, так я разъярился на этих субъектов.
Они обступили меня со всех сторон. В сущности, я находился в западне.
Единственным средством выбраться было вырубить их, растоптать, вдавить в
землю.
-- Хорошо, -- проговорил я довольно спокойно, хотя весь дрожал от
бешенства. -- Вы первый, Пасквини! А потом вы, де Гонкур! А под конец де
Вильгардуэн!
Каждый ответил кивком, и мы с Пасквини приготовились отойти к сторонке.
-- Раз вы торопитесь, -- предложил мне Анри Боэмон, -- и нас здесь трое
против их тройки, почему не кончить дела разом?
-- Да, да, -- горячо подхватил Ланфран. -- Вы возьмите де Гонкура! Де
Вильгардуэн достанется мне!
Но я отозвал моих приятелей.
-- Они здесь по приказу, -- объяснил я. -- Именно со мной они желают
драться, и так страстно, что поистине я заразился их желанием. Теперь я хочу
и намерен оставить их себе!
Я заметил, что Пасквини заволновался, когда я заговорил с приятелями, и
решил помучить его немножко.
-- С вами, Пасквини, я разделаюсь наскоро. Я не хочу, чтобы вы мешкали,
потому что Фортини ждет вашего общества! Вас, Рауль де Гонкур, я накажу по
заслугам за то, что вы затесались в такую дрянную компанию. Вы полнеете, у
вас начинается одышка. Я позабавлюсь с вами, пока у вас не растает жирок и
легкие не запыхтят, как дырявые мехи. Как вас убить, де Вильгардуэн, я еще
не решил.
После этого я поклонился Пасквини, и мы вступили в бой. О, я решил быть
сатаной в эту ночь. Быстро и метко -- таков был мой девиз. Я не упускал из
виду и обманчивости лунного освещения. Если он осмелится применить темповую
атаку, я разделаюсь с ним, как с Фортини. Если он тотчас же не прибегнет к
ней, я решусь на нее.
Несмотря на нетерпение, в которое я поверг противника, он был очень
осторожен. Тем не менее я заставил его ускорить бой, и в тусклом свете,
заставлявшем нас меньше обыкновенного полагаться на зрение и больше, чем
когда-либо, на осязание; мы непрерывно держали наши клинки скрещенными.
Не прошло и минуты, как я пустил в ход свой прием. Я притворился, будто
оступился, и, поправляясь, сделал вид, что утратил соприкосновение с клинком
Пасквини. Он попробовал сделать выпад, и я опять сделал притворное движение
-- излишне широко отпарировал. Вследствие этого я открыл для удара свое тело
-- этим я хотел заманить его. И приманка подействовала! С быстротой молнии
он воспользовался нечаянным, как он думал, обнажением моего фланга. Он
сделал прямой и правильный выпад и всей тяжестью тела подался вслед за
рапирой. Но с моей стороны все это было притворством, я ждал этого момента.
Наши клинки чуть-чуть соприкоснулись и скользнули один мимо другого. Моя
кисть твердо повернулась и отвела его клинок на защищенный эфес моей рапиры,
отвела на ничтожное расстояние, на какой-нибудь дюйм, но этого было
достаточно, чтобы кончик его оружия прошел мимо моего тела, пронзив только
мимоходом складку моего атласного камзола. Разумеется, его тело последовало
за рапирой, а моя рапира на высоте сердца вошла в его тело. Моя вытянутая
рука стала прямой и жесткой, как сталь, продолжением которой она сделалась,
а на руку напирало крепкое и устойчивое тело.
Как я уже сказал, моя рапира вошла в тело Пасквини на высоте сердца, с
правой стороны, но она вышла с левой, ибо, почти пронзив его, она встретила
ребро (о, убиение человека -- работа мясника!) с такой силой, что он потерял
равновесие и упал наземь не то навзничь, не то боком. Он еще не коснулся
земли, как я, дернув и повернув оружие, вытащил его.
Де Гонкур бросился к нему, но он знаком направил Гонкура ко мне,
Пасквини умер не так скоро, как Фортини. Он кашлял, плевался; с помощью де
Вильгардуэна он оперся головой на локоть и продолжал кашлять и плевать.
-- Счастливого пути, Пасквини! -- злобно засмеялся я. -- Поторопитесь,
потому что трава под вами вдруг намокла, и если вы еще замешкаетесь, то
рискуете умереть от простуды!
Когда я выразил намерение тотчас же начать бой с де Гонкуром, Боэмон
запротестовал и потребовал, чтобы я отдохнул немного.
-- Нет, -- сказал я. -- Я еще даже не согрелся как следует. -- И я
обратился к Гонкуру. -- Теперь мы заставим вас поплясать и попыхтеть...
Видно было, что сердце де Гонкура не лежит к этому делу. Ясно было, что
он дерется по приказу. Фехтовал он старомодно, как дерутся пожилые люди, но
боец он был неплохой. Он был холоден, решителен, настойчив. Но он не обладал
проворством, и, кроме того, его угнетало сознание неизбежности поражения.
Раз двадцать по крайней мере он был в моих руках, но я воздерживался. Я уже
говорил, что решил в этот вечер быть сатаной. Так оно и было. Я нещадно
изводил его. Я повернул его лицом к луне, так что он плохо видел меня, я же
дрался в своей собственной тени. И пока я изводил его, добившись, что он
действительно начал пыхтеть и задыхаться, Пасквини, опиравшийся головой на
руку и наблюдавший нас, выкашливал и выхаркивал свою жизнь.
-- Ну, де Гонкур, -- объявил я наконец, -- вы видите, что вы совершенно
бессильны! Вы в моих руках на дюжину ладов! Приготовьтесь, крепитесь, ибо я
решил вот как!
С этими словами я перешел с третьей позиции на четвертую, а когда он
беспорядочно отпарировал удар, я опять сделал кварту -- четвертую позицию,
-- воспользовался тем, что он открылся, и пронзил его насквозь на уровне
сердца. Увидев исход, Пасквини перестал цепляться за жизнь, зарылся лицом в
траву, затрепетал и затих.
У вашего хозяина в эту ночь станет четырьмя слугами меньше, -- сказал я
де Вильгардуэну, как только мы начали.
Что это был за бой! Юнец был просто смешон. Трудно было представить
себе, в какой буколической школе учился он фехтованию! Рапира его с размаху
просвистела в воздухе, словно это было орудие с рукояткой и режущим краем, и
опустилась мне на голову. Я опешил. Никогда еще мне не случалось встречаться
с такой нелепостью! Он совершенно раскрылся, и я мог тут же проколоть его
насквозь. Но, как я уже говорил, я опешил, а когда опомнился, то
почувствовал боль от вошедшей в мое тело стали: этот неуклюжий провинциал
проколол меня и продолжал переть вперед, как бык, пока эфес его рапиры не
вдавился мне в бок и я не опрокинулся навзничь.
Падая, я видел смущение на лицах Ланфрана и Боэмона и удовлетворение на
лице де Вильгардуэна.
Я падал, но не достиг травы. В глазах у меня засверкали молнии, гром
оглушил слух, настала глубокая тьма, потом медленно занялся слабый свет, я
почувствовал неописуемую мучительную боль и услышал чей-то голос,
произносивший:
-- Ничего не могу нащупать!
Я узнал голос. Он принадлежал смотрителю Этертону. И я узнал в себе
Дэрреля Стэндинга, только что вернувшегося из прогулки во тьме столетий в
преисподнюю смирительной куртки тюрьмы Сан-Квэнтина. Я понял, что смотритель
Этертон щупает кончиками пальцев мою шею. Потом их оттолкнули пальцы доктора
Джексона. И голос Джексона проговорил:
-- Вы не умеете щупать пульс человека на шее. Вот... здесь... поставьте
палец туда, где лежит мой. Слышите? Так я и думал! Сердце работает слабо, но
правильно, как хронометр!
-- Прошло всего двадцать четыре часа, -- проговорил капитан Джэми, -- и
он еще никогда не находился в таком состоянии.
Прикидывается, вот что он делает, можете быть в этом уверены! --
вмешался Эль Гетчинс, главный доверенный.
-- Не знаю, -- стоял на своем капитан Джэми. -- Когда пульс у человека
так слаб, что нащупать его может только сведущий человек, то...
-- Недаром же я прошел школу смирительной рубашки! -- осклабился Эль
Гетчинс. -- Я заставил вас развязать меня, капитан, когда вы решили, что я
уже дохну, -- а я чуть не рассмеялся вам прямо в лицо!
-- Что вы думаете, доктор? -- спросил смотритель Этертон.
-- Я вам говорю, что сердце работает превосходно, -- был ответ. --
Разумеется, оно ослабело. Говорю вам, что прав Гетчинс. Он притворяется!
Большим пальцем он открыл мое веко, после чего я открыл и другой глаз и
оглядел группу, нагнувшуюся надо мной.
-- Что я говорил вам? -- торжествующе воскликнул доктор Джексон.
Напрягая всю свою волю, хотя от этого усилия у меня чуть не лопнули
щеки, я усмехнулся.
К моим губам поднесли воды, и я жадно напился. Не забывайте, что все
это время я лежал беспомощно на спине и руки мои были вытянуты вдоль тела
внутри куртки. Когда мне предложили поесть -- кусок сухого тюремного хлеба,
-- я отрицательно покачал головой. Я закрыл глаза в знак того, что утомлен
их присутствием. Боль этого частичного воскресения была нестерпима. Я
чувствовал, как в тело мое возвращается жизнь. Шея и грудь выше сердца
болели невероятно. А мозг настойчиво сверлила мысль, что Филиппа ждет меня в
большом зале, и мне хотелось бежать, вернуться к тем половине дня и половине
ночи, которые я только что пережил в средневековой Франции.
И в то время как палачи стояли надо мной, я старался освободить живую
часть тела от моего сознания. Я спешил улететь -- но голос смотрителя
Этертона удержал меня.
-- Не имеешь ли на что пожаловаться? -- спрашивал он
Но я боялся только одного -- именно как бы они не развязали меня; и
ответ, который я дал, был отнюдь не бахвальством, а только имел целью
предупредить возможное освобождение меня из "пеленок".
-- Можете туже стянуть куртку. -- прошептал я. -- Она слишком свободна.
Я просто теряюсь в ней. Гетчинс олух! Он понятия не имеет о том, как
стягивать "пеленки". Лучше приставьте его командовать ткацкой комнатой,
смотритель. Он куда больше специалист по части бестолковых усилий, чем
теперешний олух, который просто глуп, не будучи все же идиотом, как Гетчинс.
А теперь убирайтесь все вон, если вы не можете придумать для меня ничего
посильнее! В последнем случае -- останьтесь. Сердечно прошу вас остаться,
если вы своим слабым умишком воображаете, что выдумали для меня какую-нибудь
новую пытку!
-- Да он колдун, настоящий колдун! -- пропел доктор Джексон с восторгом
врача, сделавшего ценное открытие.
-- Стэндинг, ты чудо! -- воскликнул смотритель. -- У тебя стальная
воля, но я ее сломлю; это так же верно, как то, что сейчас день!
-- А у вас заячье сердце, -- возразил я. -- Десятой доли "пеленок",
которые я получил в Сан-Квэнтине, достаточно было бы, чтобы выдавить вашу
заячью душонку из ваших длинных ушей!
У смотрителя в самом деле были необыкновенно длинные уши. Я убежден,
что они заинтересовали бы Ломброзо.
-- Что до меня, -- продолжал я -- то я смеюсь над вами и не могу
придумать худшей доли для ткацкой мастерской, как ваше управление ею!
Помилуйте, вы сокрушили меня, излили на меня все свое бешенство, -- а я все
еще жив и смеюсь вам в физиономию! Ну разве это не бездарность? Вы не умеете
даже умертвить меня! Вы не сумели бы убить загнанную в угол крысу зарядом
динамита, н а с т о я щ е г о динамита, а не того, который вы вообразили я
будто бы спрятал!
-- Еще чего? -- спросил он, когда я умолк.
И тут в моем мозгу пронеслась фраза, которую я бросил Фортини, когда
тот нахально приставал ко мне.
-- Убирайся прочь, тюремный пес! -- проговорил я. -- Уноси свой лай от
моих дверей!
Нелегко было человеку такого склада, как смотритель Этертон, вынести
подобную дерзость из уст беспомощного арестанта. Лицо его побелело от
ярости, и он срывающимся голосом бросил угрозу:
-- Клянусь богом, Стэндинг, я с тобой разделаюсь!
-- Вы только одно можете сделать, -- продолжал я. -- Вы можете стянуть
этот невероятно свободный брезент. А если не умеете, так убирайтесь вон! И
мне все равно, вернетесь ли вы через неделю или хоть через все десять дней!
И в самом деле, какие репрессии может предпринять даже смотритель
большой тюрьмы против узника, к которому уже применена самая крайняя мера?
Вероятно, смотритель Этертон изобрел наконец новую угрозу, потому что он
заговорил. Но я уже успел окрепнуть настолько, что запел: "Пой куку, пой
куку, пой куку!.." И не переставал петь, пока дверь со звоном не
захлопнулась и не взвизгнули задвигаемые болты.
Теперь, когда я научился этому фокусу, действовать было легко. И я
знал, что чем больше я буду странствовать, тем это будет легче. Стоило
только установить линию наименьшего сопротивления, и каждое новое странствие
по ней встречало все меньше затруднений. Как вы увидите, мои путешествия из
жизни Сан-Квэнтина в другие жизни стали совершаться почти автоматически.
Как только смотритель Этертон и его банда оставили меня в покое,
достаточно было нескольких минут волевого напряжения, чтобы воскресшая часть
моего тела опять погрузилась в "малую" смерть. Это была смерть при жизни, но
смерть малая, подобная временной смерти, вызываемой посредством анестезии.
Итак, от гнусной и скаредной жизни, от звериного одиночества, от
тюремного ада, от прирученных мух, от мучений тьмы и перестукивания с живыми
мертвецами я одним скачком удалился в пространство и время.
Наступила длительная тьма, и медленно нараставшее сознание иных вещей,
иных "я". В этом сознании первое, что мною ощущалось, была пыль. Она была у
меня в ноздрях, сухая и едкая. Она была у меня на губах. Она покрывала мне
лицо. В особенности чувствовали ее кончики пальцев.
Затем я начал ощущать непрерывное движение. Вокруг меня все качалось и
колыхалось. Чувствовались толчки и подергивания, и я без удивления расслышал
скрежет колес и осей и грохот железных шин по камню и песку. Потом до меня
донеслись усталые голоса людей, которые ругались и хрипло покрикивали на еле
двигавшихся измученных животных.
Я открыл свои воспаленные от пыли глаза, и тотчас же в них въелось еще
больше пыли. Грубые одеяла, на которых я лежал, были покрыты пылью на
полдюйма. Над собой, сквозь завесу пыли, я видел сводчатую крышу --
качающуюся холстину, -- и мириады пылинок тяжко нисходили в стрелках
солнечного света, проникавшего сквозь отверстие в холстине. Я видел себя
ребенком, мальчиком лет восьми или девяти, чувствовал себя разбитым, как и
женщина с запыленным лицом и диким видом, сидевшая возле меня и ласкавшая
плачущего младенца, лежавшего у нее в объятиях. Это была моя мать. Это я
знал с такой же уверенностью, как знал, выглядывая из-под парусинового
навеса -- крыши повозки, -- что плечо человека, сидевшего на месте возницы,
принадлежит моему отцу.
Когда я полез через пожитки, которыми была нагружена повозка, мать
сказала мне усталым и раздраженным голосом:
-- Неужели ты не можешь посидеть спокойно минутку, Джесс?
Джесс -- это было мое имя; фамилии своей я не знал, но слышал, что мать
называла отца Джоном. Смутно помню, что как-то раз посторонние люди,
обращаясь к моему отцу, назвали его капитаном. Я знал, что он начальник
отряда и что его приказам все повинуются. Вылезши через отверстие в
парусине, я сел на козлы рядом с отцом. Воздух был полон пыли, поднимавшейся
от повозок и копыт животных. Пыль была так густа, что стлалась туманом,
низкое солнце тускло просвечивало сквозь него и имело кровавый оттенок.
Зловеще было не только зарево этого закатывающегося солнца, но и все
вокруг меня -- ландшафт, лицо моего отца, трепетание младенца в руках
матери, которого она никак не могла угомонить, шестерка лошадей, которых
гнал мой отец, непрерывно понукая их; трудно было сказать, какой они масти,
-- так густо покрывала их пыль. Ландшафт представлял собой удручающую взоры
пустыню. Низкие холмы уходили вдаль по обе стороны дороги, там и сям на их
склонах виднелись кустики, сожженные солнцем. В общем же поверхность этих
холмов была голая, иссохшая, песчаная и скалистая. Путь наш пролегал по
песчаным оврагам между холмов. Дно этих оврагов было голое, если не считать
случайных кустов и кое-где встречавшихся редких пучков сухой, увядшей травы.
Воды не видно было и следов, лишь местами попадались размытые водою рытвины,
оставшиеся от былых ливней.
Только повозка моего отца была запряжена лошадьми. Повозки шли гуськом,
и когда обоз повернул и загнулся, я увидел, что прочие повозки запряжены
волами. У каждой повозки было по три или четыре ярма волов, и рядом с ними,
по глубокому песку, шли люди с остроконечными бодилами, которыми они
покалывали неохотно двигавшихся животных. На одной из излучин дороги я
сосчитал повозки впереди и позади нашей. Их было сорок, считая и нашу. Я
часто пересчитывал их и раньше этого. И когда теперь стал считать их, как
ребенок, желающий убить время, все они оказались налицо -- все сорок, все с
парусиновыми верхами, огромные, массивные, грубо сколоченные, качающиеся,
валкие, со скрипом и треском двигавшиеся по пескам, пыльной полыни и камню.
Вправо и влево от нас, растянувшись вдоль обоза, ехало человек
двенадцать или пятнадцать мужчин и подростков на конях. На передках своих
седел они держали длинноствольные винтовки. Когда они приближались к нашей
повозке, я замечал на их лицах, покрытых пылью, озабоченное и тревожное
выражение, такое же, как на лице отца. У отца, как и у них, под рукой лежала
длинноствольная винтовка.
По одну сторону обоза, прихрамывая, тащилось десятка два или больше
волов с разбитыми ногами и натертыми ярмом шеями -- сущие скелеты, то и дело
останавливающиеся над встречными пучками иссохшей травы; их всего чаще
покалывали юноши с усталыми лицами, гнавшие волов. Иногда какой-нибудь из
этих волов останавливался и начинал мычать, и мычание это было таким же
зловещим, как и все вокруг.
Вспоминается мне, что когда-то я жил, еще более крохотным мальчиком, у
поросших деревьями берегов потока. Повозки качались, я покачивался на козлах
возле отца и то и дело возвращался в воспоминаниях к приятной картине воды,
струящейся между деревьями. У меня было чувство, словно я бесконечно давно
живу в этой повозке и еду все вперед и вперед с этими своими спутниками.
Но сильнее всего и во мне, и во всех моих спутниках было ощущение того,
что мы влечемся к какому-то Року. Путь наш похож был на погребальное
шествие. Ни разу никто не засмеялся. Ни разу я не услышал веселой нотки в
чьем-нибудь голосе. Ни мира, ни покоя не знали мы. Лица людей и подростков,
ехавших впереди обоза, были мрачные, решительные, безнадежные. Отведя взоры
от пыльного заката, я часто устремлял их в лицо моего отца, тщетно ища на
нем хоть тень веселья. Не могу сказать, чтобы лицо моего отца, худое и
запыленное, было безнадежно. Оно просто было угрюмо, мрачно и тревожно --
чаще всего тревожно.
Внезапный трепет пробежал по обозу. Отец поднял голову. И моя голова
поднялась. Даже наши кони подняли свои усталые головы, с хрипом втянули в
себя воздух и пошли бойчее. Лошади передних всадников также ускорили шаг.
Что до стада волов, смахивавших на вороньи пугала, то они пустились вскачь.
Это было уморительное зрелище. Бедные твари были так неуклюжи в своем
бессильном проворстве! Это были скачущие скелеты, облаченные в шелудивую
кожу -- но они обогнали мальчишек, своих пастухов. Впрочем, ненадолго. Волы
опять пошли шагом; быстрым, шатающимся, болезненным шагом: их уже не манили
сухие пучки травы.
-- В чем дело? -- спросила мать из повозки.
-- Вода! -- ответил отец. -- Должно быть, Нефи.
-- Слава богу! Может быть, нам продадут и еды, -- произнесла мать.
И наши огромные повозки, в облаке кроваво-красной пыли, со скрежетом,
скрипом, треском и грохотом вкатились в Нефи. Поселок составляла дюжина
разбросанных лачуг. Местность была такой же, как и та, по которой мы ехали.
Не видно было деревьев -- один голый песок и местами кусты. Но зато
виднелись возделанные поля, а кое-где и заборы. И была вода! По руслу не
бежали ручьи. Но русло реки было влажно, и местами в нем застоялись лужи, в
которые вошли разнузданные верховые кони и волы, погрузив свои морды до
самых глаз. Тут же росла небольшая ива.
-- Должно быть, это мельница Билля Блэка, о которой нам рассказывали,
-- промолвил отец, указав на какое-то здание матери, нетерпеливо
выглядывавшей из-за его плеча.
К нашей повозке подъехал старик в замшевой рубашке, с длинными,
косматыми, выцветшими от солнца волосами и заговорил с отцом. Был подан
сигнал, и передние повозки обоза начали разворачиваться кругом. Местность
благоприятствовала этому маневру; благодаря продолжительной практике он был
выполнен гладко, так что когда наконец сорок повозок остановились. они
образовали круг. Множество женщин с усталыми и запыленными лицами, как у
моей матери, выползли из повозок. Высыпала и целая орда ребят. Тут было по
меньшей мере пятьдесят детей, и мне казалось, что я всех их давно знаю.
Женщин было не менее двух десятков; они тотчас же занялись приготовлением
ужина.
Пока одни рубили вместо хвороста сухую полынь, а мы, дети, тащили ее к
кострам, где она разгоралась, другие снимали ярмо с волов и пускали животных
к воде. Затем мужчины стали передвигать повозки; дышло каждой повозки
пришлось внутри круга, и каждая повозка спереди и сзади находилась в тесном
соприкосновении с соседней. Большие тормоза были крепко замкнуты; мало того,
колеса всех повозок соединили цепями. Для нас, детей, это было не ново. Это
был бивуак в чужом краю. Одна повозка была оставлена вне круга, образовав
ворота в этот "корраль" -- загородку. Мы знали, что попозже, но раньше, чем
в лагере улягутся спать, животных загонят внутрь и повозка, служащая
воротами, будет привязана цепями, как и другие. В ожидании этого животные
паслись на скудной траве под надзором мужчин и мальчиков.
Пока разбивали лагерь, мой отец с несколькими другими мужчинами,
включая и старика с длинными выцветшими космами, пешком пошел по направлению
к мельнице. Я помню, все мы -- мужчины, женщины и дети -- наблюдали их уход;
казалось, что они пошли по чрезвычайно важному делу.
В их отсутствие несколько мужчин, незнакомых нам жителей пустынной
Нефи, подошли к нашему лагерю. Они были белые, как и мы, но с жесткими,
угрюмыми и мрачными лицами: казалось, они были озлоблены на всю нашу
компанию. В воздухе пахло бедой, и то, что говорили пришедшие, не могло не
возмутить наших мужчин. Но женщины успели предупредить всех мужчин и
подростков, что ссор никоим образом не должно быть.
Один из незнакомцев приблизился к нашему костру, где моя мать стряпала.
Я только что подошел с полной охапкой полыни и остановился послушать и
поглядеть на непрошеного гостя, которого я ненавидел, ибо в самом воздухе
носилась ненависть, ибо я знал, что в нашем лагере все, как один, ненавидят
этих чужестранцев, белокожих, как и мы, по милости которых мы вынуждены были
разбить наш лагерь как крепость.
У незнакомца, подошедшего к нашему костру, были голубые глаза, жесткие,
холодные и пронзительные; волосы -- песчаного цвета. Лицо было обрито до
подбородка, а вокруг подбородка, прикрывая щеки до самых ушей, росла
песочная бахромка седоватых бакенбардов. Мать не поздоровалась с ним, и он
не кланялся. Он просто стоял и молча глядел на нее некоторое время. Потом
крякнул и с издевкой промолвил:
-- Готов побиться об заклад, что тебе хотелось бы быть сейчас дома, в
Миссури.
Я видел, что мать прикусила себе губы, сдерживаясь, и не сразу
ответила:
-- Мы из Арканзаса.
-- Я думаю, у вас имеются основательные причины скрывать, откуда вы
едете, -- продолжал он. -- Вы прогнали избранный народ божий из Миссури.
Мать ничего не ответила.
-- ...А теперь, -- продолжал он, помолчав, -- вы пришли сюда хныкать и
выпрашивать хлеб у людей, которых вы преследовали...
Мгновенно, несмотря на всю свою молодость, я ощутил в себе гнев,
древний, багровый гнев, всегда необузданный и неукротимый.
-- Ты лжешь! -- запищал я. -- Мы не миссурийцы. Мы не хнычем! И мы не
попрошайничаем! У нас есть чем заплатить!
-- Замолчи, Джесс! -- крикнула мать, закрывая мне рот рукой. И она
обратилась к незнакомцу: -- Уходи и оставь мальчика в покое.
-- Я угощу тебя свинцом, проклятый мормон! -- всхлипнув, крикнул я,
прежде чем мать успела остановить меня, и обогнул костер, уклоняясь от ее
подзатыльника.
Что касается незнакомца, то моя выходка не произвела на него ни
малейшего впечатления. Я ожидал самой жестокой кары от страшного незнакомца
и опасливо следил за ним, пока он смотрел на меня с невозмутимой
серьезностью.
Наконец он заговорил, -- заговорил торжественно, важно покачивая
головой, словно произносил приговор.
-- Яблочко от яблони недалеко падает, -- вымолвил он. -- Молодое
поколение так же нечестиво, как и старое. Весь род неисправим и проклят.
Никого не спасешь -- ни молодого, ни старого. Нет им искупления. Даже кровь
Христа не может стереть их неправду.
-- Проклятый мормон! Проклятый мормон! Проклятый мормон!
Я проклинал его, танцуя вокруг костра и спасаясь от материнской руки,
пока он не ушел.
Когда вернулись отец и сопровождавшие его мужчины, работы в лагере
прекратились, ибо все с тревогой столпились вокруг него.
-- Не хотят продавать? -- спрашивали женские голоса.
Отец покачал головой.
Тут заговорил синеглазый, со светлыми бакенбардами тридцатилетний
гигант, быстро протиснувшийся в середину толпы.
-- Говорят, у них муки и провизии на три года, -- начал он. -- Раньше
они всегда продавали переселенцам, а теперь не хотят. И мы ведь с ними не
ссорились; они в ссоре с правительством, а вымещают на нас. Это нечестно,
капитан! Нечестно, говорю я. У нас женщины и дети, до Калифорнии несколько
месяцев пути, зима на носу, а перед нами пустыня!
Он на мгновение умолк и обратился уже ко всей толпе:
-- Вы ведь не знаете, что такое пустыня. То, что нас здесь окружает, не
пустыня! Я вам говорю -- это рай, это небесные пастбища, текущие млеком и
медом по сравнению с тем, что нам предстоит! Говорят тебе, капитан, нам
нужно раздобыть муки первым делом. Если они не хотят продавать, мы должны
взять ее!
Многие мужчины и женщины подняли одобрительный вопль; но отец заставил
всех умолкнуть, подняв руку
-- Я согласен со всем, что ты говорил, Гамильтон, -- начал он.
В криках толпы потонул голос отца, и он опять поднял руку.
-- Только одно ты забыл принять в соображение, Гамильтон, чего и ты, и
мы все не должны забывать. Брайам Юнг объявил военное положение, и у Брайама
Юнга есть армия. Мы, конечно, в один миг можем стереть с лица земли Нефи и
забрать весь провиант, который поднимем. Но мы недалеко увезем его. Святоши
Брайама догонят нас, и нас сотрут с лица земли также в одно мгновение. Вы
это знаете, я это знаю -- все это знают!
Слова отца убедили слушателей, уже успевших остыть. То, что он им
сказал, было не ново. Они просто забыли об этом в минуту возбуждения и
голодного отчаяния.
-- Никто скорей меня не пойдет драться за правое дело, -- продолжал
отец, -- но случилось так, что сейчас мы не можем драться. Если пойдут
ссоры, у нас нет никаких шансов. А не нужно забывать, что с нами женщины и
дети! Мы должны сохранить спокойствие во чтобы то ни стало и стерпеть всякое
оскорбление, какое бы они нам ни нанесли.
-- Но ведь перед нами пустыня! -- крикнула женщина, кормившая грудью
ребенка.
-- До пустыни нам встретится еще несколько поселений, -- отвечал отец.
-- В шестидесяти милях к югу лежит Фильмор. Потом Холодный Ручей. Еще через
пятьдесят миль -- Бивер. Потом Парован. Оттуда двадцать миль до Седар-Сити.
Чем больше мы будем удаляться от Соленого озера, тем вероятнее, что нам
продадут провизии.
-- А если не продадут? -- спросила та же женщина.
-- В таком случае мы избавимся от них, -- продолжал отец. -- Последний
поселок -- Седар-Сити. Нам придется только пойти дальше, вот и все; и,
благодарение небу, мы от них избавимся. Через два дня пути начнутся хорошие
пастбища и вода. Это место зовут Горными Лугами. Там нет жителей, там мы
сможем дать отдохнуть нашей скотине и отходить ее перед пустыней. Может
быть, удастся настрелять дичи. И в самом худшем случае мы будем идти,
сколько сможем, потом бросим повозки, нагрузим, что можно будет, на нашу
скотину и последние переходы совершим пешком. По дороге будем съедать
скотину. Лучше прийти в Калифорнию порожняком, чем оставить здесь свои
кости. А если мы затеем ссору, обязательно этим кончится!
И после новых предостережений против насилия или ссоры
импровизированный митинг был распущен. Я не скоро уснул в эту ночь. Злоба на
мормона так сильно душила меня, что я еще не спал, когда отец залез в
повозку, совершив последний обход ночной стражи. Родители думали, что я
сплю, -- я услышал, как мать спросила отца: как он думает, дадут ли нам
мормоны спокойно уйти из их мест? Он отвернул от нее лицо, будто бы возясь с
сапогом, но ответил тоном полной уверенности, что мормоны отпустят нас с
миром, если мы сами не затеем ссоры.
Но я видел его лицо при свете сального огарка, и на лице не было
уверенности, слышавшейся в голосе. Так я заснул, подавленный предчувствием
страшного Рока, нависшего над нами, с мыслями о Брайаме Юнге, который маячил
в моем детском воображении страшным, свирепым созданием, настоящим чертом, с
рогами и хвостом.
Проснулся я в одиночке от боли, вызванной тисками смирительной рубашки.
Вокруг меня была все та же четверка: смотритель Этертон, капитан Джэми,
доктор Джексон и Эль Гетчинс. Я исказил свое лицо насильственной улыбкой,
стараясь овладеть собой, несмотря на мучительные боли восстанавливающегося
кровообращения. Я выпил воду, которую мне подали, отмахнулся от
предложенного хлеба и отказался отвечать на вопросы. Закрыв глаза, я силился
вернуться к кругу повозок в Нефи. Но, пока мои мучители стояли около и
разговаривали между собой, я не мог этого сделать.
Один обрывок разговора я подслушал:
-- Совершенно как вчера, -- говорил доктор Джексон. -- Никаких перемен
в какую бы то ни было сторону!
-- В таком случае он может выдержать это и дальше? спросил смотритель
Этертон.
-- Не сморгнув! Следующие двадцать четыре часа дадутся ему так же
легко, как и последние. Он неисправим, говорят вам -- закоренелый упрямец!
Если бы я не знал, что это невозможно, я бы сказал, что он находится под
действием наркотика.
-- Я знаю, какой у него наркотик! -- вставил смотритель. -- Это его
проклятая воля! Бьюсь об заклад, что если бы ему вздумалось, он бы прошелся
босиком по раскаленным докрасна камням, как жрецы канаков на островах Южного
океана.
Вероятно, это слово "жрецы" я и унес с собой в тьму следующего полета
во времени. Может быть, оно послужило толчком, но всего вероятнее -- это
простое совпадение. Во всяком случае, проснувшись, я увидел себя лежащим
навзничь на твердом каменном полу. Руки мои были скрещены, и каждый локоть
покоился в ладони противоположной руки. Я лежал наполовину проснувшись, с
закрытыми глазами; я потер свои локти ладонями и убедился, что тру
чудовищные мозоли! Но в этом не было ничего удивительного. К этим мозолям я
отнесся как к чему-то давнишнему и само собой разумеющемуся.
Я раскрыл глаза. Приютом мне служила небольшая пещера, не более трех
футов высоты и двенадцати футов длины. В пещере было очень жарко. Капельки
пота покрывали всю поверхность моего тела. Время от времени несколько
капелек сливались, образуя крохотный ручеек. Я был без одежды, если не
считать грязной тряпки, обернутой вокруг бедер. Кожа моя загорела до цвета
красного дерева. Я был страшно тощ и взирал на эту свою худобу с какой-то
безотчетной гордостью, словно в этой отощалости заключалось геройство.
Особенно любовно ощупывал я свои торчащие ребра. Самый вид впадины между
ребрами рождал во мне ощущение торжественной экзальтации -- какой-то даже
святости!..
На коленях моих были такие же сплошные мозоли, как и на локтях. Я был
невероятно грязен. Борода моя, некогда белокурая, теперь представляла собою
грязные, полосатые, бурые лохмы, свисавшие спутанной массой до живота.
Длинные волосы, такие же грязные и косматые, падали мне на плечи; пряди их
то и дело закрывали мне глаза, и время от времени мне приходилось
отбрасывать их руками. Но обычно я смотрел сквозь эти лохмы, как дикий
зверь, выглядывающий из чащи.
У отверстия моей темной пещеры, смахивавшей на тоннель, день рисовался
стеной ослепительного солнечного сияния. Спустя некоторое время я полез к
выходу и для вящего мучительства улегся под палящее солнце на узком камне.
Это солнце буквально жарило меня, и чем мне было больнее, тем больше мне это
доставляло удовлетворения -- и благодаря этому становился господином своей
плоти, становился выше ее притязаний и укоров. Нащупав под собой острый
выступ камня, я стал тереться о него телом, умерщвлять свою плоть в
неподдельном экстазе.
Зной был удушливый, неподвижный. Ни малейшего ветерка над речной
долиной, на которую я время от времени поглядывал. В нескольких сотнях футов
подо мной текла река. Противоположный ее берег был плоский, песчаный и
тянулся до самого горизонта. Над водой там и сям виднелись купы пальм.
На моем берегу, изрезанные водой, торчали высокие, выветрившиеся скалы.
Дальше по излучине как на ладони виднелись высеченные из скалы четыре
колоссальные фигуры. От их лодыжек до земли было расстояние не меньше
человеческого роста. Эти четыре колосса сидели положив руки на колени; плечи
их почти совершенно выветрились, и глядели они на реку. По крайней мере --
трое из них; от четвертого остались только нижние конечности до колен и
огромные руки, покоившиеся на коленях. У ног этой фигуры прикорнул до
смешного малый сфинкс; но этот сфинкс был выше меня ростом.
Я с презрением поглядел на эти резные фигуры и сплюнул. Я не знал, что
это такое -- забытые ли боги или никем не вспоминаемые цари. Но для меня они
были символом тщеславия и тщеты земных людей и земных желаний.
И над всей этой речной излучиной, над водой и широкими песками за нею,
опрокинулся медный свод неба, не омраченный ни малейшим облачком.
Часы проходили, а я жарился на солнце. Часто я забывал о зное и боли,
уходя в мечты, видения и воспоминания. Я знал, что все это --
выветривающиеся колоссы, река, песок, и солнце, и медное небо -- все
исчезнет во мгновение ока. В любой момент могут прозвучать трубы архангелов,
упадут звезды с неба, небеса зашатаются, и Господь Бог сойдет с воинством
своим для страшного суда.
Я знал это так проникновенно, что ежеминутно готов был к изумительному
событию. Вот почему я и лежал здесь в отрепьях, в грязи и ничтожестве. Я был
кроток и смирен, я презирал бренные нужды и страсти плоти. С презрением и не
без удовлетворения думал я о далеких городах на равнине, которые я когда-то
знал: среди блеска и роскоши они не подозревали, что последний час близок.
Что ж, скоро они узнают; но будет поздно! А я буду смотреть. Я-то готов. В
ответ на их вопли и жалобы я восстану, возрожденный и блистающий, и займу
заслуженное и по праву принадлежащее мне место в Царстве Божием.
Временами, в промежутках между муками и видениями, в которых я поистине
раньше времени входил в царство Божие, я перебирал в уме старинные споры и
разногласия. Да, Новат был прав в своем утверждении, что раскаявшиеся
отступники никогда не будут приняты в лоно церкви. Не было также сомнения,
что савеллианская ересь -- порождение дьявола.
Я часто возвращался мыслью к природе единства Божия и вновь перебирал в
уме утверждение сирийца Ноэта. Но мне больше нравились рассуждения моего
возлюбленного учителя Ария. Воистину, если человеческий разум может
определить что бы то ни было, то было время, когда Сына не существовало. По
самой сути этого понятия должно было быть время, когда Сын начал
существовать! Отец должен быть старше своего Сына. Думать иначе было бы
богохульством и умалением Господа.
Я вспоминал дни своей молодости, когда я сидел у ног Ария, пресвитера в
городе Александрии, лишенного епископства богохульным еретиком Александром.
Александр -- савеллианец -- вот кто он был, и ногами он крепко стоял в аду.
Да, я присутствовал на Никейском соборе и был свидетелем тому, как он
увиливал от окончательного ответа. Я помнил, как император Константин
изгонял Ария за его прямоту. Помнил, как Константин раскаялся по
государственным и политическим соображениям и приказал Александру и другому
Александру, трижды проклятому епископу константинопольскому, допустить
наутро Ария к причастию. И не умер ли Арий на улице в ту же ночь? Говорят,
что на него напала жестокая болезнь по молитве Александра пред Господом. Но
я утверждаю -- и так думали мы все, ариане, -- что жестокая болезнь вызвана
была ядом, а яд был дан самим Александром, епископом константинопольским,
отравителем, сатаной.
Я терся своим телом об острые камни и от полноты убеждения бормотал
вслух:
-- Пусть смеются евреи и язычники! Пусть они торжествуют, ибо срок их
недолог. И для них уже не останется времени после срока!
Я часто говорил вслух сам с собою на этой каменной полке, нависшей над
рекой. Меня лихорадило, и время от времени я скупо отпивал воды из вонючего
козьего меха. Этот козий мех я повесил на солнце для того, чтобы кожа больше
воняла, и в воде не было ни свежести, ни прохлады. Тут же была еда; она
лежала на полу моей пещеры -- несколько корешков и ломоть заплесневелой
ячменной лепешки; и я был голоден, но не ел.
В этот благословенный нескончаемый день я только и делал, что жарился
на солнце, умерщвляя свою плоть, глядел на пустыню, воскрешал старые
воспоминания, мечтал, грезил и вслух исповедовал свои убеждения.
Когда солнце село в коротких сумерках, я бросил последний взгляд на
мир, которому суждено было скоро погибнуть. У ног колоссов я различил
крадущиеся фигуры зверей, живших в этих некогда гордых сооружениях человека.
Под рычание зверей я заполз в свою пещеру и, бормоча в бреду молитвы о том,
чтобы скорей настал последний день, погрузился в царство сна.
Ко мне вернулось сознание, я увидел в одиночке себя и тот же квартет
моих мучителей.
-- Богохульный еретик, смотритель Сан-Квэнтина, стопами уже попирающий
ад, -- пролепетал я, отпив большой глоток воды, поднесенный к моим губам. --
Пусть тюремщики и старосты торжествуют. Срок их недалек, и после него не
будет им срока.
-- Он рехнулся! -- решил смотритель Этертон.
-- Он дурачит вас! -- решил доктор Джексон и был близок к истине.
-- Но он ведь отказывается от еды! -- возражал капитан Джэми.
-- Ба! Он может поститься сорок дней, и это не причинит ему вреда, --
отвечал доктор.
-- И постился! -- вставил я. -- И сорок ночей! Сделайте милость,
стяните потуже куртку и убирайтесь вон!
Главный староста попробовал просунуть палец под куртку.
-- Даже с помощью блока с веревками вы не стянете шнуровку и на
четверть дюйма! -- уверял он.
-- Нет ли у вас жалоб, Стэндинг? -- спросил смотритель.
-- Да, -- отвечал я, -- целых две.
-- В чем же они заключаются?
-- Первая в том, что куртка невероятно свободна, Гетчинс -- осел; если
бы он захотел, он мог бы стянуть шнуровку еще на целый фут!
-- А в чем другое неудовольствие? -- продолжал смотритель Этертон.
-- В том, что вы зачаты самим сатаной, смотритель!
Капитан Джэми и доктор Джексон захихикали; смотритель засопел и вышел
из моей камеры.
Оставшись в одиночестве, я попытался снова погрузиться во мрак и
воскресить перед собою круг повозок в Нефи. Мне интересно было знать, чем
кончилось наше зловещее путешествие по пустынному и враждебному краю на
сорока огромных повозках; не совсем безучастен я был и к судьбе шелудивого
отшельника с ободранными о камень ребрами и вонючим козьим мехом. И я
действительно вернулся назад; но не в Нефи и не к Нилу...
Здесь, читатель, я должен остановиться и пояснить вам кое-что, чтобы
все рассказанное стало вам понятнее. Необходимо это потому, что мне немного
остается времени для окончания моих воспоминаний. Скоро, очень скоро меня
выведут и повесят! Будь у меня тысяча жизней -- все же я не мог бы описать
до последних деталей мои переживания в смирительной куртке. Вот почему я
должен сократить свое повествование.
Прежде всего скажу -- Бергсон прав. Жизнь нельзя объяснить
ителлектуальными терминами. Недаром сказал когда-то Конфуций: "Если мы так
мало знаем жизнь -- что мы можем знать о смерти?" И мы действительно не
знаем жизни, если не можем объяснить ее в понятных словах. Мы знаем жизнь
только как явление, как дикарь может знать динамо-машину; но мы ничего не
знаем об истинной сущности жизни.
Во-вторых, Маринетти не прав, утверждая, что материя -- единственная
тайна и единственная реальность. Я говорю -- и вы, читатель, понимаете, что
я говорю авторитетно, -- и говорю, что материя -- единственная иллюзия. Конт
называл мир, который представляется равнозначным материи, великим фетишем --
и я согласен с Контом.
Жизнь -- реальность и тайна. Жизнь значительно отличается от химической
материи, меняющейся в модусах понятия. Жизнь продолжает существовать. Жизнь
равна нити, проходящей сквозь все модусы бытия. Я это знаю. Я -- жизнь. Я
прожил десять тысяч поколений. Я прожил миллионы лет. Я обладал множеством
тел. Я, хозяин этого множества тел, уцелел. Я -- жизнь. Я -- неугасимая
искра, вечно вспыхивающая и изумляющая лик времени, вечно творящая свою волю
и изливающая свои страсти через скопления материи, называемые телами,
которые служили мне временной обителью.
Посмотрите, вот мой палец, столь чувствительный, столь тонкий на ощупь,
столь изощренный в разнообразных движениях, столь крепкий и твердый, умеющий
сгибаться или коченеть; отрежьте его -- я останусь живым. Тело изувечено --
я не изувечен. Дух, составляющий меня, остался цел.
Отлично! Отрежьте все мои пальцы. Я -- остаюсь я. Дух неразделен.
Отрежьте обе кисти. Отрежьте обе руки у плеч! Отрежьте обе ноги у бедер. А
я, непобедимый и неразрушимый, живу! Разве я умалился из-за этих увечий?
Разумеется, нет! Остригите мне волосы. Срежьте острыми бритвами мои губы,
нос, уши -- да хоть вырвите глаза с корнем; и все же, замурованный в
бесформенном черепе, прикрепленный к изрубленному, изувеченному торсу, в
клетке униженной плоти остаюсь я, неизуродованный, неуменьшенный!
О, сердце еще бьется? Отлично! Вырежьте сердце или лучше, бросьте этот
последний комок в машину с тысячей ножей и превратите его в окрошку -- и я
-- я -- поймите вы это -- дух, и тайна, и жизненный огонь -- унесусь прочь.
Я не погиб! Только тело погибло, а тело -- это не я!
Я думаю, что полковник де Рочас был прав, утверждая, что напряжением
воли он посылал девушку Жозефину, пока она находилась в гипнотическом
трансе, назад через прожитые ею восемнадцать лет, через безмолвие и тьму,
предшествовавшие ее рождению, к свету предыдущей жизни, когда она была
прикованным к постели стариком, бывшим артиллеристом Жан-Клодом Бурдоном. Я
верю, что полковник де Рочас действительно гипнотизировал эту воскресшую
тень старика и напряжением своей воли посылал его в обратном порядке через
семьдесят лет его жизни в тьму и затем в дневной свет его жизни в образе
злой старухи Филомены Картерон.
И не показал ли я вам уже, мой читатель, что в предшествующие эпохи я
обитал в разнообразных скоплениях материи: я жил в образе графа Гильома де
СенМора, затем шелудивого и безвестного пустынника в Египте и мальчика
Джесса, отец которого был начальником сорока повозок в великом переселении
на Запад? А теперь, когда я пишу эти строки, не являюсь ли я Дэррелем
Стэндингом, приговоренным к смерти узником Фольсомской тюрьмы, а некогда
профессором агрономии в сельскохозяйственном колледже Калифорнийского
университета?
Материя -- великая иллюзия. Другими словами, материя проявляется в
форме, а форма -- не что иное, как видение. Где находятся сейчас искрошенные
утесы Древнего Египта, на которых я некогда лежал, как дикий зверь, мечтая о
Царстве Божием? Где теперь тело Гильома де Сен-Мора, пронзенного насквозь на
освещенной луною траве пламенным Гюи де Вильгардуэном? Где сорок огромных
повозок, составленных кругом в Нефи? Где мужчины, женщины, дети и тощий
скот, помещавшиеся внутри этого круга? Все это не существует, ибо все это
были формы проявления текучей материи. Они прошли -- и их нет.
Аргументация моя донельзя проста. Дух -- единственная реальность,
которая существует. Я -- дух, и я существую, продолжаюсь. Я, Дэррель
Стэндинг, обитатель многих плотских обителей, напишу еще несколько строк
этих воспоминаний, а затем в свою очередь исчезну. Моя внешняя форма, мое
тело сгинет, когда его достаточно долго продержат подвешенным за шею, и
ничего от него не останется во всем мире материи. А в мире духа останется
память о нем. Материя не имеет памяти, ибо формы ее исчезают, и то, что
запечатлено в них, исчезает вместе с ними.
Еще одно слово, прежде чем я вернусь к моему повествованию. Во всех
моих скитаниях во тьме других жизней, принадлежавших мне, я ни разу не мог
довести до конца то или иное скитание. Много былых существований пережил я,
прежде чем мне удалось вернуться к мальчику Джессу в Нефи. Возможно, что в
конечном итоге я испытал переживания Джесса десятки раз, иногда начиная его
карьеру маленьким мальчиком в поселениях Арканзаса, и по крайней мере
десяток раз проходил мимо пункта, в котором я его оставил в Нефи.
Рассказывать обо всем подробно было бы напрасной тратой времени; и поэтому,
не в ущерб правдоподобию моего рассказа, я обойду молчанием то, что в нем
смутно, неясно и повторяется, и изложу факты так, как я их воссоздал из
разных моментов, -- в общем так, как я их переживал.
Задолго до рассвета лагерь в Нефи зашевелился. Скотину погнали к
водопою и на пастбище. Пока мужчины распутывали на колесах цепи и
оттаскивали телеги в сторону, чтобы запрячь волов, женщины варили сорок
завтраков на сорока кострах. Дети, дрожа от предрассветного холода скучились
у костров, деля место с последней сменой ночной стражи, сонно дожидавшейся
кофе.
Много требуется времени, чтобы собрать в дорогу огромный обоз вроде
нашего, и скорость его движения крайне мала. Солнце уже час как сияло на
небе, и день пылал зноем, когда мы наконец выкатились из Нефи и поплелись по
пескам. Никто из жителей местечка не смотрел на нас, когда мы уезжали. Все
предпочитали оставаться в домах, и от этого наш отъезд был так же зловещ,
как и наш въезд накануне.
Опять потянулись долгие часы среди иссушающего зноя и едкой пыли,
полыни и песку и бесплодных, проклятых богом равнин. Ни жилья, ни скота, ни
ограды, ни малейших признаков рода человеческого не встретилось нам в этот
день. И на ночь мы составили наши повозки кругом у пересохшего ручья, во
влажном песке которого вырыли множество ям, медленно наполнявшихся
просачивавшейся водой.
Дальнейшие наши страдания всегда представляются мне в отрывочном виде.
Мы столько раз разбивали лагерь, неизменно составляя повозки в круг, что, по
моим детским расчетам, после Нефи прошло много времени. И все так же над
нами висело сознание, что мы влечемся к какому-то неведомому, но неизбежному
и грозному Року.
Мы делали около пятнадцати миль в сутки. Я знал это из слов отца,
который раз объявил, что до Фильмора, следующего мормонского поселка,
остается шестьдесят миль, а мы в дороге три раза делали привал. Это значит,
что мы ехали четыре дня. На переезд от Нефи до последнего привала,
запомнившегося мне, у нас ушло недели две или немного больше.
В Фильморе жители оказались столь же враждебно настроенными к нам, как
и все вообще после Соленого озера. На наши просьбы продать провизии они
отвечали насмешками и дразнили нас миссурийцами
Прибыв на место, мы перед самым большим домом из десятка домов,
составлявших поселок, увидели двух верховых лошадей. запыленных, покрытых
потом, изнуренных. Старик, о котором я уже упоминал, с длинными выцветшими
волосами, в рубашке из оленьей кожи, бывший чем-то вроде адъютанта или
заместителя при отце, подъехал к нашей повозке и, кивнув головой, указал на
изнуренных животных.
-- Не щадят коней, капитан! -- пробормотал он вполголоса. -- И какого
черта им так скакать, если не за нами?
Но отец и сам заметил, в каком состоянии лошади. Я видел, как у него
сверкнули глаза, и поджались губы, и суровые складки на мгновение появились
на лице. Только и всего. Но я умел делать выводы и понял, что эти две
изнуренные верховые лошади делают наше положение еще более трудным.
-- Я думаю, они следят за нами, Лабан, -- только и ответил отец.
В Фильморе я увидел человека, которого мне суждено было впоследствии
увидеть еще раз. Это был высокий, широкоплечий мужчина средних лет, со всеми
признаками прекрасного здоровья и огромной силы -- силы не только тела, но и
духа. В отличие от всех мужчин, каких я привык видеть вокруг себя, он был
гладко выбрит. Пробившиеся волоски свидетельствовали, что он уже порядочно
поседел. У него был непомерно широкий рот и губы плотно сжаты, словно у него
недоставало передних зубов. Нос у него был большой, квадратный и толстый.
Квадратно было и его лицо, с широкими скулами, с массивной челюстью и
широким умным лбом. Небольшие глаза, отстоявшие друг от друга немного
больше, чем на ширину глаза, были такого синего цвета, какого я и не
видывал!
Этого человека я впервые увидел у мельницы в Фильморе. Отец с
несколькими мужчинами из нашего отряда отправился туда попытаться купить
муки, а я, терзаемый желанием разглядеть поближе наших врагов, не послушался
матери и потихоньку улизнул вслед за ними. Этот человек был одним из четырех
или пяти мужчин, стоявших кучкой возле мельника во время переговоров.
-- Ты видел этого гладкорожего старика? -- спросил Лабан отца, когда мы
возвращались в наш лагерь.
Отец кивнул.
-- Ведь это Ли, -- продолжал Лабан. -- Я его видел в городе Соленого
озера. Настоящий ублюдок! У него девятнадцать жен и пятьдесят детей,
говорят. И он помешан на религии. Но зачем он следует за нами по этой
проклятой Богом стране?
Мы продолжали наше роковое, унылое странствие. Мелкие поселки,
возникавшие там, где позволяла вода и состояние почвы, были расположены на
расстоянии в двадцать и пятьдесят миль друг от друга. А между ними тянулись
бесплодные пространства, покрытые песком и солончаками. И в каждом поселке
наши мирные попытки купить провизию не давали никаких результатов. Нам грубо
отказывали, да еще спрашивали, кто из нас продавал им провизию, когда мы их
выгоняли из Миссури? Бесполезно было говорить им, что мы из Арканзаса. Мы
действительно были из Арканзаса -- но они твердили, что мы миссурийцы.
В Бивере, в пяти днях пути к югу от Фильмора, мы опять увидели Ли. Те
же загнанные лошади стояли стреноженными у одного из домов. Но в Паровне Ли
исчез.
Седар-Сити был последним поселком. Лабан, опередивший нас, вернулся и
доложил о своей разведке отцу. Он принес важные вести.
-- Я видел, как этот Ли уезжал, капитан! И в СедарСити больше мужчин и
коней, чем полагается по размерам местечка.
Но и в этом поселке дело обошлось без неприятностей. Нам, правда,
отказались продать провизию, но оставили нас в покое. Женщины и дети не
выходили из домов, а мужчины хотя и показывались на улицах, но не входили в
наш лагерь и не дразнили нас, как в других селениях.
В этом самом Седар-Сити скончался младенец Вейнрайтов. Помню, как
плакала миссис Вейнрайт, умолявшая Лабана выпросить для нее немного
коровьего молока.
-- Может быть, это спасет ребенку жизнь! -- говорила она. -- И у них
ведь есть коровье молоко! Я собственными глазами видела молочных коров!
Сделай милость, сходи, Лабан! Беды не будет от попытки, они могут только
отказать. Скажи им, что это для младенца, для крохотного ребеночка! У
мормонских женщин материнские сердца. Они не могут отказать в чашке молока
крохотному умирающему ребеночку!
Лабан попытался, но, как он впоследствии рассказывал отцу, ему не
удалось увидеть ни одной мормонской женщины. Он видел только мужчин, и те
прогнали его.
Это был последний пост мормонов. За ним лежала обширная пустыня, а за
нею -- сказочная обетованная страна Калифорния. И когда наши телеги
выкатились из местечка ранним утром, я сидел на козлах рядом с отцом и
слушал Лабана, давшего волю своим чувствам. Мы проехали, может быть, с
полмили и поднимались на отлогий пригорок, который должен был скрыть от
наших глаз СедарСити, когда Лабан повернул своего коня, остановил его и
привстал на стременах. Там, где он остановился, виднелась свежевырытая
могилка, и я понял, что это могилка ребенка Вейнрайтов -- не первая из
могил, которые нам пришлось рыть до самых Вазачских гор.
Жуткую картину представлял собой Лабан. Старый, исхудалый, длиннолицый,
со впалыми щеками, с косматыми выцветшими волосами, рассыпавшимися по
плечам, в замшевой рубахе, он исказил свое лицо гримасой ненависти и
неутолимой ярости. Зажав длинную винтовку в одной руке, он свободным кулаком
потрясал в сторону Седар-Сити.
-- Будьте прокляты Богом! -- кричал он. -- Проклятие на ваших детей и
на нерожденных младенцев! Засуха да погубит ваш урожай! Пусть пищей вам
будет песок, приправленный ядом гремучих змей! Пусть пресная вода ваших
источников превратится в горькую щелочь! Пусть...
Но телеги наши катились дальше, и слова его стали невнятными; судя по
тому, как поднимались его плечи и как он размахивал кулаком, я видел, что он
только еще начал изливать свои проклятья. Он этим выразил общие чувства в
нашем обозе, о чем свидетельствовали женщины, высунувшиеся из повозок и
потрясавшие костлявыми, обезображенными трудом кулаками в сторону последнего
оплота мормонов. Юноша, шагавший по песку и покалывавший волов следующей за
нами повозки, засмеялся и потряс бодилом. Смех этот так странно прозвучал в
нашем обозе, где давно уже никто не смеялся.
-- Задай им пару, Лабан! -- поощрял он старика. -- Прокляни их и за
меня!
Повозки катились вперед, а я все оглядывался на Лабана, стоявшего в
стременах у могилы ребенка. Действительно, жуткая это была фигура, с
длинными волосами, в мокасинах с бахромчатыми крагами. Его оленья рубаха
была так стара и истрепана, что от щеголеватых некогда бахромок остались
одни грязные лохмотья. Она больше смахивала на развевающуюся тряпку. Я
помню, у его пояса болтались грязные пучки волос, которые после ливня
отливали черным глянцем. Я знал, что это скальпы индейцев, и вид их всегда
вызывал во мне дрожь.
-- Ему станет легче теперь, -- пояснил отец, скорее обращаясь к себе,
чем ко мне. -- Я не первый день жду от него взрыва...
-- Хорошо, если бы он вернулся и снял бы еще несколько скальпов, --
заметил я.
Отец с любопытством поглядел на меня
-- Не любишь мормонов, сын мой? А?
Я мотнул головой и почувствовал, как во мне поднимается неукротимая
ярость.
-- Когда я вырасту, -- сказал я через минуту, -- я перестреляю их.
-- Что ты, Джесс, -- донесся голос матери из повозки. -- Сейчас же
заткни рот. -- И она обратилась к отцу: -- И не стыдно тебе позволять
мальчику говорить такие вещи?
Через двое суток мы добрались до Горных Лугов, и здесь, далеко за
последним поселком, мы впервые не составили повозок в круг. Собственно,
повозки были составлены, но между ними были пробелы, и колес мы не соединили
цепями. Мы стали готовиться к недельному отдыху. Скотине надо было дать
отдохнуть перед настоящей пустыней, хотя и эта местность была похожа на
пустыню. Кругом виднелись все те же низкие песчаные холмы, скудно поросшие
колючим кустарником. Равнина была песчаная, на ней было много травы --
такого обилия ее мы давно уже не встречали. Не далее чем в ста футах от
бивуака бил родничок, воды которого едва хватало на удовлетворение наших
потребностей. Но подальше из пригорков били другие ключи, и у них мы поили
скотину.
В этот день мы рано расположились на ночлег, и так как предстояло
пробыть здесь неделю, то женщины повытаскивали грязное белье, чтобы утром
приняться за стирку. Все работали до темноты. Мужчины чинили сбрую,
занимались ремонтом колес и повозок. Стучали молотками, закрепляли болты и
гайки. Помню, я наткнулся на Лабана, который сидел, скрестив по-турецки
ноги, в тени повозки и шил себе новую пару мокасин до позднего вечера. Он
был единственным мужчиной в нашем лагере, носившим мокасины из оленьей кожи,
и у меня осталось впечатление, что он не состоял в нашем отряде, когда мы
покидали Арканзас; у него не было ни жены, ни семьи, ни собственной повозки.
Все его имущество заключалось в лошади, винтовке, платье, которое было на
нем, и в двух одеялах, которые он клал в повозку Мэсона.
На следующее утро над нами стряслась давно ожидаемая беда. Отъехав на
двое суток пути от последнего мормонского поста, зная, что кругом нет
индейцев, мы впервые не скрепили наших повозок в круг цепями, не поставили
сторожей к скотине и не выставили ночной стражи.
Пробуждение мое было похоже на кошмар. Я проснулся как бы от тревожного
стука. В первые мгновения я только тупо пытался определить разнообразные
шумы, сливавшиеся в непрерывный гул. Вблизи и вдали слышался треск винтовок,
крики и проклятия мужчин, вопли женщин и рев детей. Я расслышал визг и стук
пуль, попадавших в дерево и железо колес и нижние части повозок. Кто бы это
ни стрелял, прицел был взят слишком низко.
Когда я начал подниматься, мать, также, очевидно, одевавшаяся,
притиснула меня рукой к ложу. Отец, уже вставший, просунул голову в повозку.
-- Вставайте! -- крикнул он. -- Скорей на землю!
Он не терял времени. Схватив меня в охапку, он быстрым движением
буквально вышвырнул меня из повозки. Я едва успел отползти в сторону, как
отец, мать и ребенок беспорядочной кучей упали рядом со мной.
-- Сюда, Джесс! -- кричал мне отец.
Я присоединился к нему, и мы начали рыть песок за прикрытием колес
телеги. Работали мы с лихорадочной поспешностью и голыми руками. К нам
присоединилась и мать.
-- Продолжай рыть, Джесс! -- командовал отец.
Он поднялся на ноги и ринулся в серый сумрак, выкрикивая на ходу
приказы. (Теперь я узнал, что фамилия моя была Фэнчер. Мой отец был капитан
Фэнчер.)
-- Ложись! -- кричал он. -- Прячьтесь за колеса телег и заройтесь в
песок! Семейные, выводите женщин и детей из повозок! Не стреляйте!
Прекратите огонь! Приберегите порох для атаки! Холостые, присоединяйтесь к
Лабану направо, к Кокрэну налево и ко мне в центр! Не вставайте! Ползите по
земле!
Но атаки не последовало. В течение четверти часа продолжалась сильная
беспорядочная пальба. Мы понесли потери в первые моменты, когда были
захвачены врасплох; несколько мужчин, рано поднявшихся, оказались
освещенными светом костров, которые они разводили. Индейцы -- Лабан объявил,
что это были индейцы, -- атаковали нас с поля. С рассветом отец приготовился
встретить их. Он занимал позицию возле окопа, в котором лежали мы с матерью,
и крикнул:
-- Ну, все разом!
Справа, слева и из центра наши винтовки дали залп. Я поднял голову и
заметил, что пули попали в нескольких индейцев. Пальба тотчас же
прекратилась, и я видел, как индейцы поскакали назад по равнине, унося своих
мертвых и раненых.
У нас все моментально принялись за работу. Повозки составили в круг,
дышлами внутрь, и сковали цепями -- даже женщины и малолетние мальчики и
девочки изо всех сил помогали, налегая на спицы колес! Затем мы подсчитали
наши потери. Хуже всего было, что наш последний скот был угнан. Кроме того,
у костров, разведенных нами, лежало семь наших мужчин. Четверо были мертвы,
а трое умирали. За другими ранеными ухаживали женщины. Маленький Риш Гардэкр
был ранен в руку пулей крупного калибра. Ему было не больше шести лет, и я
помню, как он, раскрыв рот, глядел на мать, державшую его на коленях и на
отца, перевязывавшего ему рану. Маленький Риш старался не кричать, но я
видел слезы на его щеках, когда он с удивлением глядел на кусок кости,
торчавшей из его руки
Бабушку Уайт нашли мертвой в повозке Фоксвиллей. Это была тучная
беспомощная старуха, которая никогда ничего не делала, а только сидела да
курила трубку. Это была мать Эбби Фоксвилля. Убита была и жена Гранта. Муж
сидел возле ее тела в совершенном спокойствии, и даже слез не видно было на
его глазах. Он просто сидел, положив винтовку на колени. Его оставили
одного.
Под руководством отца наш отряд работал, как стая бобров. Люди вырыли
огромную яму в центре корраля, образовав бруствер из вынутого песка. В эту
яму женщины перетащили постели, провиант и все необходимое из повозок. Им
помогали дети. Не было ни хныканья, ни суматохи. Навалилась работа, а мы все
сызмала привыкли работать.
Огромная яма предназначалась для женщин и детей. Под повозками вырыта
была в виде круга мелкая траншея, и перед нею из земли возведен бруствер.
Лабан вернулся с разведки. Он донес, что индейцы отступили
приблизительно на полмили и держат военный совет. Он видел также, что они
принесли шестерых с поля битвы, из них трое, по его словам, были мертвы.
Время от времени, в утро этого первого дня, мы замечали облака пыли,
свидетельствовавшие о передвижении значительных отрядов конницы. Эти облака
пыли направлялись к нам. Но мы не разглядели ни одной живой души. Удалялось
же от нас только одно облако, и все говорили, что это угоняют наш скот. Наши
сорок огромных повозок, перевалившие через Скалистые Горы и проехавшие
половину материка, стояли теперь беспомощным кругом. Без скотины они не
могли двинуться дальше.
В полдень Лабан вернулся с новой разведки. Он видел прибывших с юга
других индейцев -- это свидетельствовало, что нас окружают. И тут мы увидели
с десяток белых людей, выехавших на гребень невысокого холма на востоке и
глядевших на нас.
-- Все понятно, -- сказал Лабан отцу. -- Они подбили на это индейцев!
-- Они белые, как и мы, -- жаловался Эбби Фоксвилль матери. -- Почему
же они не с нами?
-- Это не белые, -- пропищал я, косясь на мать, от которой опасался
подзатыльника. -- Это мормоны!
В эту ночь с наступлением темноты трое из наших молодых людей ушли
украдкой из лагеря. Я видел, как они уходили. Это были Вилли Эден, Эбель
Милликен и Тимоти Грант.
-- Они идут в Седар-Сити за помощью, -- сказал отец матери.
Мать покачала головой.
-- Кругом нашего лагеря сколько угодно мормонов, -- отвечала она. --
Если они не хотят помочь -- а они и виду на это не подали, -- то и мормоны
из Седар-Сити не помогут.
-- Но ведь есть же хорошие мормоны и плохие мормоны... -- начал отец.
-- Мы еще не видали хороших! -- отрезала мать.
Только утром я узнал о возвращении Эбеля Милликена и Тимоти Гранта.
Весь лагерь упал духом от их сообщений. Эти трое прошли всего несколько
миль, как их окликнули белые. И как только Вилли Эден заговорил, объяснив,
что они из отряда Фэнчера и направляются в Седар-Сити за помощью, его
застрелили. Милликен и Грант вернулись назад с этой вестью, и она убила
последнюю надежду в сердцах нашего отряда. За спинами индейцев прятались
белые, и Рок, которого мы так долго боялись, теперь вплотную надвинулся на
нас.
В утро второго дня, когда наши мужчины пошли за водой, в них стреляли.
Источник находился в ста шагах за нашим кругом, но путь к нему был во власти
индейцев, теперь занимавших позицию на невысоком холме на востоке. Прицел
был отличный, ибо до холма было не больше двухсот пятидесяти футов. Но
индейцы были плохие стрелки -- наши люди вернулись с водой, не получив
царапины. Это утро прошло спокойно, если не считать случайных выстрелов в
лагерь. Мы расположились в большой яме, и так как мы давно привыкли к
суровой жизни, то чувствовали себя довольно сносно. Плохо было, разумеется,
тем семьям, где были убитые или где надо было ходить за ранеными. Я
ухитрялся убегать от матери подальше, терзаемый ненасытным любопытством ко
всему, что происходило, и очень многое видел. Внутри корраля, к югу от
большой ямы люди вырыли могилу и похоронили в ней семерых мужчин и двух
женщин. Громко кричала миссис Гастингс, потерявшая мужа и отца. Она рыдала,
стонала, и женщинам долго пришлось успокаивать ее.
На холме к востоку индейцы держали совет с большим шумом и криками. Но,
если не считать нескольких недавних выстрелов, они ничего не предпринимали
против нас.
-- Что затевают эти проклятые? -- нетерпеливо спрашивал Лабан. --
Неужели они не могут решиться на чтонибудь и сделать, наконец, свое дело?
Жарко было в коррале в этот день! Солнце сверкало на безоблачном небе,
не чувствовалось ни малейшего ветерка. Мужчины, залезшие с винтовками в окоп
под повозки, находились в тени; но огромная яма, в которой собралось свыше
сотни женщин и детей, ничем не была защищена от яркого солнца. Тут же были и
раненые, над которыми мы устроили навес из одеял. В яме было душно и тесно,
и я то и дело прокрадывался в окоп, с большим усердием исполняя поручения
отца.
Мы сделали крупную оплошность, не включив в круг наших повозок и ручей.
Произошло это вследствие растерянности от первой атаки, когда мы не знали,
скоро ли может последовать вторая. А теперь уж было поздно. Внутри корраля,
к югу от могилы, мы вырыли отхожее место, а к северу от ямы, в центре,
несколько человек по приказу отца начали рыть колодец.
Перед вечером этого дня -- это был второй день -- мы вновь увидели Ли.
Он шел пешком, пересекая по диагонали луг на северо-запад, на расстоянии
выстрела от нас. Отец взял у матери одну из простынь и, привязав ее к
воловьим бодилам, связанным вместе, -- поднял ее. Это был наш белый флаг. Но
Ли не обратил на него внимания и продолжал свой путь.
Лабан советовал подстрелить Ли, но отец остановил его, говоря, что
белые, очевидно, еще не решили, как поступить с нами, и выстрел в Ли может
побудить их принять какое-нибудь решение против нас.
-- Вот что, Джесс, -- сказал мне отец, оторвав кусок от простыни и
прикрепив его к воловьему бодилу. -- Возьми это, пойди и попробуй заговорить
с этим человеком. Не рассказывай ему ничего о том, что с нами случилось!
Только попытайся уговорить его прийти и поговорить с нами!
Грудь моя раздувалась от гордости, но когда я собрался уходить, Джед
Донгэм крикнул, что и он хочет идти со мной. Джед был приблизительно моего
возраста.
-- Донгэм, можно твоему мальчику пойти с Джессом? -- обратился мой отец
к отцу Джеда. -- Двое лучше одного. Они будут охранять друг друга от беды.
И вот мы с Джедом, двое девятилетних малышей, пошли под белым флагом
беседовать с предводителем наших врагов. Но Ли не хотел говорить с нами.
Увидя нас, он начал увертываться от нас. Мы не могли даже подойти к нему на
такое расстояние, чтобы он мог услышать наш крик. Через некоторое время он,
должно быть, спрятался в кустах, ибо больше мы его не видели, хотя и знали,
что он не мог уйти далеко.
Долго мы с Джедом обыскивали кусты во всех направлениях. Нам не
сказали, сколько времени мы можем отсутствовать, и так как индейцы не
стреляли в нас, то мы продолжали идти вперед. Мы отсутствовали свыше двух
часов, хотя каждый из нас, будь он один, выполнил бы эту миссию вдвое
скорее. Но Джеду нужно было перещеголять меня, а мне хотелось перещеголять
его.
Эта наша глупость оказалась не без пользы. Мы смело шли под прикрытием
белого флага и убедились, как основательно обложен наш лагерь. К югу от
нашего обоза, не дальше чем в полумиле, мы разглядели большой индейский
лагерь. Дальше на лугах разъезжали верхом индейские мальчики.
На холме к востоку также была позиция индейцев. Нам удалось
вскарабкаться на невысокий холм и разглядеть эту позицию. Мы с Джедом
потратили полчаса, чтобы сосчитать врагов, и решили, что их должно быть не
меньше двух сотен. Среди них мы видели и несколько белых людей, оживленно
разговаривавших с ними.
К северо-востоку от нашего лагеря, не больше как в полутораста футах,
мы рассмотрели большой лагерь белых за низкой возвышенностью. А дальше
паслось пять или шесть десятков верховых лошадей. Еще милей дальше к северу
мы разглядели облачко пыли, явно приближавшееся. Мы с Джедом бежали, пока не
увидели человека верхом, который быстро скакал в лагерь белых.
Когда мы вернулись в корраль, первое, что я получил, была затрещина от
матери за долгое отсутствие; но отец похвалил меня, выслушав наш доклад.
-- Теперь, пожалуй, следует ожидать атаки, капитан, -- сказал Аарон
Кокрэн. -- Человек, которого видели мальчики, недаром прискакал! Белые
сдерживают индейцев, пока сами не получат приказа свыше. Может быть, этот
человек привез какие-нибудь распоряжения. Лошадей они не жалеют, это можно
сказать с уверенностью.
Через полчаса после нашего возвращения Лабан попытался сделать разведку
под белым флагом. Но не отошел он от нашего круга и девяти футов, как
индейцы открыли по нем пальбу и заставили его вернуться.
Перед самым закатом я сидел в яме, держа на руках нашего малютку, пока
мать стелила постели. Нас было так много, что в яме мы были набиты битком,
как сельди в бочке. Многие женщины провели ночь в сидячем положении, склонив
голову на колени. Возле меня, так близко, что, размахивая руками, он касался
моего плеча, умирал Сайлес Донлеп. Ему прострелили голову в первой же атаке,
и весь второй день он находился в состоянии безумия, распевая в бреду всякий
вздор. Вот одна из песен, которую он повторял несчетное множество раз, едва
не сведя с ума мою мать:
И сказал первый чертенок второму чертенку:
-- Дай мне табачку из твоей табакерки.
И сказал второй чертенок первому чертенку:
-- Держи свои деньги, держи свои камни,
И всегда будет табачок в твоей табакерке.
Я сидел рядом с ним, держа на руках ребенка, когда враги ринулись на
нас снова. Солнце закатывалось. Я все время таращил глаза на умиравшего
Сайлеса Донлепа. Жена его Сара держала свою руку на его лбу. И она, и ее
тетка Марта плакали. В этот момент вновь послышались выстрелы и полетели
пули из сотен винтовок. Со всех сторон -- с запада, востока и севера --
враги ринулись на нас полукругом, осыпая нашу позицию свинцом. Все
находившиеся в яме прилегли к земле. Маленькие дети подняли плач, и женщинам
еле удалось успокоить их. Кричали и женщины, но таких было немного.
В первые несколько минут по нам было выпущено, наверное, несколько
тысяч зарядов. Как мне хотелось перебраться в окоп под повозками, где наши
мужчины поддерживали постоянный, но неправильный огонь. Каждый стрелял на
свой страх, завидя неприятеля. Но мать разгадала мои намерения и приказала
мне оставаться на месте с малюткой на руках.
Только что я последний раз оглянулся на Сайлеса Донлепа -- он все еще
трепетал, -- как был убит младенец Касльтонов. Его держала на руках Дороти
Касльтон, десятилетняя девочка, и он был убит в ее объятиях. Ее даже не
задело! Я слышал разговоры об этом случае: вероятно, пуля ударилась в одну
из повозок и отлетела рикошетом в яму. Это была чистая случайность; если не
считать таких случайностей, то в яме было безопасно.
Когда я опять поднял глаза, Сайлес Донлеп был уже мертв. Я испытал
разочарование, словно меня обманом лишили интересного зрелища. Мне никогда
еще не приходилось видеть, как умирает человек.
Дороти Касльтон разрыдалась; долго она завывала и кричала, заразив в
конце концов миссис Гастингс. Поднялся такой гвалт, что отец послал Уотта
Геллингса разузнать, в чем дело.
В сумерках пальба прекратилась, хотя разрозненные выстрелы слышались и
ночью. Двое наших мужчин были ранены в эту вторую атаку, и их принесли к нам
в яму. Билль Тайлер был убит наповал, и его, Сайлеса Донлепа и малютку
Касльтонов похоронили рядом с другими, когда стемнело.
Всю эту ночь мужчины, сменяя друг друга, рыли колодец; но вместо воды
они докопались только до влажного песка. Принесли несколько ведер воды из
родника, но в тех, кто отважился пойти за водой, стреляли, и они перестали
носить воду, когда Иеремии Гопкинсу прострелили левую руку у кисти.
Третий день был еще более сухой и жаркий. Мы проснулись от сильнейшей
жажды, и варка пищи в этот день не производилась. Во рту так пересохло, что
мы не могли есть. Я попробовал грызть кусок черствого хлеба, данный мне
матерью, но должен был бросить его. Пальба то усиливалась, то ослабевала.
Иногда целые сотни людей обстреливали лагерь. Но были промежутки, когда не
раздавалось ни одного выстрела. Отец не переставал уговаривать наших бойцов
не тратить выстрелов, ибо у нас истощались заряды.
В это время мужчины продолжали рыть колодец; он был уже так глубок, что
песок приходилось убирать ведрами. Люди, выносившие песок, представляли
удобную цель, и один из них был ранен в плечо. Это был Питер Бромли,
погонявший волов повозки Блэдгудов, -- он был помолвлен с Джен Блэдгуд. Она
выскочила из ямы, побежала к нему, несмотря на летавшие пули, и увела его в
безопасное место. Около полудня стенки колодца обвалились, и пришлось
откапывать двух рабочих, засыпанных песком. Эмос Вентворт целый час не
приходил в себя. После этого колодец обложили досками, выломанными из
повозок, и дышлами, и рытье колодца продолжалось. Но даже на глубине
двадцати футов был лишь влажный песок. Вода не показывалась
К этому времени положение в яме сделалось ужасным. Дети с плачем
требовали воды, грудные младенцы, охрипнув от крика, все еще продолжали
кричать. Роберт Карр, другой раненый, лежал в каких-нибудь десяти футах от
матери и меня. Он находился в состоянии безумия и все время просил воды.
Многие женщины находились не в лучшем состоянии; бредили мормонами и
индейцами; некоторые из них молились, а три взрослых сестры Демдайк со своей
матерью распевали духовные гимны. Матери брали влажный песок, вырытый со дна
колодца, и обкладывали им обнаженные тельца младенцев, чтобы немного
охладить их.
Двое братьев Ферфакс не вытерпели наконец и, взяв ведра, выползли
из-под повозок и кинулись бежать к ручью. Джайльс не пробежал и полдороги,
как упал. Роджерс добежал до родника и вернулся, не задетый пулей. Он принес
два неполных ведра, потому что часть воды расплескалась на бегу. Джайльс
ползком добрался назад, и когда его принесли в яму, он выплевывал кровь изо
рта и кашлял.
Двух неполных ведер воды не могло, разумеется, хватить на сотню душ, не
считая мужчин. Только грудные младенцы, и очень маленькие дети, да раненые
получили воду. Я не получил ни глотка, но мать омочила кусок ткани в
нескольких ложках воды, полученной для младенца, и вытерла мне губы. Себе
она не позволила даже этого и отдала мне жевать мокрую тряпку.
После полудня положение сделалось еще хуже. Солнце ослепительно
сверкало в ясном безветренном воздухе, и наша яма превратилась в сущее
пекло. Кругом во всех направлениях слышались выстрелы и завывания индейцев.
Лишь изредка отец разрешал послать выстрел из нашего окопа, да и то только
таким метким стрелкам, как Лабан и Тимоти Грант. На нашу же позицию лился
непрекращающийся дождь свинца. К счастью, больше не случалось роковых
рикошетов, и наши люди, притаившиеся в окопах, большей частью оставались
невредимы. Только четверо были ранены; один очень тяжело.
В одну из коротких передышек между залпами отец пришел к нам из окопа.
Несколько минут он сидел возле матери и меня, не говоря ни слова.
По-видимому, прислушивался к стонам и воплям о воде. Раз он вылез из ямы и
пошел осмотреть колодец. Он принес только влажный песок, которым густо
обложил грудь и плечи Роберта Карра. Потом он направился к месту, где лежали
Джед Донгэм и его мать, и послал в окоп за отцом Джеда. Мы были так тесно
скучены в яме, что. когда кто-нибудь двигался в ней, ему приходилось
осторожно переползать через тела лежащих.
Через некоторое время отец снова приполз к нам.
-- Джесс, -- спросил он меня, -- ты не боишься индейцев?
Я энергично замотал головой, догадавшись, что меня хотят отправить с
очень важной миссией.
-- Ты не боишься проклятых мормонов?
-- Ни одного проклятого мормона, -- ответил я, воспользовавшись этим
случаем ругнуть наших врагов, не опасаясь подзатыльника от матери.
Я видел, что легкая улыбка искривила ее пересохшие губы, когда она
услышала мой ответ.
-- Так вот, Джесс, не пойдешь ли ты с Джедом к роднику за водой?
Я весь превратился в слух.
-- Мы переоденем вас девочками, -- продолжал отец, -- и в вас, может
быть, не решатся палить.
Я хотел пойти так, как был, мужчиной, носящим штаны; но быстро сдался,
как только отец намекнул, что он найдет какого-нибудь другого мальчика,
которого переоденет и отправит с Джедом.
Из повозки Чэттоксов принесли сундук. Девочки Чэттокс были близнецы
приблизительно такого роста, как Джед и я. Несколько женщин бросились нам
помогать. Это были воскресные платья близнецов, которые они везли с собой в
сундуке из самого Арканзаса.
Мать оставила малютку на руках старой Донлеп и проводила меня до самого
окопа. Здесь, под повозкой, за невысоким песчаным бруствером, мы с Джедом
получили последние инструкции. Потом мы вылезли на лужайку и очутились на
равнине. Мы были одеты совершенно одинаково -- белые чулки, белые платьица с
большими синими кушаками и белые шляпки. Правая рука Джеда и моя левая
крепко держали одна другую. В каждой из свободных рук мы несли по два
небольших ведерка.
-- Будьте осторожны! -- предостерег отец, когда мы двинулись в путь. --
Идите медленно, спокойно, как девочки!
Не раздалось ни одного выстрела. Мы благополучно добрались до родника,
наполнили наши ведерки, прилегли и сами хорошенько напились. С полным
ведерком в каждой руке мы совершили обратный путь. И в нас ни разу не
выстрелили.
Не помню, сколько мы сделали таких прогулок -- вероятно, пятнадцать или
двадцать. Шли мы медленно, все время держась за руки, и каждый раз медленно
возвращались с четырьмя ведерками воды. Изумительно, как нам хотелось пить!
Мы несколько раз припадали к воде и пили долгими глотками.
Но это было чересчур для наших врагов. Не могу себе представить, чтобы
индейцы так долго воздерживались от выстрелов, -- все равно, по девочкам или
нет, -- если бы не слушались инструкций белых, прятавшихся за их спинами. Во
всяком случае, когда мы с Джедом отправились в новый поход, с холмов
индейцев раздался выстрел, а потом другой.
-- Вернитесь! -- крикнула мать.
Я поглядел на Джеда и увидел, что он смотрит на меня. Я знал, что он
упрям, и решил быть последним в этой борьбе великодуший. Я двинулся вперед,
и в то же мгновение двинулся и он.
-- Ты! Джесс! -- крикнула мать. И в голосе ее послышалось обещание
чего-то более серьезного, чем затрещина.
Джед предложил, чтобы я взял его руку, но я покачал головой.
-- Побежим! -- предложил я.
И в то же время, как мы бежали по песку, казалось, все индейские
винтовки палили в нас. Я несколько раньше Джеда добежал до родника, так что
Джеду пришлось ждать, пока я наполню свои ведра.
-- Теперь беги! -- сказал он мне. И по тому, как неспешно он стал
наполнять свои ведра, я понял, что он решил быть последним.
Я припал к земле и, выжидая, стал наблюдать облачко пыли, поднятое
пулями. В обратный путь мы двинулись рядышком и бегом.
-- Не так быстро, -- предостерег я его, -- а то прольешь половину воды!
Это задело его, и он чувствительно замедлил шаг. На полпути я
споткнулся и стремглав полетел наземь. Пуля, ударившись прямо передо мной,
засыпала мне глаза песком. Минуту мне казалось, что меня подстрелили.
-- Нарочно сделал? -- насмешливо промолвил Джед, когда я поднялся на
ноги. Он все время стоял и ждал меня.
Я понял, в чем дело. Он вообразил, что я упал нарочно, чтобы пролить
воду и вернуться за новой! Это соперничество между нами приобретало
серьезный характер -- настолько серьезный, что я тотчас же подхватил его
мысль и побежал обратно к роднику. А Джед Донгэм, с полным презрением к
пулям, взрывавшим песок вокруг него, стоял на открытом месте и ждал меня.
Вернулись мы рядышком, с почетом даже, на наш, мальчишеский, взгляд. Но
когда мы отдали воду, оказалось, что Джед принес только одно ведро. Другое
его ведерко у самого дна оказалось пронизанным пулей.
Мать прочитала мне длинную лекцию о непослушании. После того, что я
сделал, отец не позволил бы бить меня, и она это знала; ибо в то время, как
она читала мне выговор, отец через плечо не переставал подмигивать. Это он в
первый раз подмигивал мне!
В яме меня и Джеда встретили как героев. Женщины плакали и целовали
нас, душили в объятиях. Должен сознаться, мне это было приятно, хотя я, как
и Джед, делал вид, что презираю все излияния. Иеремия Гопкинс, с большой
повязкой у кисти левой руки, объявил, что мы настоящее тесто, из которого
делаются белые люди -- люди вроде Даниэля Буна, Кита Карсона и Дэви Крокета.
Это мне польстило больше всего.
Остаток этого дня я, кажется, занят был главным образом болью в левом
глазу, вызванной песком, взметенным пулей. Мать сказала, что глаз у меня
затек кровью; и он действительно болел -- держал ли я его закрытым или
открытым. Я пробовал и так и этак.
В яме теперь стало спокойно, ибо все получили воду, хотя по-прежнему
оставалась неразрешимой задача -- как добыть новую. Кроме того, у нас почти
истощились боевые припасы. Тщательно обыскав все повозки, отец нашел лишь
пять фунтов пороху. Немного больше оставалось в пороховницах бойцов.
Я вспомнил о нападении накануне при заходе солнца и на этот раз
предупредил его и залез в окоп до заката. Я прикорнул рядом с Лабаном. Он
энергично жевал табак и не заметил меня. Некоторое время я наблюдал его с
опаской, боясь, что если он меня увидит, то отправит назад в яму. Он полез
для чего-то под колеса повозки, пожевал немного и потом осторожно сплюнул в
маленькую ямку, которую сделал себе в песке.
-- Как делишки? -- спросил я его наконец.
-- Отлично, -- сказал он. -- Совсем великолепно, Джесс, когда можно
пожевать табачку! Во рту у меня так пересохло, что я не мог жевать от
восхода до того, как ты принес воды.
Над холмом к северо-востоку, занятым белыми, показаласъ голова и плечи.
Лабан навел винтовку и целился добрую минуту. Но потом покачал головой.
-- Полтораста футов. Нет, не буду рисковать! Я могу попасть, но могу и
промахнуться, а твой па лют насчет пороху!
-- Как ты думаешь, каковы наши шансы? -- спросил я, как взрослый
мужчина; после своих подвигов водоноса я чувствовал себя настоящим мужчиной.
Лабан как будто тщательно обдумывал вопрос, прежде чем ответить мне.
-- Джесс, должен сказать тебе, что дело наше дрянь! Но мы выпутаемся.
Выпутаемся, можешь прозакладывать свой последний доллар!
-- Не все выпутаются, -- возразил я.
-- Кто, например? -- спросил он.
-- Да вот Билли Тайлер, миссис Грант, и Сайлес Донлеп, и другие.
-- О, вздор, Джесс, ведь они уж в земле! Разве ты не знаешь, что
каждому приходится хоронить своих покойников? Люди делают это уже много
тысяч лет, а число живых не уменьшается. Видишь ли, Джесс, рождение и смерть
идут рука об руку. Люди рождаются так же часто, как умирают, -- даже чаще,
потому что плодятся и множатся. Вот ты, например, мог быть убит нынче ночью,
когда ходил за водой. А ты здесь, не правда ли? Растабарываешь со мной и,
наверное, вырастешь и будешь отцом славного большого семейства в Калифорнии.
Говорят, в Калифорнии все растет быстро!
Этот жизнерадостный взгляд на дела настолько ободрил меня, что я
решился высказать мысль, давно тревожившую меня.
-- Скажи, Лабан, -- допустим, тебя здесь убьют...
-- Кого? Меня? -- воскликнул он.
-- Я говорю -- только предположим, -- объяснил я.
-- А, вот как! Продолжай! Предположим, меня убьют...
-- Отдашь ты мне свои скальпы?
-- Твоя ма надает тебе затрещин, если увидит их на тебе, -- отвечал он.
-- Я не буду носить их при ней. Так вот, если тебя убьют, Лабан,
кто-нибудь должен же получить эти скальпы?
-- Почему нет? Это верно; почему бы нет! Ладно, Джесс! Я люблю тебя и
твоего па. Как только меня убьют, скальпы твои, и скальпировальный нож тоже.
Вот Тимоти Грант будет свидетелем. Ты слыхал, Тимоти?
Тимоти подтвердил, что он слышал; и я лежал после этого безмолвно,
слишком подавленный величием моих перспектив, чтобы произнести хотя бы слово
признательности.
Предусмотрительность, побудившая меня переползти в окоп, была
вознаграждена. На закате последовала новая генеральная атака. и нас осыпали
тысячами выстрелов. Никто на нашей стороне не получил и царапины. С другой
стороны, хотя мы выпустили едва ли три десятка выстрелов, я видел, что Лабан
и Тимоти Грант уложили каждый по индейцу. Лабан сказал мне, что все время
стреляют только индейцы. Он был уверен, что ни один белый не выпустил пули.
И все это озадачивало его. Белые не подавали нам помощи и не нападали на нас
и все время ходили в гости к индейцам, нападавшим на нас.
Наутро нас опять стала мучить жажда. При первом луче рассвета я вылез
из ямы. Выпала сильная роса, и мужчины, женщины и дети слизывали ее языком с
влажных дышл, с тормозов и с ободьев колес.
Рассказывали, что Лабан вернулся с разведки, которую произвел перед
самым рассветом; что он дополз до самой позиции белых; что те уже встали и
что он видел, как они, образовав большой круг, молились при свете походных
костров. Судя по нескольким словам, которые ему удалось расслышать, они
молились за нас и о том, что делать с нами.
-- Да просветит же их Господь в таком случае! -- сказала одна из сестер
Демдайк Эбби Фоксвиллю.
-- И скорее бы! -- добавил Эбби Фоксвилль. -- Не знаю, что мы будем
делать целый день без воды, и порох у нас на исходе.
В течение утра ничего особенного не случилось. Не раздалось ни единого
выстрела. Только солнце безжалостно палило в неподвижном воздухе. Жажда наша
усилилась. Грудные младенцы подняли крик, малые дети пищали и хныкали. В
полдень Вилль Гамильтон взял два больших ведра и направился к источнику. Не
успел он пролезть под повозку, как Энни Демдайк выбежала, схватила его
руками и стала тащить назад. Но он уговорил ее, поцеловал и побежал. Не
раздалось ни одного выстрела, и не было стрельбы все время, пока он ходил за
водой.
-- Слава богу! -- воскликнула старая миссис Демдайк. -- Это хороший
знак: они смягчились.
Таково было мнение многих женщин.
Около двух часов дня, после того как мы поели и почувствовали себя
лучше, появился белый с белым флагом. Вилль Гамильтон вышел поговорить с
ним, вернулся посоветоваться с отцом и прочими мужчинами, и они опять пошли
к незнакомцу. Немного поодаль стоял и глядел на них человек, в котором мы
признали Ли.
Мы все пришли в возбуждение. Женщины настолько ободрились духом, что
плакали, целовали друг друга, а старая миссис Демдайк и другие возглашали
аллилуйю и славили Господа. Предложение, принятое нашими бойцами,
заключалось в том, чтобы мы отдались под покровительство белого флага и
получили защиту от индейцев.
-- Нам приходится согласиться на это, -- сказал отец матери.
Она сидела на дышле, сжав плечи и опустив голову.
-- А что, если они замышляют предательство? -- спросила мать.
Он пожал плечами.
-- Будем думать, что нет, -- отвечал он. -- У нас вышли боевые припасы.
Несколько наших мужчин отцепили одну из повозок и выкатили ее. Я
побежал смотреть, что делается. Пришел сам Ли в сопровождении двух мужчин,
которые тащили две пустые повозки. Все столпились вокруг Ли. Он сказал, что
ему все время было очень трудно удерживать индейцев от нападения на нас и
что майор Гайби с пятьюдесятью воинами мормонской милиции готов взять нас
под свою охрану. Но отцу, Лабану и некоторым другим мужчинам показалось
подозрительным требование Ли, чтобы мы сложили все наши винтовки в одну из
повозок, дабы не возбуждать вражды индейцев. Сделав это, мы, мол, будем
казаться пленниками мормонской милиции.
Отец выпрямился и уже готов был отказаться, когда увидел Лабана,
сказавшего вполголоса:
-- В наших руках они принесут не больше пользы, чем в повозке: ведь у
нас вышел порох.
Двое из наших раненых мужчин, которые не могли идти пешком, были
посажены в повозку, и с ними все маленькие дети. Ли разделил их на две
группы -- старше восьми и моложе восьми лет. Мы с Джедом были большого роста
по нашему возрасту, и кроме того, нам было по девять лет; поэтому Ли
поместил нас в старшую группу и объявил, что мы должны идти вместе с
женщинами пешком. Когда мы взяли нашего малютку от матери и отдали в
повозку, мать начала возражать. Потом она плотно сжала губы и согласилась.
Это была сероглазая, с энергичными чертами пожилая женщина, довольно полная,
но долгие скитания и лишения сказались на ней, так что теперь это было тощее
создание со впалыми щеками и с выражением угрюмой тревоги, не сходившим с ее
лица, как и у прочих женщин.
Когда Ли стал указывать порядок похода, Лабан подошел ко мне. Ли
объявил, что женщины и дети, идущие пешком, должны занимать в линии первое
место и идти за второй повозкой. За женщинами должны следовать мужчины
гуськом. Услышав это, Лабан подошел ко мне, отвязал скальпы от своего пояса
и привязал к моему.
-- Но ведь ты еще не убит? -- протестовал я.
-- Готов побиться об заклад, что нет, -- беззаботно отвечал он. -- Я
только исправился -- вот и все. Ношение скальпов -- суета и язычество... --
И он на минуту умолк, словно вспомнил что-то, потом, круто повернувшись на
каблуках, чтобы догнать мужчин нашего отряда, крикнул через плечо: -- Ну,
пока прощай, Джесс!
Я ломал себе голову, почему он сказал "прощай", когда в корраль въехал
верхом белый. Он объявил, что майор Гайби послал его поторопить нас, потому
что индейцы могут напасть с минуты на минуту.
И вот процессия двинулась, впереди две повозки. Ли шел рядом с
женщинами и детьми. За нами, дав нам уйти вперед на несколько сот футов, шли
наши мужчины. Выйдя из корраля, мы заметили на небольшом расстоянии милицию.
Милиционеры опирались на свои винтовки и стояли длинной шеренгой с
промежутками футов в шесть. Проходя мимо них, я невольно обратил внимание на
торжественное выражение их лиц. Вид у них был как на похоронах. Это заметили
и женщины; и некоторые из них начали плакать.
Я шел сейчас же за своей матерью. Я выбрал эту позицию для того, чтобы
она не видела моих скальпов. За мной выступали три сестры Демдайк, причем
две из них помогали старой матери. Я слышал, как Ли все время кричал людям,
сидевшим на козлах повозок, чтобы они не торопились. Человек, в котором одна
из девушек Демдайк предположила майора Гайби, сидел верхом на коне и смотрел
на нас. Ни одного индейца не видно было поблизости.
Когда наши мужчины поравнялись с милицией -- я обернулся поглядеть,
куда девался Джед. Роковое случилось. Майор Гайби громко крикнул:
"Исполняйте ваш долг!" Все винтовки милиции сразу разрядились, и наши
мужчины попадали наземь. Второй залп... Все женщины семьи Демдайк упали
одновременно. Я быстро повернулся посмотреть, что с матерью, -- и она упала.
Сбоку из кустов высыпали сотни индейцев и начали стрелять. Я видел, как две
сестры Донлеп побежали по песку, и кинулся вслед за ними, а белые и индейцы
со всех сторон убивали нас. На бегу я заметил, что возница одной из повозок
застрелил обоих раненых мужчин. Лошади другой повозки бились и пятились, и
возница старался сдержать их.
Когда маленький мальчик, которым был я, побежал за девушками Донлеп,
тьма спустилась на него. Здесь прекращаются все мои воспоминания, ибо Джесс
Фэнчер перестал существовать навсегда. Форма, облекавшая Джесса Фэнчера,
тело, принадлежавшее ему, как материя, как видение, исчезли и прекратились.
Но нетленный дух не прекратился. Он продолжал существовать и в своем новом
воплощении сделался душой бренного тела, известного под именем Дэрреля
Стэндинга, которого в скором времени выведут и повесят, отправят в небытие,
где исчезают все видения.
Здесь, в Фольсоме, есть вечник Мэтью Дэвис. Он состоит доверенным при
эшафоте и камере пыток. Он старик, и его предки скитались по равнине в давно
прошедшие времена. Я имел случай говорить с ним, и он подтвердил, что было
побоище, в котором был убит Джесс Фэнчер. Когда этот арестант был ребенком,
в его семье очень много говорили о резне на Горных Лугах. Дети, находившиеся
в повозке, рассказывал он, спаслись, потому что были слишком малы и не могли
донести.
Все это я предлагаю вашему вниманию. В своей жизни Дэрреля Стэндинга я
никогда не читал ни строчки и не слыхал ни слова об отряде Фэнчера, погибшем
на Горных Лугах. Между тем в смирительной рубашке тюрьмы СанКвэнтина я все
это узнал. Я не мог создать этого из ничего, как не мог создать из ничего
динамита. Знание этих фактов можно объяснить только одним. Они взяты из
духовного содержания моего "я" -- из духа, который, в отличие от материи, не
погибает.
Заканчивая эту главу, я должен добавить, что Мэтью Дэвис рассказывал
мне также, что через несколько лет после побоища чиновники правительства
Соединенных Штатов отвезли Ли на Горные Луга и здесь казнили на месте нашего
корраля.
Когда по истечении первых десяти дней пребывания в смирительной рубашке
доктор Джексон привел меня в чувство, надавив большим пальцем руки мое веко,
я раскрыл оба глаза и усмехнулся прямо в физиономию смотрителю Этертону.
-- Слишком гнусен для жизни и слишком подл, чтобы умереть! -- изрек он.
-- Десять дней прошли, смотритель, -- прошептал я.
-- Что ж, мы развяжем тебя, -- прорычал он.
-- Не в этом дело, -- продолжал я. -- Вы видели мою улыбку? Вы помните,
мы с вами побились о небольшой заклад? Не спешите развязывать меня. Дайте
только немного табаку и папиросной бумаги Моррелю и Оппенгеймеру. А вот вам
и новая улыбка от полноты моей души!
-- О, я знаю, какой ты породы, Стэндинг! -- отвечал смотритель. -- Но
это тебе не поможет. Если я не побью тебя, так ты побьешь... все рекорды
лежания в пеленках!
-- Он уже побил их, -- вставил доктор Джексон. -- Слыханное ли дело,
чтобы человек улыбался после десяти суток смирительной куртки?
-- Ну ладно, будет! -- решил смотритель Этертон. -- Развяжи его,
Гетчинс.
-- К чему такая спешка? -- спросил я, разумеется, шепотом; так мало
жизни осталось во мне, что даже для этого шепота мне пришлось собрать все
свои слабые силы. -- Зачем торопиться? Я не спешу к поезду, и мне так
чертовски удобно, что я предпочитаю, чтобы меня не тревожили.
Но они все-таки развязали меня, выкатили из вонючей куртки и оставили
на полу инертной, беспомощной массой.
-- Не удивительно, что ему удобно! -- воскликнул капитан Джэми. -- Он
ничего не чувствовал. Ведь у него паралич!
-- Паралич твоей бабушке! -- зарычал смотритель. -- Поставь его на ноги
-- и увидишь, он будет стоять!
Гетчинс и доктор вздыбили меня.
-- Теперь отпустите! -- скомандовал смотритель.
В тело, умиравшее на десять суток, жизнь не могла вернуться сразу; у
меня подкосились колени, я зашатался и треснулся с размаху лбом о стену.
-- Видите! -- произнес капитан Джэми.
-- Актерство! -- возразил смотритель. -- От такого субъекта можно ждать
какой угодно выходки!
-- Вы правы, смотритель, -- прошептал я с пола. -- Я это сделал
нарочно. Это было "актерское" падение. Поднимите меня, и я повторю. Обещаю
вам великую потеху!
Не стану описывать мучений, причиняемых возобновленным кровообращением
после куртки. Мне это стало в привычку; но борозды, проведенные на моем лице
этими муками, я унесу с собой на эшафот.
Меня наконец оставили в покое, и я пролежал остальную часть дня в
полустолбняке. Есть такая вещь как анестезия, вызванная болью, слишком
чудовищною, чтобы ее можно было сносить. Мне суждено было познать такую
анестезию!
К вечеру я мог уже ползать по своей камере, но еще не в силах был
встать на ноги. Я выпил много воды; но только на следующий день я мог
заставить себя поесть, и то исключительным напряжением воли.
Программа, начертанная для меня смотрителем Этертоном, заключалась в
том, что мне дадут отдохнуть и восстановить силы в течение нескольких дней,
а затем, если я не признаюсь, где спрятан динамит, опять зашнуруют на десять
суток в "пеленки".
-- Мне жаль, что я причиняю вам столько беспокойства, смотритель, --
ответил я ему. -- Жаль, что я не умер в куртке и тем самым не избавил вас от
хлопот.
Не думаю, чтобы в ту пору я весил хоть унцией больше девяноста фунтов.
Между тем за два года до этого, когда ворота Сан-Квэнтина впервые
захлопнулись за мною, я весил сто шестьдесят пять фунтов. Казалось
невероятным, чтобы я мог потерять еще одну унцию весу -- и остаться в живых!
А между тем в последовавшие месяцы я терял в весе унцию за унцией, так что
вес мой стал ближе к восьмидесяти фунтам, чем к девяноста. Я знаю, что когда
мне впоследствии удалось вырваться из одиночки и трахнуть по носу сторожа
Серстона, я весил восемьдесят фунтов; это было перед тем, как меня отвели в
СанРафаэль на суд, предварительно почистив и выбрив.
Некоторые удивляются, как люди могут ожесточаться душою. Смотритель
Этертон был жестокий человек. Он ожесточал меня, а мое ожесточение
действовало на него и ожесточало его еще больше. И все же ему не удалось
умертвить меня. Понадобились законы штата Калифорнии, судья-вешатель и
беспощадный губернатор, чтобы послать меня на виселицу за то, что я ударил
кулаком тюремного сторожа. Я не перестану утверждать, что у этого сторожа
просто невероятно кровоточащий нос. Я в ту пору был полуслепой, шатающийся
скелет. Иногда я даже сомневаюсь, действительно ли у него потекла кровь из
носу. Он-то, разумеется, клялся в этом у судейского стола. Но я знаю, что
тюремные сторожа способны на гораздо более серьезные лжесвидетельства.
Эду Моррелю не терпелось узнать, удался ли мне опыт; но когда он
попытался заговорить со мной, его остановил Смит -- сторож, случайно
оказавшийся на дежурстве при одиночках.
-- Все в порядке, Эд, -- простучал я ему. -- Вы с Джеком не шевелитесь,
я вам все расскажу. Смит не может помешать вам слушать, а мне говорить. Они
сделали худшее, на что только были способны, а я все еще жив!
-- Замолчи, Стэндинг, -- проревел мне Смит из коридора, в который
выходили все камеры.
Смит был необычайно мрачный субъект, едва ли не самый жестокий и
мстительный из всех наших сторожей. Мы часто занимались тем, что строили
догадки: жена ли его пилит, или он страдает хроническим несварением желудка?
Я продолжал выстукивать костяшками пальцев, и он наклонился к окошечку
-- посмотреть, что я делаю.
-- Я сказал тебе, чтобы ты прекратил эту музыку! -- зарычал он.
-- Мне очень жаль, -- ласково ответил я. -- Но у меня род предчувствия,
что я именно должен продолжать стук. И... кхе... прости мне вопрос личного
характера: что ты намерен предпринять в отношении меня?
-- Я... -- запальчиво начал он, но так и не докончил фразы, не зная,
что сказать.
-- Ну? -- поощрял я его. -- Что именно, скажи!
-- Я позову сюда смотрителя, -- нерешительно проговорил он.
-- Позови, сделай милость. Обворожительнейший джентльмен, что и
говорить! Блестящий пример облагораживающего влияния наших тюрем! Приведи же
его скорей. Я хочу донести ему на тебя.
-- На меня?
-- Да, именно на тебя, -- продолжал я. -- Ты самым грубым образом, по
своему мужицкому невежеству, мешаешь мне беседовать с другими гостями этого
странноприимного дома.
И смотритель Этертон явился. Двери отперли, и он ураганом влетел в мою
камеру. Но я ведь был в безопасности! Худшее он уже сделал. Я был вне его
власти,
-- Я прекращу тебе паек! -- пригрозил он.
-- Сколько угодно, -- отвечал я. -- Я привык к этому. Я не ел вот уже
десять дней, и знаете, опять начинать есть -- очень нудное дело!
-- Ого, уже ты начинаешь грозить мне, а? Голодовка, а?
-- Извините, -- с угрюмой вежливостью проговорил я. -- Предположение
сделано вами, а не мною. Попробуйте, будьте хоть раз последовательны!
Надеюсь, вы поверите, если я скажу вам, что мне труднее сносить вашу
непоследовательность, чем все ваши пытки.
-- Ты перестанешь перестукиваться? -- спросил он.
-- Нет, простите, что огорчаю вас, но у меня так велика потребность
перестукиваться, что...
-- Я сейчас же опять затяну тебя в куртку! -- оборвал он меня.
-- Сделайте одолжение! Я влюблен в куртку! Я жирею в куртке! Посмотрите
на эту руку! -- я засучил рукав и показал ему мышцу такую исхудавшую, что
когда я напряг мускул, получилось что-то вроде шнурка. -- Бицепс дюжего
кузнеца, не правда ли, смотритель? Посмотрите на мою могучую грудь! А мой
живот -- да ведь я так растолстел, что вас привлекут к суду за
перекармливание арестантов! Будьте начеку, смотритель, не то
налогоплательщики возьмутся за вас!
-- Ты перестанешь перестукиваться? -- заревел он.
-- Нет, благодарю за ваше милое участие! По зрелом размышлении я решил,
что буду продолжать перестукиваться!
С минуту он смотрел на меня, не находя слов, и, сознав свое полное
бессилие, повернулся, чтобы уйти.
-- Один вопрос!
-- Какой? -- бросил он через плечо.
-- Что вы предполагаете сделать теперь?
На него напал такой припадок бешенства, что я до сих пор дивлюсь: как
он не скончался от апоплексии?
После того, как смотритель ушел с позором, я час за часом выстукивал
повесть своих приключений. Но Моррель и Оппенгеймер получили возможность
ответить мне только вечером, когда на дежурство пришел Пестролицый Джонс, по
обычаю своему тотчас же задремавший.
-- Сны! -- простучал Оппенгеймер свое мнение.
"Да, -- подумал я, -- наши переживания действительно составляют
материал наших снов".
-- В бытность ночным посыльным я однажды напился, -- продолжал
Оппенгеймер. -- И должен сказать; тебе не угнаться за мной по части снов! Я
полагаю, так и поступают все романисты -- они напиваются, чтобы подстегнуть
свое воображение.
Но Эд Моррель, странствовавший по тем же дорогам, что и я, хотя и с
иными результатами, поверил мне. Он сказал мне, что когда его тело умирало в
куртке и он вырывался из тюрьмы, то всегда оставался тем же Эдом Моррелем.
Он никогда не переживал п р е ж н и х своих существований. Когда его дух
странствовал на воле, он всегда делал это в н а с т о я щ е м. Он нам
рассказал, что, как только он оказывался в состоянии покинуть свое тело и
увидеть его "со стороны", лежащим в смирительной рубашке на полу камеры, он
мог покидать тюрьму, отправляться в нынешний Сан-Франциско и видеть, что там
делается. Таким родом он дважды навестил свою мать и оба раза заставал ее
спящей. В этих духовных скитаниях, говорил Эд, он не имел власти над
материальными предметами. Он не мог, например, отворить или затворить дверь,
сдвинуть какой-нибудь предмет, произвести шум или чем-нибудь проявить свое
присутствие. С другой стороны, материальные вещи не имели власти над ним.
Стены и двери не служили для него препятствием. Реальной, действительной его
сущностью был, как он думает, дух.
-- В бакалейной лавке на углу, около дома матери, переменились хозяева,
-- рассказывал он нам. -- Я это узнал по новой вывеске. После этого мне
пришлось ждать шесть месяцев, пока я мог написать свое первое письмо; но
первым делом я спросил мать об этой лавке. И она ответила: да, хозяева
другие!..
-- Ты читал эту вывеску? -- спросил Джек Оппенгеймер.
-- Разумеется, читал, -- отвечал Моррель, -- иначе как бы я узнал
это?..
-- Отлично, -- продолжил неверующий Оппенгеймер. -- Ты легко можешь
доказать нам! Когда-нибудь, когда нам пришлют приличного сторожа, который
даст нам посмотреть газету, ты устрой так, чтобы тебя запеленали в куртку,
вылезь из своего тела и катай в старый Фриско! Проберись на угол Третьей и
Базарной улиц часа в два-три ночи, когда выпускают утренние газеты из
машины. Прочти последние новости. Потом улепетывай обратно в Сан-Квэнтин,
вернись раньше, чем пароходик с газетами переплывет залив, и расскажи мне,
что ты прочел. Утром мы попросим у сторожа газету. И если в газете окажется
то, что ты мне здесь расскажешь, -- ну, тогда я готов тебе поверить!
Это была дельная проверка. Я не мог не согласиться с Оппенгеймером, что
такое доказательство будет абсолютно убедительным. Моррель ответил, что он
готов все это проделать, но он так не любит процедуры оставления своего
тела, что сделает это, лишь когда мучения в куртке станут слишком
невыносимы.
-- Так они все увиливают, когда дело идет начистоту! -- саркастически
заметил Оппенгеймер. -- Моя мать верила в духов. Когда я был малым ребенком,
она постоянно видела их, беседовала с ними, получала от них советы. Но
настоящего толку она никогда не могла от них добиться. Духи не могли сказать
ей, где бы старику разжиться работишкой, или как найти золотую россыпь, или
угадать выигрышный номер в китайской лотерее. Ни за какие коврижки. А
говорили они ей про то, что у старикова дяди был, мол, зоб, что дедушка его
скончался от скоротечной чахотки или что мы переберемся на другую квартиру
этак через четыре месяца -- предсказать это было чертовски легко, потому что
мы меняли квартиру по меньшей мере шесть раз в год!
Я думаю, что, если бы Оппенгеймеру дать правильное образование, из него
вышел бы второй Маринетти или Геккель. Он крепко держался за неопровержимые
факты, и логика его была несокрушима, хотя и несколько холодна. "Ты п о к а
ж и мне" -- такова была основная точка зрения, с которой он рассматривал
вещи. Веры у него не было ни на грош. На это и указывал Моррель. Неверие и
мешало Оппенгеймеру добиться успеха с "малой" смертью в "пеленках".
Как видите, читатель, не все было безнадежно плохо в одиночном
заключении! При наличии таких трех умов, как наши, было чем занять время.
Возможно, что мы спасли таким образом друг друга от сумасшествия, хотя нужно
заметить, что Оппенгеймер гнил в одиночке пять лет совершенно один, пока к
нему присоединился Моррель, и все же сохранил здравый рассудок.
С другой стороны, не впадайте в противоположную ошибку -- не
вообразите, будто наша жизнь в одиночке была необузданной оргией блаженных и
радостных психологических изысканий...
Мы терпели разнообразные, частые и страшные муки. Наши сторожа -- ваши
палачи, гражданин, -- были настоящие звери. Еду нам подавали гнилую,
однообразную, непитательную. Только люди с большой силой воли могли жить на
таком скудном пайке! Я знаю, что наши премированные коровы, свиньи и овцы на
показательной университетской ферме в Дэвисе зачахли бы и издохли, получай
они такой, плохо в научном смысле рассчитанный, паек, как мы.
Книг нам не давали. Даже наши беседы посредством перестукивания были
нарушением правил. Внешний мир, по крайней мере для нас, не существовал. Это
скорее был мир привидений. Оппенгеймер, например, ни разу в жизни не видел
автомобиля или мотоцикла. Новости лишь случайно просачивались к нам -- в
виде туманных, страшно устарелых, ненастоящих каких-то вестей. Оппенгеймер
рассказывал мне, что о русско-японской войне он узнал лишь через два года
после того, как она окончилась!
Мы были погребенными заживо, живыми трупами! Одиночка была нашей
могилой, в которой, при случае мы переговаривались стуками, как духи,
выстукивающие на спиритических сеансах.
Новости? Вот какие пустяки составляли наши новости: сменили пекарей --
это было видно по изменившемуся качеству хлеба. Почему Пестролицый Джонс
отсутствовал неделю? Болел или получил отпуск? Почему Вильсона,
продежурившего всего десять ночей, перевели в другое место? Откуда взялся у
Смита синяк под глазом? Над пустяками вроде этого мы способны были ломать
себе голову целыми неделями!..
Заключение каторжника в одиночку на месяц было уже крупным событием. Но
от таких мимолетных и чаще всего глупых Данте, слишком мало гостивших в
нашем аду, чтобы научиться перестукиванию, мы ничего не могли узнать за
короткий срок, по истечении которого они опять уходили на вольный белый
свет.
Впрочем, не все было однообразно-пошло в нашей юдоли теней. Я,
например, научил Оппенгеймера играть в шахматы. Подумайте, какой это
колоссальный подвиг -- научить человека, отдаленного от вас тринадцатью
камерами, при помощи перестукиваний костяшками пальцев, учить его видеть
мысленно перед собой шахматную доску, воссоздавать зрительный образ всех
пешек, фигур и позиций, заучивать разные приемы движения фигур; и довести
эту выучку до такого совершенства, что в конце концов мы с ним могли в уме
разыгрывать целые партии в шахматы. В к о н ц е к о н ц о в, сказал я. Вот
лишний пример даровитости Оппенгеймера: в конце концов он стал меня
обыгрывать -- это человек-то, ни разу в жизни не видевший глазами шахмат!
Какой зрительный образ мог, например, возникать в его уме, когда я
выстукивал ему слово "слон"? Я многократно и тщетно задавал ему этот вопрос.
Так же тщетно пытался он описать словами мысленный образ чего-то, чего он
никогда не видел, но чем он все же умел оперировать так мастерски, что
бесчисленное число раз ставил меня в тупик во время игры.
Я могу только констатировать подобные проявления ума и воли и
заключить, как я не раз заключал, что в них-то и таится реальное. Только дух
реален. Плоть -- фантасмагория, видение. Я спрашиваю вас: каким образом
материя, или плоть, в какой бы то ни было форме может играть в шахматы на
воображаемой доске воображаемыми фигурами, через пространство в тринадцать
тюремных ка мер, заполняемое только стуками?
Некогда я был Адамом Стрэнгом, англичанином. Период этой моей жизни,
насколько я могу сообразить, приходится на промежуток 1550-1650 годов, и я,
как вы увидите, дожил до почтенной старости. С той поры как Эд Моррель
научил меня искусству умирать "малой" смертью, я всегда сильно жалел, что
так плохо знаю историю. Иначе я в состоянии был бы определить точнее многое,
что остается для меня темным. Теперь мне приходится ощупью разбираться во
временах и местах моих прежних существований.
Особенность моего существования в образе Адама Стрэнга составляет то,
что я мало что помню о первых тридцати годах моей жизни. Много раз во время
моего лежания в смирительной рубашке воскресал Адам Стрэнг, но всегда
рослым, мускулистым тридцатилетним мужчиной.
Я, Адам Стрэнг, неизменно начинаю себя сознавать на группе низких
песчаных островов где-то под экватором -- должно быть, в западной части
Тихого океана. Здесь я всегда чувствую себя как дома -- вероятно, жил там
довольно долгое время. На этих островах живут тысячи людей, хотя я среди них
единственный белый. Туземцы здесь превосходной человеческой породы,
мускулистые, широкоплечие, рослые. Шестифутовый человек среди них --
обыкновенное явление. Их царь Раа Кук на добрых шесть дюймов превышает шесть
футов, и, хотя весит он не менее трехсот фунтов, он так пропорционально
сложен, что его нельзя назвать тучным. Многие из его вождей столь же
крупного роста, а женщины немногим меньше мужчин.
В этой группе множество островов, и над всеми царит Раа Кук, хотя
группа островов на юге иногда поднимает восстания. Туземцы, с которыми я
живу, -- полинезийцы, и это я знаю, потому что у них прямые и длинные
волосы. Кожа у них золотисто-коричневая. Язык, на котором я говорю с
необычайной легкостью, музыкален и плавен, в нем мало согласных и много
гласных. Они любят цветы, музыку, пляски и игры и детски бесхитростны и
веселы в своих забавах, хотя страшно жестоки в гневе и войнах. Я, Адам
Стрэнг, знаю свое прошлое, но как будто мало думаю о нем. Я живу в
настоящем. Я не задумываюсь ни над прошлым, ни над будущим. Я беспечен,
непредусмотрителен, неосторожен, счастлив от жизнерадостности и избытка
физической энергии. Рыбы, плоды овощи и морские водоросли -- набил себе
желудок, и доволен! Я занимаю высокое место среди приближенных Раа Кука, и
выше меня нет никого, не выше меня даже Абба Таак, который стоит над всеми
жрецами. Никто не смеет поднять на меня руку или оружие. Я -- т а б у,
неприкосновенен, как неприкосновенен лодочный сарай, под полом которого
покоятся кости одному небу известно скольких прежних царей славного рода Раа
Кука.
Я знаю все подробности о том, как я потерпел крушение и остался один
среди экипажа моего судна, -- был сильный ветер, и оно затонуло; но я не
раздумываю над этой катастрофой. Когда я оглядываюсь назад, то чаще всего
думаю о своем детстве, о ребенке, который держался за юбки моей хорошенькой
матери, англичанки с молочнобелой кожей и белыми, как лен, волосами. Я жил
тогда в крохотной деревушке из десятка коттеджей, крытых соломой. Как сейчас
слышу скворцов и дроздов в кустах, вижу колокольчики, рассыпанные среди
дубового леса по мягкой траве, как пена лазурной воды. Но ярче всего мне
вспоминается большой, с мохнатыми бабками, жеребец, пляшущий и играющий,
которого часто проводили по узкой деревенской улице. Я пугался огромного
животного и всегда с криком бросался к матери, хватался за ее юбки и прятал
в них лицо.
Но довольно об этом. Я намерен писать вовсе не о детстве Адама Стрэнга.
Несколько лет я жил на этих островах, имени которых не знаю и на
которых, я уверен, я был первым белым человеком. Я был женат на Леи-Леи,
сестре царя, которая была чуть-чуть повыше шести футов и несколько выше
меня. Я был великолепным образцом мужчины -- широкоплечий, с высокой грудью,
хорошо сложенный. Женщины всех рас, как вы увидите, благосклонно поглядывали
на меня. Кожа на руках выше локтей и на всех закрытых от солнца местах была
у меня молочно-белая, как у моей матери. Глаза голубые. Мои усы, борода и
волосы имели золотисто-желтый цвет, какой иногда приходится видеть на
портретах северных викингов. Да, наверное, я происходил из какого-нибудь
старинного рода викингов, давно осевшего в Англии, и хотя я родился в
деревне, морская соль так густо была примешана к моей крови, что я очень
рано поступил на корабль квартирмейстером, то есть, в сущности, простым
матросом. Это не офицер и не "барин", но именно матрос, много работающий,
обветренный, выносливый.
Я был полезен Раа Куку, чем и объясняется его царское покровительство.
Я умел работать с железом, а наш разбитый корабль принес первое железо в
страну Раа Кука. Время от времени мы отправлялись на пирогах миль за
тридцать к северо-западу брать железо с обломков корабля. Кузов его
оторвался от рифа и лежал на глубине девяноста футов, и с этой глубины мы
доставали железо. Туземцы были изумительными пловцами и водолазами. Я тоже
научился спускаться на глубину девяноста футов, но никогда не мог сравняться
с ними в этом искусстве! На суше, благодаря моему английскому воспитанию и
силе я мог бросить наземь любого из них. Я научил их матросской "игре с
шестом", и она приобрела такую популярность, что проломанные головы
сделались у нас бытовым явлением.
С корабля однажды притащили дневник, до того изорванный и попорченный
морской водой, с расплывшимися чернилами, что едва можно было разобрать
текст. Однако в надежде, что какому-нибудь ученому-историку удастся точно
определить время описываемых мной событий, я здесь приведу выдержку из этого
дневника.
"Ветер был попутный и дал нам возможность осмотреть и высушить часть
нашей провизии, в особенности несколько китайских окороков и сухую рыбу,
составлявшую часть нашего продовольствия. На палубе совершили богослужение.
После полудня ветер задул с юга свежими и сухими порывами, так что на другое
утро мы получили возможность вычистить межпалубное пространство, а так же
окурить корабль порохом".
Но мой рассказ касается не Адама Стрэнга, потерпевшего крушение матроса
на коралловом острове, а Адама Стрэнга, впоследствии именуемого Йи-Йонг-Ик,
Могучим, который некоторое время был фаворитом могущественного Юн-Сана и
любовником и супругом девы Ом из царской семьи Мин, а затем долгое время
нищим и парием, шатавшимся по деревням всего побережья и по дорогам Чо-Сена.
(Ах, я и забыл вам сказать -- Чо-Сен -- значит "Страна Утреннего
Спокойствия". В наше время ее называют Кореей.)
Вспомните, что я жил три или четыре века тому назад и был первым белым
человеком на коралловых островах Раа Кука. В этих водах в ту пору суда
появлялись редко. Я легко мог бы окончить свои дни в мире и довольстве под
солнцем страны, не знающей морозов, если бы не "Спарвер". "Спарвер" был
голландский купеческий корабль, дерзнувший пуститься в неисследованные моря
в поисках Индии и попавший далеко за Индию. Вместо Индии он нашел меня -- и
это были все его открытия.
Не говорил ли я, что я был веселым, с золотыми волосами гигантом, на
всю жизнь оставшимся беспечным юношей? Когда "Спарвер" наполнил свои бочки
водою, я без малейших угрызений совести покинул Раа Кука и его прелестный
край, покинул Леи-Леи и ее сестер в венках и, с улыбкой на губах, вдыхая
знакомые корабельные запахи, отплыл опять простым матросом под командой
капитана Иоганнеса Маартенса.
Это было изумительное путешествие на старом "Спарвере"! Мы искали новые
страны, где есть шелка и пряности. А в действительности нашли лихорадки,
скоропостижные смерти, зараженные чумой края, где смерть прихотливо
смешивалась с красотой. Этот старый Иоганнес Маартенс, без капли романтики
на своем тупом лице и в седой квадратной голове, искал Соломоновы острова и
алмазные копи Голконды -- он искал даже старую забытую Атлантиду, которая,
по его мнению, еще плавала над водой. А нашел охотников за головами и
людоедов, живущих на деревьях!
Мы пристали к странным островам, берега которых были изрезаны волнами,
на которых поднимались горы с дымящимися вершинами; маленькие, не то звери,
не то люди, с колтуном на голове вместо волос, завывали в лесных дебрях; они
перегородили свои лесные тропинки колючками и ямами с острыми кольями на дне
и в сумерки пускали в нас отравленные стрелы. Стоило такой стреле ужалить
кого-нибудь из нас -- и он кончался в страшных муках, с дикими воплями.
Потом мы натолкнулись на других людей, более крупных и еще более свирепых;
они встретили нас открытым боем на взморье, засыпали нас дождем стрел и
дротиков под грохот барабанов из выдолбленного древесного ствола и
там-тамов. На всех холмах столбом поднимались сигнальные дымки.
Гендрик Гамель был судовым приказчиком и владельцем небольшой части
"Спарвера", остальное же все принадлежало капитану Иоганнесу Маартенсу.
Последний говорил немножко по-английски, Гендрик Гамель чуть побольше его.
Матросы, с которыми я жил, говорили только поголландски. Но поверьте --
матрос может выучиться поголландски и даже по-корейски, как вы увидите.
Наконец мы прибыли в Японию, которая в то время уже была нанесена на
карту. Но этот народ не хотел иметь с нами дела. Японские чиновники,
вооруженные двумя мечами, в широких шелковых платьях, от которых у капитана
Иоганнеса Маартенса потекли слюнки, взошли к нам на корабль и вежливо
предложили убираться прочь. Под их вкрадчивыми манерами чувствовалась
железная воля воинственного народа -- мы поняли это и поплыли своим
путем-дорогой.
Мы переплыли Японский залив и входили уже в Желтое море на пути в
Китай, как вдруг "Спарвер" наскочил на подводные скалы. "Спарвер" был старой
калошей, неуклюжей и грязной, киль его до такой степени зарос ракушками, что
нам не удалось снять судно с места. Оно только покачивалось на воде, как
репа, выброшенная поваром, но не снималось с места. Галиоты по сравнению с
этой скорлупой были настоящими клипперами. Нечего было и думать сняться с
камней. А тут еще налетел ветер, сильный как ураган, и трепал нас нещадно
сорок восемь часов подряд.
Он сорвал наше судно и погнал его к суше, в холодном рассвете бурного
дня, по безжалостному морю, по которому ходили волны, как горы. Было самое
холодное время зимы, и сквозь снежную метель мы могли разглядеть
негостеприимный берег -- если только это можно было назвать берегом, так все
было размыто. Повсюду виднелись бесчисленные снеговые вершины; повсюду
торчали утесы, слишком крутые, чтобы задержать на себе снег, острые мысы,
зубцы и обломки камней, торчащие из кипящего моря.
Названия этой страны, к которой нас несли волны, мы не знали, ибо ее
никогда не посещали европейские мореплаватели. Эта береговая линия была чуть
намечена на нашей карте. Приходилось заключить, что жители ее так же
негостеприимны, как и та часть страны, которую мы могли окинуть глазом.
"Спарвер" несло носом на утес. Здесь было довольно глубоко, и наш
бушприт сломался от удара и отлетел прочь. Фок-мачта, разрывая снасти,
рухнула вперед, на скалу.
Я искренне восхищался старым Иоганнесом Маартенсом. Огромная волна
смыла нас прочь с высокой кормы, и мы застряли посередине судна, откуда с
усилием стали пробираться на бак. Прочие следовали за нами. Мы крепко
привязали себя и пересчитали, сколько осталось всего людей. Нас было
восемнадцать человек. Остальные погибли.
Иоганнес Маартенс, дотронувшись до меня, указал вперед, на скалу, с
которой водопадом лилась вода. Я понял, на что он указывает. В двадцати
футах наша фокмачта уперлась в выступ скалы. Над выступом виднелась
расщелина. Он спрашивал меня, хватит ли у меня мужества прыгнуть с вершины
мачты в расщелину! Расстояние иногда сокращалось до шести футов, иногда же
доходило до двадцати, ибо мачта шаталась, как пьяная, от бешеных
раскачиваний кузова судна.
Я начал взбираться на мачту. Но товарищи не стали ждать. Один за другим
они отвязали себя и последовали за мной на опасную мачту. И нужно было
торопиться, потому что в любой момент "Спарвер" мог соскользнуть в глубокую
воду. Я рассчитал свой прыжок и сделал его, упав в расщелину и
приготовившись подать руку помощи тем, кто прыгал за мной. Это была очень
трудная работа. Мы промокли и наполовину замерзли на ветру. Кроме того,
прыжки нужно было соразмерить с покачиваниями кузова и мачты.
Первым погиб повар. Его сорвало с верхушки мачты, и он несколько раз
перекувырнулся в воздухе при падении. Волна подхватила его и превратила в
кашу ударами о камни. Кают-юнга, бородатый молодой человек лет двадцати с
чем-то, не удержался, соскользнул вдоль мачты и был притиснут к подножию
скалы. Притиснут? В одно мгновение из него выдавило жизнь! Двое других
последовали за поваром. Капитан Иоганнес Маартенс соскочил последним, и в
расщелине оказалось четырнадцать человек. Через час "Спарвер" сполз со скалы
и потонул в глубокой воде.
Два дня и две ночи мы погибали на этой скале, потому что не было
возможности ни спуститься, ни подняться по ней. На третье утро нас нашла
рыбачья лодка. Люди, сидевшие в ней, были одеты в грязные белые одеяния, и
длинные волосы их были завязаны на макушке оригинальным узлом -- "брачным
узлом", как я впоследствии узнал; впоследствии же я узнал, что за такой узел
очень удобно хвататься одной рукой, в то время как другой рукой вы колотите
туземца за неимением более удовлетворительных доводов.
Лодка направилась обратно в деревню за помощью, и понадобился почти
целый день и усилия почти всех сельчан и их снасти, чтобы вызволить нас. Это
были бедные, жалкие люди, и пищу их трудно было переносить даже желудку ко
всему привыкшего моряка.
Рис у них был бурый, как шоколад, наполовину с мякиной, в нем
попадалась солома и не поддающаяся определению грязь, которая часто
заставляла нас останавливаться в процессе жевания, залезать в рот большим и
указательным пальцами и вытаскивать всякую дрянь. Кроме того, они питались
чем-то вроде проса и соленьями чрезвычайного разнообразия и остроты.
Жили они в глинобитных хижинах под соломенными крышами. Под полом шли
дымоходы, вытягивавшие кухонный дым и обогревавшие помещения для спанья.
Здесь мы лежали и отдыхали несколько дней, угощаясь их мягким и безвкусным
табаком, который мы курили из крохотных трубок с чубуками длиной в ярд. Они
угощали нас еще теплым, кисловатым, похожим на молоко питьем, которое
опьяняло только в огромных дозах. Выпив много галлонов этого пойла, я
опьянел и начал петь песни, по обычаю моряков всего земного шара. Ободренные
моим успехом, ко мне присоединились товарищи, и скоро мы все ревели истошным
голосом, забыв о снежном буране, завывавшем снаружи, забыв о том, что нас
выбросило на неведомый, заброшенный берег. Старый Иоганнес Маартенс ревел,
хохотал и хлопал себя по ляжкам, как и все прочие. Гендрик Гамель,
хладнокровный, уравновешенный голландец, брюнет с выпуклыми черными глазами,
бесновался, как и все мы; как пьяный матрос, он бросал серебро, требуя все
больше и больше молочного пойла. Мы безобразно вели себя, но женщины
продолжали носить нам напиток, и чуть не вся деревня собралась в избу
смотреть на наши проделки...
Я полагаю, белый человек потому победно обошел весь земной шар, что ко
всему относился с безрассудной беспечностью, -- побуждали же его к
странствиям, разумеется, беспокойный дух и жажда наживы. И вот капитан
Иоганнес Маартенс, Гендрик Гамель и двенадцать матросов шумели и
безобразничали в рыбачьем поселке под музыку зимнего шторма,
свирепствовавшего в Желтом море.
Земля и люди Чо-Сена не произвели на нас приятного впечатления. Если
эти жалкие рыбаки -- образец здешних туземцев, то нетрудно понять, почему
этих берегов не посещают мореплаватели. Однако вскоре мы убедились, что не
все туземцы таковы. Деревушка лежала на внутреннем островке, и должно быть,
ее вожди послали доложить о нас на материк, ибо в одно прекрасное утро у
берега бросили якорь три больших двухмачтовых джонки с косыми парусами из
рисовых циновок.
Когда лодки (сампаны) причалили к берегу, капитан Иоганнес Маартенс так
и насторожился -- он опять увидел шелка! Франтоватый кореец, весь в бледных
шелках разных цветов, был окружен полудюжиной угодливых слуг, также
разодетых в шелка. Этот Кванг-Юнг-Джин, как оказалось впоследствии, был
"янг-бан", или дворянин; он был также министром или губернатором округа или
провинции. Это значит, что он был назначен в эту провинцию и что он
выколачивал в ней десятину, взяв налоги на откуп.
На берегу виднелась целая сотня солдат, отправившихся в деревню. Они
были вооружены трехзубыми острогами, копьями. секирами, а кое-кто кремневыми
ружьями такого размера, что на каждое ружье требовалось два солдата: один
нес и устанавливал треножник, на который клали дуло, а другой нес само ружье
и зажигал порох в нем. Как я узнал впоследствии, иногда ружье стреляло,
иногда же нет. Все это зависело от капризов ружейной полки и состояния
пороха.
Вот каким образом странствовал Кванг-Юнг-Джин. Деревенские вожди
боялись его и раболепствовали перед ним -- и не без оснований, как мы вскоре
убедились. Я выступил переводчиком, ибо уже знал несколько десятков
корейских слов. Он нахмурился и поманил меня в сторону. Меня это не смутило.
Я был ростом не ниже его, тяжелее его на добрых тридцать фунтов, кожа у меня
была белая, волосы золотистые. Повернувшись ко мне спиной, он обратился к
начальнику деревни, а его шесть шелковых спутников составили между нами
цепь. Покуда он вел беседу, пришли еще солдаты с джонок и принесли несколько
дюймовых досок. Эти доски имели около шести футов в длину и двух в ширину и
до половины были расколоты по длине. Посередине, но ближе к одному из
концов, виднелось круглое отверстие, шире человеческой шеи.
Кванг-Юнг-Джин отдал какой-то приказ, несколько солдат приблизились к
Тромпу, сидевшему на земле и облизывающему палец с ногтоедой. Тромп был
очень глупый, с медленными движениями матрос, и не успел он опомниться, как
одна из досок, раскрывшись как ножницы, окружила его шею и захлопнулась.
Осознав свое положение, он заревел как бык и заметался так, что все
бросились от него, чтобы он не задел их концами доски.
Вот где началась наша беда, ибо ясно было, что КвангЮнг-Джин намерен
всех нас заковать в колодки. Мы дрались голыми кулаками с сотнею солдат и с
таким же количеством сельчан, а Кванг-Юнг-Джин стоял в стороне в своих
шелках и смотрел на нас с царственным пренебрежением. Тут-то я и снискал
свое прозвище -- ЙиЙонг-Ик, Могучий. Я дрался еще долго после того, как все
мои спутники были побеждены и закованы в доски! Кулаки у меня были твердые,
как мозоли, и я не лишен был ни мускулов, ни воли для работы ими.
К своей радости, я скоро убедился, что корейцы понятия не имеют о
кулачном бое. Я их разбрасывал, как кегли. Но я стремился добраться до
Кванг-Юнг-Джина, и спасло его только вмешательство его спутников в тот
момент, когда я кинулся на него. Это были рыхлые твари, причем они
набросились на меня скопом. Я обратил их в кашу со всеми шелками. Но их было
так много! Они заслонялись от моих ударов просто своей численностью --
задние толкали на меня передних. И как же я их укладывал! Под конец они
валялись у меня ногами в три ряда друг на друге. К этому времени экипаж всех
трех джонок и почти все деревенские жители навалились на меня так, что я
чуть не задохся. Доску на меня надели очень скоро.
-- Боже великий, что же теперь? -- говорил Фандерфоот, мой товарищ
матрос, когда его подтащили к джонке.
Мы сидели на открытой палубе, как связанные куры, когда он задал свой
вопрос, и через мгновение, когда джонка покачнулась от бриза, мы покатились
по палубе с нашими досками, ободрав кожу на шее. А Кванг-ЮнгДжин с высокой
кормы глядел на нас так, словно мы не существовали. Много лет после этого я
дразнил Фандерфоота: "Что теперь, Фандерфоот?" Бедняга! В одну ночь он
замерз на улицах Кейджо: его никто не хотел впустить в дом...
Нас привезли на материк и бросили в вонючую, кишевшую насекомыми
тюрьму. Так состоялось наше представление официальной власти Чо-Сена. Но я
за всех нас отомстил Кванг-Юнгу-Джину в те дни, когда дева Ом была
благосклонна ко мне и власть находилась в моих руках.
В тюрьме мы валялись много ней. Причину мы узнали впоследствии.
Кванг-Юнг-Джин отправил депешу в Кейджо, столицу Чо-Сена, с запросом
императору относительно распоряжений на наш счет. Тем временем мы играли
роль зверинца. С рассвета до ночи наши решетчатые окна осаждались туземцами,
ибо они никогда не видели людей нашей расы. Нашу публику составляла не одна
чернь. Знатные дамы, которых приносили в паланкинах кули, тоже хотели
посмотреть "белых дьяволов, выброшенных морем", и, пока их прислужники
отгоняли бичами простонародье, они подолгу и робко разглядывали нас. Мы же
плохо видели их, ибо лица их, по обычаю страны, были закрыты покрывалами.
Только танцовщицы, женщины из простонародья и старухи показывались на улице
с открытыми лицами.
Я часто думал о том, что Кванг-Юнг-Джин, наверное, страдает несварением
желудка и во время припадков срывает зло на нас. Во всяком случае, без
всякой причины, когда на него находил каприз, нас всех выводили на улицу
перед тюрьмой и колотили палками под восторженные вопли толпы. Азиат --
жестокий зверь, и зрелище человеческого страдания доставляет ему
наслаждение.
Как бы то ни было, мы отдохнули душой, когда избиения прекратились. Это
было вызвано прибытием Кима. Кима? Все, что я могу сказать о нем, и лучшее,
что могу сказать, -- это что он был самый белый человек, когдалибо мне
попадавшийся в Чо-Сене. Он был начальником отряда в тридцать человек, когда
я встретил его; позднее он командовал дворцовой гвардией и в конце концов
умер за деву Ом и за меня. Словом, Ким был Ким!
Тотчас же но его прибытии с нашей шеи сняли колодки и нас поместили в
лучшую гостиницу, какой могло похвастаться это местечко. Мы все еще были
арестантами, но арестантами почетными, охраняемыми стражей из пятидесяти
конных солдат. На следующий день мы уже находились в пути на Большой
Императорской Дороге -- четырнадцать матросов ехали верхом на карликовых
лошадях, которые водятся в Чо-Сене, по направлению к самой столице Кейджо.
Император, по словам Кима, выразил желание посмотреть невиданных "морских
дьяволов".
Путешествие это продолжалось много дней и растянулось на добрую
половину длины Чо-Сена с севера на юг. При первой смене седел я пошел
побродить и посмотреть, как кормят карликовых коней. И то, что я увидел,
заставило меня зареветь: "Что теперь, Фандерфоот? " -- так, что сбежался
весь народ. Пропасть мне на этом месте, если лошадей не кормили бобовым
супом, вдобавок горячим, и ничего другого во всю дорогу они не получали!
Таков был обычай страны.
Лошади были сущие карлики. Побившись об заклад с Кимом, я поднял на
плечо одну из них, несмотря на ее визг и брыканье, так что люди Кима, уже
слышавшие о моем новом имени, тоже стали называть меня Йи-ЙонгИк -- Могучим.
Для корейца Ким был рослый мужчина -- корейцы вообще невысокая, коренастая
раса, -- но, схватываясь с ним один на один, я неизменно клал его на
лопатки. Народ, раскрыв рот, глядел на борьбу и бормотал: "Йи- Йонг-Ик..."
До некоторой степени мы представляли странствующий зверинец. О нашем
приближении становилось известно заранее, так что народ целыми деревнями
сбегался к дороге глядеть на нас. Это была нескончаемая цирковая процессия.
По вечерам в городах занимаемая нами гостиница осаждалась толпами, так что
мы не имели покоя, пока солдаты не отгоняли их копьями и пинками. Но Ким
первым делом созывал силачей и борцов деревни, чтобы полюбоваться, как я их
сокрушаю и кладу в грязь.
Хлеба нигде не было, но зато мы ели белый рис (от него плохо
развиваются мускулы), мясо -- как мы убедились, собачье (собак бьют в
Чо-Сене на мясо) -- и соленья, невероятно острые, но превосходные, когда
привыкнешь к ним. Получали мы также настоящий хороший напиток, не молочную
жижу, но белую острую водку, перегоняемую из риса, одной пинты которой было
достаточно, чтобы убить слабого человека, а сильного привести в
безумно-веселое настроение. В окруженном стенами городе Чонг-Хо я положил
Кима и городскую знать под стол, напоив их этим напитком -- или, вернее, на
стол, потому что стол был накрыт на полу, а мы сидели на корточках. Опять
все бормотали: "Йи-Йонг-Ик", -- и молва о моей доблести дошла до Кейджо и
императорского двора.
Я скорее был почетный гость, чем узник, и неизменно ехал рядом с Кимом,
доставая длинными ногами почти до земли, а в грязь задевая подошвами землю.
Ким был молод. Ким был человечен. Ким бы универсален. Он чувствовал
себя как дома в любой стране. Мы с ним беседовали, смеялись и шутили весь
день напролет и добрую половину ночи. И я быстро усваивал новый язык. У меня
был дар к изучению языков. Даже Ким изумлялся, как легко я овладел местным
наречием. Я изучал корейские взгляды, корейские нравы и слабые места
корейца. Ким учил меня песням о цветах, любовным песням, застольным песням.
Одну такую застольную песню он сочинил сам, и я ее попытаюсь изложить в
грубом переводе. В дни своей молодости Ким и некий Пак дали клятву
воздерживаться от пьянства и часто нарушали эту клятву. В зрелом возрасте
Ким и Пак пели:
Нет! Нет! Убирайся! Веселая чаша
Опять поднимает мою душу ввысь.
Я сам с собою борюсь. Скажи, товарищ,
Не знаешь ли, где продается красное вино?
Не под тем ли персиковым деревом, не там ли?
Будь счастлив, -- я бодро спешу туда.
Гендрик Гамель, лукавый и оборотистый малый, даже поощрял меня в
проделках, снискавших мне милость Кима -- да и не одному мне, а через мое
посредство Гендрику Гамелю и всей нашей компании. Здесь я упомянул о
Гендрике Гамеле как о моем советчике, ибо это имеет отношение ко многому,
последовавшему в Кейджо, по части завоевания благосклонности Юн-Сана, сердца
княжны Ом и снисходительности императора. Для игры, затеянной мной, у меня
было достаточно воли и бесстрашия, отчасти и ума; но должен сознаться, что
ум я больше всего заимствовал у Гендрика Гамеля.
Так и совершили мы путешествие до самого Кейджо, переезжая от стен
одного города до стен другого, по засыпанной снегом горной стране, усеянной
бесчисленными плодородными земледельческими долинами. Каждый вечер, к
закату, сигнальные костры зажигались на всех горных пиках и бежали по всей
стране. Ким любил наблюдать эту ночную картину.
-- От всех берегов Чо-Сена, -- рассказывал Ким, -- эти цепочки огненной
речи бегут к Кейджо, принося вести императору. Один дымок означает, что в
стране мир, два дымка означают восстание или иноземное нашествие.
Мы все время видели только один дымок. И каждый раз, когда мы выезжали,
Фандерфоот, замыкавший шествие, изумлялся: "Великий боже! Что теперь?"
Кейджо оказался обширным городом, где все население за исключением
дворян, или янг-банов, ходило в белом. По словам Кима, это было отличием
касты. По степени чистоты или грязи одежды можно было сразу угадать
общественное положение человека. Само собой подразумевалось, что кули,
имевшие только одно платье, в котором он ходил, должен быть невероятно
грязен. Само собой подразумевалось, что человек в безукоризненно белом
одеянии должен обладать многими переменами платья и штатом прачек,
поддерживающих его платья в ослепительной чистоте, Что касается янг-банов,
носивших бледные разноцветные шелка, то они стояли выше прочих каст.
Отдохнув в гостинице несколько дней, постирав наши платья и починив
изъяны, причиненные крушением и странствиями, мы были призваны к императору.
На огромном открытом пространстве перед дворцовой стеной возвышались
колоссальные каменные собаки, больше смахивавшие на черепах. Они сидели на
массивных каменных пьедесталах вдвое выше человеческого роста. Стены дворца
были огромны и сложены из обтесанного камня. Они были так толсты, что могли
сопротивляться самым мощным пушкам в течение года. Одни ворота были
размерами с целый дворец и поднимались, как пагода, отступающими назад
этажами, причем каждый этаж был покрыт черепичной кровлей. Франтоватые
гвардейцы стояли у входа. Ким объяснил мне, что это "тигровые охотники"
Пьенг-Янга, самые свирепые и страшные бойцы, какими обладал Чо-Сен.
Но довольно об этом. Для полного описания императорского дворца не
хватило бы и тысячи страниц. Скажу только, что здесь мы увидели власть в ее
материальном величии. Только очень древняя, мощная цивилизация могла создать
эти широкостенные, со многими фронтонами, царственные постройки.
Нас, матросов, повели не в зал для аудиенций, но -- как нам показалось
-- в зал для пиршеств. Пир приходил к концу, и собравшиеся находились в
веселом расположении духа. И какая же это была толпа! Высокие сановники,
принцессы крови, дворяне с мечами, бледные жрецы, загорелые воины высоких
чинов, придворные дамы с открытыми лицами, накрашенные ки-санг (танцовщицы),
отдыхавшие в этот момент от танцев, и дуэньи, поджидавшие женщин, евнухи,
лакеи и дворцовые рабы -- целая гвардия!
Но все отошли от нас, когда император со свитой приблизился, чтобы
поглядеть на нас. Это был веселый монарх, особенно для азиата. Летами он был
старше сорока, с чистой, бледной кожей, никогда не знавшей загара, с брюшком
и слабыми ногами. Но когда-то это был мужчина хоть куда! Об этом
свидетельствовал его благородный лоб. Глаза, однако, у него были гноящиеся,
с тонкими веками, губы тряслись и кривились от постоянных излишеств, которым
он предавался, -- эти излишества, как я впоследствии узнал, в значительной
степени придумывались и поощрялись Юн-Саном, буддийским жрецом, о котором я
ниже расскажу подробнее.
Мы, в наших матросских костюмах, представляли пеструю толпу, и пестрая
толпа нас окружала. Изумленные восклицания при виде нашей странной
наружности сменились хохотом. Ки-санг бросились к нам толпой, вертели нас во
все стороны, нападая на каждого из нас по две и по три; водили нас по залу,
как пляшущих медведей, и заставляли нас выделывать разные штуки. Да, это
было оскорбительно -- но что же мог сделать бедный матрос? Что мог поделать
старый Иоганнес Маартенс против целой гирлянды смеющихся девушек,
обступивших его, дергавших его за нос, щипавших за руки, щекотавших под
ребрами, так что он волей-неволей подпрыгивал? Чтобы избавить нас от этой
пытки, Ганс Амден, расчистив местечко, отхватил неуклюжий голландский танец,
при виде которого придворные так и катились со смеху.
Все это оскорбляло и меня, которому Ким в течение многих дней был
равноправным и славным товарищем. Я оказал сопротивление смеющимся ки-санг.
Расставив ноги и скрестив руки на груди, я крепко уперся на месте; ни
щекотанье, ни щипки не могли нарушить мою невозмутимость. И меня оставили
ради более легкой добычи.
-- Ради бога, дружище, произведи внушительное впечатление! --
пробормотал Гендрик Гамель, пробравшись ко мне и таща за собой трех ки-санг.
Неудивительно, что он бормотал, ибо всякий раз, как он раскрывал рот, в
него напихивали сластей.
-- Избавь нас от этого безумия, -- умолял он, мотая головой во все
стороны, чтобы увернуться от пальчиков, державших сласти. -- Мы должны
соблюдать достоинство, -- понимаешь ты -- достоинство! Иначе мы погибли. Они
превратят нас в ручных животных, в игрушки. Когда мы им надоедим, они нас
выбросят вон. Ты действуешь правильно. Держись! Не сдавайся! Требуй
уважения, уважения ко всем нам... -- последние слова я едва мог разобрать,
ибо к тому времени ки-санг совершенно забили его рот сластями.
Как и уже говорил, я был наделен и волей, и бесстрашием, и усиленно
работал своими матросскими мозгами, ища выхода. Дворцовый евнух, щекотавший
мне перышком затылок, подал мне мысль. Я уже обратил на себя внимание своей
невозмутимостью и нечувствительностью к атакам ки-санг, так что многие
возлагали теперь надежды на то, что евнух меня раздразнит. Я не подавал
знака, не делал движения, пока не соразмерил отделявшего нас расстояния. И
тогда с молниеносной быстротой, не повернув ни головы, ни туловища, а просто
вытянув руку, я повалил его одним ударом руки наотмашь. Тыльная часть моей
руки пришлась по его щеке и челюсти. Послышался треск, как от бруса,
расколовшегося в шторм. Евнух отлетел прочь и безжизненной кучей рухнул на
пол шагах в десяти от меня.
Смех прекратился, послышались крики изумления, бормотанье и шепот:
"Йи-Йонг-Ик!"
Опять я скрестил руки и застыл в той же высокомерной позе. Должно быть,
во мне, Адаме Стрэнге, между прочим, сидела и душа актера. И смотрите, что
вышло! Теперь я был самым выдающимся лицом в нашей компании.
Пренебрежительно, недрогнувшим взглядом я встречал устремленные на меня
глаза и заставлял их отворачиваться, -- опускались или отворачивались все
глаза, кроме одной пары. Это были глаза молодой женщины, в которой по
богатству наряда и по полдюжине женщин, толпившихся за ее спиной, я признал
знаменитую придворную даму, и действительно, это была княжна, дева Ом,
принцесса дома Мин. Я сказал -- молодая? Ей было столько же, сколько мне, --
тридцать лет; несмотря на свою зрелость и красоту, она была не замужем, как
мне пришлось узнать.
Только она бесстрашно глядела в мои глаза, пока я сам не отвернулся в
сторону. Во взоре ее не было ни вызова, ни вражды -- одно только восхищение.
Мне не хотелось признать свое поражение перед маленькой женщиной, и глаза
мои, отвернувшись в сторону, поднялись на униженную группу моих товарищей и
осаждавших их ки-санг и дали мне необходимый предлог. Я хлопнул в ладоши на
азиатский манер, как хлопают, отдавая приказы.
-- Перестать! -- прогремел я на туземном языке, тоном, каким
приказывают подчиненным.
О, у меня была громкая и грубая глотка, и я умел реветь так, что
оглушал! Я убежден, что такой громкий приказ никогда еще не потрясал
священного воздуха императорского дворца...
Огромная палата остолбенела. Женщины вздрогнули и прижались друг к
другу, словно ища спасения. Ки-санг оставили в покое матросов и с трусливым
хихиканьем удалились прочь. Только княжна Ом не шевельнулась и продолжала
глядеть широко раскрытыми глазами в мои глаза, которые я вновь устремил на
нее,
Наступило глубокое безмолвие, словно в ожидании приговора. Множество
глаз робко перебегали с императора на меня и с меня на императора. У меня
хватило благоразумия безмолвствовать и стоять, скрестив руки, в надменной и
отчужденной позе.
-- Он говорит на нашем языке, -- промолвил наконец император. И я готов
поклясться, что все вздохнули одним огромным вздохом облегчения.
-- Я родился уже зная этот язык, -- отвечал я, ухватившись своим
матросским умишком за первую, невозможную соломинку, которая мне попалась.
-- Я говорил на нем у груди своей матери. Я был чудом в моем кругу! Мудрецы
приходили издалека видеть и слушать меня. Но никто не знал слов, которые я
произносил. За долгие годы, протекшие с той поры, я многое позабыл, но
теперь в Чо-Сене слова возвращаются ко мне, как давно забытые друзья.
Я, без сомнения, произвел впечатление. Император проглотил слюну и
долго кривил губы, пока промолвил:
-- Как ты это объясняешь?
-- Случайностью, -- отвечал я, продолжая следовать капризному пути
своей выдумки. -- Боги рождения сделали оплошность и послали меня в далекий
край, где меня вскормил чужой народ. Я -- кореец и теперь наконец прибыл
домой!
Послышались возбужденные перешептывания. Император обратился к Киму.
-- Он всегда был таким, с нашей речью на устах, с первой минуты, как
вышел из моря, -- солгал Ким, поддержав меня как добрый товарищ.
-- Принесите мне одежды янг-бана, как то подобает, -- перебил я его, --
и вы увидите! -- И когда меня повели, я обернулся к ки-санг и сказал:
-- Оставьте моих рабов в покое. Они совершили длинное путешествие и
устали. Они мои верные рабы!
В другой комнате Ким помог мне переодеться, выслав вон лакеев, и
наскоро дал мне необходимые инструкции. Он так же мало знал, к чему я гну,
как и я сам; но он был славный парень.
Забавное дело: когда я вернулся в толпу и начал говорить на корейском
языке, который, как я утверждал, заржавел будто бы от долгого
неупотребления, Гендрик Гамель и прочие, слишком тупые на изучение новых
языков, не поняли ни одного слова, произносимого мной!
-- Во мне течет кровь дома Кориу! -- объявил я императору. --
Правившего в Сонгдо много лет тому назад, когда мой дом возник на развалинах
Силлы!
Эту древнюю историю рассказал мне Ким в течение наших долгих
странствий, и теперь он с трудом удерживался от смеха, слушая, как я с
добросовестностью попугая повторял его сказки.
А это, -- продолжал я, когда император спросил меня о моих спутниках,
-- это мои рабы -- все, за исключением этого старика, -- и я указал на
Иоганнеса Маартенса, -- он сын вольноотпущенника. -- Я приказал приблизиться
Гендрику Гамелю. -- Этот, -- продолжал я фантазировать, -- родился в доме
моего отца от рабыни, родившейся там же. Мы близки с ним. Мы одного
возраста, родились в один и тот же день, и в этот день отец подарил мне его!
Впоследствии, когда Гендрику Гамелю не терпелось узнать, о чем я
разговаривал, и я рассказал ему обо всем, он немало корил меня и даже
злился.
-- Сало брошено в огонь, Гендрик, -- ответил я, -- То, что я сделал, я
сделал, не подумав, и потому, что нужно же было что-нибудь сказать. Но дело
сделано. Ни я, ни ты не можем вернуть сало. Нужно теперь играть свою роль
как можно правдоподобнее!
Брат императора, Тайвун, был олух из олухов, и ночью он пригласил меня
на попойку. Император пришел в восторг и приказал дюжине самых знатных
олухов принять участие в этой попойке. Женщин отпустили, и мы начали пить
чашу за чашей. Кима я удержал при себе, и в половине пира, несмотря на
хмурые намеки Гендрика Гамеля, я отпустил его и всю компанию, сперва
потребовав и получив комнату во дворце вместо гостиницы.
На следующий день во дворце только и говорили, что о моих подвигах на
попойке, ибо Тайвун и все его чемпионы храпели вповалку на циновках, а я без
посторонней помощи добрался до своей постели. Впоследствии, когда многое
переменилось, Тайвун ни разу не позволил себе усомниться в моем праве на
корейское происхождение. Только кореец, утверждал он, может обладать столь
крепкой головой!
Дворец представлял целый город, и нас поместили в павильоне, стоявшем
особняком. Княжеские покои отвели, разумеется, мне, а Гамель, Маартенс и
матросы, не перестававшие ворчать, должны были довольствоваться остальной
частью помещения.
Меня позвали к Юн-Сану, буддийскому жрецу, о котором я уже упоминал. Мы
впервые видели в этот раз друг друга. Даже Кима он удалил от меня, и мы
сидели одни на пушистых циновках в скудно освещенной комнате. Боже, что за
человек, что за умница был этот ЮнСан! Он подверг меня основательной
проверке. Он знал многое о других краях и местах, о которых никто в ЧоСене и
не подозревал. Поверил ли он сказке о моем происхождении? Я не мог этого
узнать, ибо лицо его было невозмутимо, как вылитое из бронзы.
О чем думал Юн-Сан, было известно лишь ему самому. Но в нем, в этом
убого одетом и тощем жреце, я угадывал силу, приводившую в движение все
прочие силы во всем дворце и во всем Чо-Сене. Из разговора я понял также,
что я ему нужен. Подсказала ли ему это дева Ом? Эту трудную задачу я задал
Гендрику Гамелю. Я мало над чем задумывался и еще менее заботился, ибо жил
всегда минутой, а думы и беспокойство предоставлял другим.
Я откликнулся на призыв девы Ом и последовал за гладколицым с кошачьей
поступью евнухом тихими закоулками дворца в ее покои. Она жила так, как
полагается жить принцессе крови. Ей также был отведен особый дворец среди
лотосовых прудов, где росли леса трехсотлетних, но карликовых деревьев, не
достигавших мне до пояса. Бронзовые мостики, словно отделанные ювелирами,
перекидывались через лилейные пруды, и бамбуковая роща отделяла ее дворец от
прочих дворцов.
У меня закружилась голова. Хоть и простой матрос, я знал, однако,
женщин, и в том, что дева Ом за мной послала, угадывал нечто большее, чем
праздное любопытство. Мне известны были примеры любви между простолюдинами и
царицами, и я думал -- не случится ли со мной такая же история?
Дева Ом не тратила даром времени: ее окружали женщины, но она так же
мало стеснялась их присутствием, как погонщик стесняется своих лошадей. Я
сидел рядом с нею на мягких циновках, превративших комнату в какое-то ложе,
а она угощала меня вином и сластями, поданными на крохотных, не выше фута,
столиках, выложенных перламутром.
Боже, стоило мне только заглянуть в ее глаза... Но погодите. Не
заблуждайтесь. Дева Ом была неглупая женщина. Я уже говорил, что она была
одного со мной возраста. Ей было полных тридцать лет, и в ней заметна была
степенность зрелого возраста. Она знала, что ей нужно, и знала, чего не
нужно. По этой причине она и не выходила замуж, хотя весь этот азиатский
двор оказывал на нее давление; тщетно пытаясь заставить ее выйти замуж за
Чонг-Монг-Джу. Он находился в дальнем родстве с великим родом Мин, был
неглуп и так жадно домогался власти, что это всполошило Юн-Сана, которому
хотелось удержать всю власть в своих руках и сохранить в Чо-Сене
установленный порядок. Таким образом Юн-Сан сделался союзником девы Ом,
спасая ее от родственника и используя для того, чтобы остричь ему крылья...
Но довольно об интригах. Много прошло времени, пока я узнал и десятую часть
их, да и то главным образом благодаря излияниям девы Ом и догадкам Гендрика
Гамеля.
Дева Ом была сущий цветок. Такие женщины редко рождаются на свет, едва
ли два раза в столетие. Ни правила, ни условности не смущали ее. Религия
была для нее рядом абстрактных понятий, отчасти заимствованных у Юн-Сана,
отчасти выработанных ею самой. Вульгарная религия -- религия народа -- была
просто способом удерживать трудящиеся миллионы на работе. У девы Ом была
сильная воля, а сердце совсем женское. Она была красавицей, да, красавицей
согласно всем существующим на свете понятиям о красоте. Большие черные глаза
ее не были раскосы и узки, как у азиатов. Правда, глаза были продолговатые и
поставлены не прямо, а чуть-чуть наклонно, что придавало ей большую
пикантность.
Я уже говорил, что она была неглупа. Смотрите же! Раздумывая над
возникшим небывалым положением принцессы и матроса, связанных любовью,
которая грозила разрастись, я неустанно следил за тем, чтобы не уронить
своего достоинства. В начале этого первого свидания я упомянул то, о чем
сказал всему двору, -- именно что в действительности я чистокровный кореец
древнего дома Кориу.
-- Полно! -- проговорила она, ударив меня по губам своим веером из
павлиньих перьев. -- Нечего рассказывать детские сказки! Знай, что для меня
ты и лучше и выше какого бы то ни было дома Кориу. Ты...
Она сделала паузу, а я ждал, наблюдая, как в ее глазах созревало смелое
решение.
-- Ты мужчина! -- докончила она. -- Даже в грезах мне не снилось, что
может существовать такой мужчина.
Боже, боже! Что мог в этом случае сделать бедный матрос? Должен
сознаться, что этот матрос покраснел под своим морским загаром, а глаза девы
Ом лукаво и задорно смеялись -- и руки мои сами собой чуть не обхватили ее.
Но она хлопнула в ладоши, позвав своих наперсниц, -- и я понял, что на этот
раз аудиенция кончилась. Я понял также, что будут другие аудиенции,
непременно будут другие!
К Гамелю я вернулся с закружившейся головой.
-- Женщина! -- проговорил он, подумав. Он поглядел на меня и испустил
завистливый вздох, насчет которого не могло быть ошибки. -- Твое счастье,
Адам Стрэнг, что у тебя бычачья глотка и желтые волосы! Вот перед тобой
игра, дружище. Веди ее, и всем нам будет хорошо. Веди игру, я научу тебя --
как...
Я ощетинился. Хоть и матрос, я все же был мужчина и никому не хотел
быть обязан своим успехом у женщины! Гендрик Гамель был, правда, одно время
половинным владельцем старого "Спарвера", знал мореходную астрономию, был
начитан, но что касается женщин -- я мог поучить его!
Он усмехнулся своими тонкими губами и спросил:
-- Как тебе нравится княжна Ом?
-- В таких вещах матрос не бывает разборчив, -- ответил я.
-- Как она тебе нравится? -- повторил он, уставившись на меня своими
выпуклыми глазами.
-- Ничего, даже очень недурна, если хотите знать!
-- Тогда добейся ее, -- приказал он. -- И в один прекрасный день мы
получим судно и улизнем из этой проклятой страны. Я бы отдал половину шелков
Индии за добрый христианский обед! -- Он пристально посмотрел на меня.
-- Как ты думаешь, можешь ты добиться ее любви? -- спросил он.
Я чуть не подскочил при этом вопросе. Он удовлетворенно улыбнулся.
-- Но не торопись, -- посоветовал он. -- Поспешишь -- людей насмешишь!
Держись! Не будь расточителен в ласках. Заставь ценить свою бычачью глотку и
желтые волосы -- и счастье, что они у тебя есть, -- ибо в глазах женщин они
стоят больше, чем мысли десятков философов!
Последовавшие дни мне вспоминаются как какой-то непрерывный вихрь --
аудиенции у императора, попойки с Тайвуном, совещания с Юн-Саном и часы с
девой Ом. Кроме того, добрую половину ночи, по распоряжению Гамеля, я
проводил за тем, что выуживал у Кима все мелочи придворного этикета и манер,
знакомился с историей Кореи, с древними и новыми богами, с фразеологией
высоких сфер, дворянства и простонародья. Никогда, вероятно, простой матрос
не работал так усердно! Я был куклой -- куклой Юн-Сана, которому был нужен,
-- куклой Гамеля, сокровенные цели и мысли которого были так глубоки, что я,
наверное, потонул бы в них. Только с девой Ом я был человеком, а не
куклой... И все же, оглядываясь теперь назад и думая обо всем, я начинаю
сомневаться. Я думаю, что и дева Ом вертела мною как хотела, утоляя желания
своего сердца! Это ей было нетрудно, ибо очень скоро она стала желанием
моего сердца, и так сильно было это желание, что ни ее воля, ни воля Гамеля
или Юн-Сана не могли помешать мне заключить ее в мои объятия.
Между тем я оказался замешанным в дворцовую интригу, глубину которой я
не в состоянии был измерить. Я мог только угадать основное ее направление --
против Чонг-Монг-Джу, царственного родственника девы Ом. Я не знал о
существовании бесчисленных клик дворца, запутанных как лабиринт и
простиравших свое влияние на все Семь Берегов. Но меня это мало тревожило --
я предоставил это Гендрику Гамелю. Я ему сообщал до мельчайших деталей все,
что происходило в его отсутствие; а он, нахмурив брови, сидел целыми часами
и как терпеливый паук распутывал нити свежесплетенных сетей. Будучи моим
телохранителем, он настаивал на необходимости всюду сопутствовать мне.
Только иногда ему в этом препятствовал Юн-Сан. Разумеется, я не подпускал
его в минуты свиданий с девой Ом, но в общем рассказывал ему все, что между
нами происходило, за исключением минут нежности, которые его не касались.
Я думаю, что Гамель был доволен тем, что сидел в тени и вел свою тайную
игру. Он был достаточно хладнокровен, чтобы понять, что риск лежал на мне.
Если я буду благоденствовать, будет благоденствовать и он. Если я потерплю
неудачу, он может улизнуть, как хорек. Я убежден, что именно так рассуждал
он, и все же, как вы убедитесь, это в конце концов не спасло его.
-- Стой за меня, -- говорил я Киму, -- и все, что пожелаешь, будет
твоим. Чего тебе хочется?
-- Я хотел бы командовать тигровыми охотниками Пьенг-Янга, а вследствие
этого и командовать дворцовой стражей, -- отвечал он.
-- Подожди, -- сказал я, -- и ты этого дождешься. Я обещаю!
Но как -- в этом-то и была вся загвоздка! Впрочем, тот, у кого ничего
нет, может дарить хоть целый мир; я, ничего не имевший, дарил Киму чин
капитана дворцовой стражи. Лучше всего было то, что я сдержал свое обещание!
Ким получил командование над тигровыми охотниками, хотя это и не привело к
добру.
Интриги и заговоры я предоставил Гамелю и ЮнСану -- это были политики.
Я был просто мужчина и любовник, и проводил время куда веселее их.
Представьте себе картину -- истрепанный бурями жизнерадостный матрос,
безответственный, не знающий ни прошлого, ни будущего, пьет и обедает с
царями; он любовник принцессы, и мозги Гамеля и Юн-Сана ведут за него всю
умственную работу!
Не раз случалось, что Юн-Сан почти разгадывал мои мысли; но когда он
подверг испытанию Гамеля, тот проявил себя тупым рабом, которому в тысячу
раз менее интересны государственные дела и политика, чем мое здоровье и
удобства, и который занят только тем, как бы удерживать меня от попоек с
Тайвуном. Я думаю, дева Ом угадывала истину и держала ее про себя; она
желала не ума, но как выразился Гамель, бычачьей шеи и желтых волос мужчины.
Я не буду распространяться о том, что происходило между нами, хотя дева
Ом -- давно драгоценный прах столетий. Ни я к ней, ни она ко мне -- оба мы
не могли остаться равнодушными; а уж раз мужчина и женщина понравились друг
другу, то пусть падают головы и рушатся царства -- они не погибнут! С
течением времени начали поговаривать о нашем браке -- разумеется, сперва
потихоньку, -- вначале это были лишь дворцовые сплетни в дворцовых углах,
между евнухами и горничными. Но во дворце сплетни кухонных судомоек
доползают до трона. И скоро поднялась порядочная сумятица. Дворец был
пульсом всей державы Чо-Сен. И когда дворец зашевелился, задрожал и Чо-Сен.
И этому были причины. Наш брак был бы ударом прямо в лоб Чонг-Монг-Джу! И он
стал бороться с энергией, к которой уже приготовился Юн-Сан. Чонг-Монг-Джу
взбудоражил добрую половину провинциальных жрецов; они пошли огромной, в
милю, процессией ко дворцу и довели императора до паники.
Но Юн-Сан стоял как скала; вторая половина провинциальных жрецов была
за него, и вдобавок жреческое сословие больших городов, как Кейджо, Фузан,
Сонгдо, Пьенг-Янг, Ченампо, Чемульпо. Юн-Сан и дева Ом, сговорившись, ловко
обошли императора. Впоследствии дева Ом признавалась мне, что застращала его
слезами, истериками и угрозой скандала, который мог пошатнуть его трон. В
довершение всего в удобный психологический момент Юн-Сан засыпал императора
новшествами, которые давно подготовлял.
-- Ты должен отрастить себе волосы и завязать их брачным узлом, --
предупредил меня Юн-Сан, и в его величавом взоре засверкали лукавые искры.
Неприлично ведь было выходить принцессе замуж за матроса или даже за
претендента на кровное родство с древним родом Кориу, но лишенного власти,
земли и каких бы то ни было признаков ранга! И вот императорским декретом
было объявлено, что я принц Кориу! Затем четвертовали и обезглавили
тогдашнего губернатора пяти провинций, приверженца Чонг-Монг-Джу, а меня
назначили губернатором семи внутренних провинций древнего Кориу. В Чо-Сене
семерка -- магическое число. Для округления цифры две провинции были отняты
у двух других приверженцев Чонг-Монг-Джу.
Боже, боже! Матрос... И вот он шествует к северу по Дороге Мандаринов с
пятью сотнями солдат и свитой! Я стал губернатором семи провинций, где меня
ждало пятьдесят тысяч войска. Жизнь, смерть и пытка зависели от одного моего
слова! У меня были казна и казначейство, не говоря еще о целом полчище
туземцев. Ждала меня и целая тысяча откупщиков, выколачивавших гроши из
трудящегося народа.
Семь провинций составляли северную часть страны. За ними лежала
нынешняя Маньчжурия, в ту пору называвшаяся страной Хонг-Ду, или "Красных
Голов". Это была страна диких разбойников, иногда большими массами
переходивших реку Ялу и наводнявших северную часть ЧоСена, как саранча.
Говорили, что они людоеды. Я по опыту знаю, что они были страшные бойцы,
почти непобедимые. Этот год пролетел как вихрь. Пока Юн-Сан и дева Ом в
Кейджо довершали поражение Чонг-Монг-Джу, я занялся созданием собственной
репутации. Разумеется, за моей спиной стоял Гендрик Гамель, но для
посторонних глаз главным действующим лицом был я. При моем посредничестве
Гамель учил наших солдат муштровке и тактике, и изучал стратегию Красных
Голов. Война была жестокая, и хотя она отняла год, но в конце этого года мир
воцарился на северной границе, и по нашу сторону реки Ялу не осталось ни
одной живой Красной Головы.
Не знаю, записан ли набег Красных Голов в западной истории; если
записан, тогда можно определить точно, о каких временах я пишу. И еще другой
ключ для определения времени: когда Хидейоши был шогуном Японии? В мое время
я слышал отголоски двух набегов, за одно поколение до меня, произведенных
Хидейоши через самое сердце Чо-Сена, от Фузана на юг и до Пьенг-Янга на
север. Это тот Хидейоши, который отправил в Японию уйму бочек с солеными
ушами и носами корейцев, убитых в бою. Я беседовал со многими стариками и
старухами, видевшими это сражение и счастливо избежавшими засолки.
Но вернемся к Кейджо и деве Ом. Боже, боже, что это была за женщина!
Сорок лет она была моей женой. Ни одного голоса не поднялось против нашего
брака. Чонг-Монг-Джу, лишенный власти, впавший в немилость, удалился
брюзжать в какой-то далекий закоулок на северовосточном побережье. Юн-Сан
стал абсолютным владыкой. По ночам одиночные столбы дыма разносили весть о
мире по всей стране. Благодаря непрерывным пирам и бражничаньям, которые
организовывал хитроумный Юн-Сан, император все больше слабел ногами и
зрением. Дева Ом и я победили по всей линии. Ким командовал дворцовой
стражей. Кванг-Юнг-Джина, провинциального губернатора, который отколотил нас
и забил в колодки, когда нас выбросило на берег, я лишил власти и навсегда
прогнал от стен Кейджо.
А Иоганнес Маартенс? Дисциплина хорошо вколочена в голову матроса, и я,
несмотря на свое нынешнее величие, никак не мог забыть, что когда-то, в те
дни, когда мы отыскивали Новую Индию на "Спарвере", он был моим капитаном.
Согласно басне, которую я рассказал при дворе, -- единственным вольным
человеком в моей свите. Остальные матросы, на которых смотрели как на моих
рабов, не могли, разумеется, претендовать на какие бы то ни было должности.
Но Иоганнес мог претендовать и претензию эту заявил. О старая, хитрая
лисица! Я мало понимал его намерения, когда он попросил меня сделать его
губернатором жалкой крохотной провинции Кионг-Джу. Кионг-Джу не могла
похвалиться ни плодородными полями, ни рыбными ловлями. Собиравшиеся с этой
провинции налоги едва покрывали расходы по взиманию их, и губернаторство в
ней было в сущности почетным титулом, лишенным содержания. Провинция,
понастоящему, была кладбищем -- священным кладбищем, правда, ибо на
Табонгских горах были построены жертвенники и похоронены кости древних царей
Силлы. Про себя я подумал: лучше быть губернатором Кионг-Джу, чем вассалом
Адама Стрэнга; не подозревал я в то время, что Маартенс взял с собой четырех
матросов не из боязни скуки!
После этого прошло два чудесных года. Я управлял своими семью
провинциями главным образом при помощи небогатых янг-банов, которых выбрал
для меня Юн-Сан. От меня только требовалась время от времени инспекторская
поездка в полном параде и в сопровождении княжны Ом. На южном берегу у нее
был летний дворец, который мы часто посещали. Там я предавался забавам,
приличествующим мужчине. Я сделался покровителем спорта борьбы и воскресил
среди янг-банов угасшее искусство стрельбы из лука. Кроме того, в северных
горах можно было охотиться на тигров.
Замечательны были приливы в Чо-Сене. На нашем северо-восточном
побережье вода поднималась и падала всего на какой-нибудь фут. Но на
западном берегу отлив достигал шестидесяти футов. Чо-Сен не вел торговли с
чужими странами и не видал иноземных купцов. Сами корейцы не ездили никуда
за море, и никакие иностранные суда не подходили к берегам Чо-Сена. Это было
результатом политики изоляции, проводившейся с незапамятных времен. Только
раз в десять или двадцать лет приезжали китайские послы, но они приезжали по
суше, вокруг Желтого моря, через страну Хонг-Ду и по Дороге Мандаринов в
Кейджо. Этот кружной путь отнимал целый год. Являлись они для того, чтобы
требовать от нашего императора пустого церемониала признания древних прав
верховного владычества Китая.
Тем временем Гамель, долго размышлявший, созрел наконец для действий.
Планы его развивались быстрым темпом. Для него Чо-Сен был Индией, если как
следует обработать страну. Он мало откровенничал со мной, и лишь когда он
начал добиваться того, чтобы меня сделали адмиралом корейского флота джонок,
и мимоходом осведомляться о том, где хранится императорская казна, я
смекнул, в чем дело.
Но мне не хотелось уезжать из Чо-Сена без княжны Ом. И когда я намекнул
ей на это, она прижалась ко мне и ответила, что я ее царь и, куда бы ее ни
повел, она за мной последует. И вы увидите, что то, что она сказала, было
глубокой правдой.
Юн-Сан сделал большую оплошность, оставив в живых Чонг-Монг-Джу!
Впрочем, нельзя сказать, что это была оплошность со стороны Юн-Сана. Он
просто не посмел поступить иначе. Отлученный от двора, Чонг-Монг-Джу тем не
менее был слишком популярен среди провинциального духовенства. Юн-Сан
вынужден был удержать занесенную руку, а Чонг-Монг-Джу, по видимости
безропотно живший на северо-восточном берегу, в действительности не
оставался праздным. Его эмиссары, главным образом буддийские жрецы,
рассеялись по всей стране и вербовали для него самых загнанных
провинциальных чиновников. Обдумывать и выполнять грандиозные и сложные
заговоры возможно только при холодном терпении азиата. Дворцовая клика
приверженцев Чонг-Монг-Джу так усилилась, как Юн-Сан и представить себе не
мог. Чонг-Монг-Джу подкупил даже дворцовую стражу тигровых охотников из
Пьенг-Янга, которыми командовал Ким. И в то время как Юн-Сан колебался, в то
время как я отдавался спорту и княжне Ом, а Гендрик Гамель вырабатывал планы
ограбления императорского казначейства и Иоганнес Маартенс обдумывал
соответственные планы насчет могил на Табонгских горах, -- вулкан замыслов
Чонг-МонгДжу накоплял энергию, все еще ничем не выдавая себя.
Боже, боже, какая разразилась буря! Оставалось только одно -- все на
борт и спасай шкуру! И много было шкур, которых не удалось спасти. Заговор
разразился преждевременно. В сущности, катастрофу ускорил Иоганнес Маартенс;
то, что он сделал, было слишком на руку ЧонгМонг-Джу, чтобы тот не
воспользовался.
Представьте себе: жители Чо-Сена фанатично преданы культу предков, а
этот старый жадный голландский пират со своими четырьмя матросами в далеком
Кионг-Джу задумал не больше не меньше как ограбить могилы царей древней
Силлы, погребенных в золотых гробах! Сделали они это ночью, и до утра
пробирались к берегу. Но на следующий день на землю спустился густой туман,
они заблудились и не нашли дороги к ожидавшей их джонке, которую Иоганнес
Маартенс тайком подготовил и оснастил. Он и его матросы были остановлены
Ин-Сун-Сином, местным судьей, одним из приверженцев Чонг-Монг-Джу. Только
Герману Тромпу удалось улизнуть в тумане, и много времени спустя он
рассказал мне о происшествии.
В эту ночь Кейджо и весь двор спали, ничего не ведая, хотя известие о
святотатстве уже побежало по Чо-Сену, и добрая половина северных провинций
восстала против своих чиновников. По приказу Чонг-Монг-Джу ночные костры
свидетельствовали о том, что в стране мир. Каждую ночь зажигались такие
костры, между тем как посланцы Чонг-Монг-Джу днем и ночью загоняли до смерти
лошадей на всех дорогах Чо-Сена. Мне довелось увидеть, как его гонец прибыл
в Кейджо. Были сумерки. Выходя из больших ворот столицы, я увидал, как пала
загнанная лошадь, и измученный ездок пошел пешком. Я не подозревал, что этот
человек несет с собой мой приговор...
Привезенные им вести послужили сигналом к дворцовой революции. Я должен
был вернуться только к полуночи, а к полуночи все уже было сделано. В девять
часов вечера заговорщики захватили императора в его личных покоях. Они
заставили его немедленно созвать всех министров, и когда те один за другим
появились, их зарубили на его глазах. Тем временем восстали тигровые
охотники и перестали повиноваться. Юн-Сана и Гендрика Гамеля жестоко избили
мечами плашмя и посадили в тюрьму. Семерым матросам удалось бежать из дворца
вместе с княжной Ом. Это удалось им благодаря Киму, который с мечом в руке
загородил путь своим собственным тигровым охотникам. Его изрубили и
перешагнули через тело. К несчастью, он не умер от этих ран.
Как вихрь в летнюю ночь, революция -- разумеется, дворцовая революция
-- пронеслась и стихла. Чонг-МонгДжу очутился на вершине власти. Император
утверждал все, чего требовал Чонг-Монг-Джу. Чо-Сен хранил спокойствие и
только ахал, узнав об осквернении царских могил, и рукоплескал
Чонг-Монг-Джу. Повсюду падали головы чиновников, которых Чонг-Монг-Джу
заменял своими приверженцами; но против династии народ не восстал.
А с нами вот что случилось. Иоганнеса Маартенса и его трех матросов
выставили плевкам черни половины деревень и городов Чо-Сена, а потом зарыли
в землю по самую шею на открытой площадке перед воротами дворца. Им давали
пить, чтобы тем сильнее хотелось есть: перед ними ставили и каждый час
меняли дымящиеся вкусные яства. Говорят, старый Иоганнес Маартенс жил дольше
всех, испустив дух лишь через пятнадцать дней.
Кима медленно измучили палачи, отнимая кость за костью и сустав за
суставом, и он не скоро умер. Гамеля, в котором Чонг-Монг-Джу угадал моего
наушника, казнили лопаткой -- быстро и ловко заколотили насмерть под
восторженные вопли подонков Кейджо. Юн-Сану дали умереть мужественной
смертью. Он играл в шахматы со своим тюремщиком, когда прибыл гонец от
императора или, вернее, от Чонг-Монг-Джу, с чашей яду.
-- Погоди немного, -- проговорил Юн-Сан. -- Нельзя отрывать человека во
время партии шахмат! Я выпью, как только кончу партию! -- И, покуда гонец
ждал, Юн-Сан окончил партию, выиграл ее, а потом осушил чашу.
Только азиат способен придумать настойчивую, неотвязную пожизненную
месть. Такую месть придумал ЧонгМонг-Джу для меня и княжны Ом. Он не
умертвил нас, даже не заключил в тюрьму. Княжну Ом лишили ранга и всего
имущества. Повсюду в Чо-Сене, до последней деревушки, был обнародован и
прибит императорский указ о том, что я происхожу из дома Кориу и никто не
смеет убивать меня. Дальше было объявлено, что семерых матросов, оставшихся
в живых, также нельзя убивать. Но им нельзя было оказывать и милосердия. Они
должны были сделаться отверженцами, нищими большой дороги. И мы с княжной Ом
тоже стали нищими большой дороги.
Последовало сорок долгих лет преследований. Ненависть Чонг-Монг-Джу к
княжне Ом и ко мне была неумолима, как смерть. На наше несчастье, судьба
даровала ему долгую жизнь -- и нам также. Я уже говорил, что княжна Ом была
чудо, не женщина! У меня нет более красноречивых слов, я могу только
повторять эти слова. Я слыхал, одна знатная дама как-то сказала своему
возлюбленному: "С тобой хоть шалаш и корка хлеба". В сущности, это самое
княжна Ом сказала мне. Но мало того что сказала -- буквально исполнила! А
сколько раз у нас не хватало даже корки и кровом нам служил свод небесный!
Все усилия, которые я прилагал к тому, чтобы избежать нищенства,
уничтожал Чонг-Монг-Джу. В Сонгдо я сделался дровоносом, и мы делили с
княжной Ом лачугу, которая мало чем была лучше открытой дороги в зимнюю
стужу. Но Чонг-Монг-Джу разыскал меня и здесь, меня отдубасили, надели
колодки на несколько дней и выгнали затем на дорогу. Это было суровой зимой
-- в эту зиму Фандерфоот замерз на улицах Кейджо.
В Пьенг-Янге я сделался водоносом. Этот древний город, стены которого
стояли еще во времена царя Давида, считался своими жителями чем-то вроде
челна, и рыть колодцы внутри его стен значило потопить город. И потому
каждый день тысячи кули с кувшинами на плечах брели к реке и обратно. Я стал
одним из них, но Чонг-МонгДжу разыскал меня. Меня избили и снова выгнали на
дорогу.
И это повторялось каждый раз. В далеком Виджу я сделался мясником:
убивал собак публично перед своим ларьком, резал и вешал туши для продажи,
дубил шкуры, распяливал их в грязи, которую месили прохожие своими ногами.
Но Чонг-Монг-Джу разыскал меня.
Я был помощником красильщика в Пионхане, золотоискателем на россыпях
Канг-Вуна, канатным мастером в Чиксане. Я плел соломенные шляпы в Подоке,
собирал сено в Хвансай, а в Мазенно продался на рисовую плантацию и
трудился, согнувшись в три погибели, на сырых полях, получая плату меньше
последнего кули. И не было такого места или времени, чтобы длинная рука
ЧонгМонг-Джу не достала меня, не покарала и не швырнула нищим на дорогу!
Мы с княжной Ом после двухлетних поисков нашли однажды
один-единственный корешок дикого горького женьшеня -- местные врачи так
высоко ценят этот корень, что на выручку от одного этого корня мы с княжной
Ом могли бы безбедно жить целый год. И когда я стал продавать его, меня
схватили, отняли корень, а потом избили и держали в колодках дольше
обыкновенного.
Везде и повсюду бродячие члены многолюдного цеха разносчиков доносили
обо мне, о всех моих делах и замыслах Чонг-Монг-Джу в Кейджо. Со времени
моего падения я только дважды встретился с Чонг-Монг-Джу лицом к лицу. В
первый раз это было во вьюжную зиму, ночью, на высоких горах Канг-Вуна. За
несколько медяков я купил себе и княжне Ом ночлег в самом грязном и холодном
углу единственной комнаты гостиницы. Мы только собрались было приступить к
нашему скудному ужину из конских бобов и дикого чесноку, сваренного вместе с
мясом быка, наверное, издыхавшего от старости, когда снаружи послышался звон
бронзовых колокольчиков и топот копыт. Дверь отворилась, и вошел
Чонг-Монг-Джу, олицетворение благополучия и власти; он стал стряхивать снег
со своих бесценных монгольских мехов. Тотчас же очистили место для него и
дюжины его спутников -- места было достаточно; но тут его взор упал на
княжну Ом и меня.
-- Вон этих гадов, что в углу, -- вон отсюда! -- скомандовал он.
И его конюхи выгнали нас кнутами на дорогу в снег. Как вы увидите,
спустя много лет нам пришлось еще раз встретиться.
Мне не было спасения. Перейти северную границу мне не позволили. Ни
разу не позволили сесть и в сампан у моря. Цех разносчиков разнес приказ
Чонг-Монг-Джу во все деревни, так что не было ни одной души, которая бы не
знала его. Я был обреченный человек.
Как хорошо я знаю каждую дорогу и горную тропинку Чо-Сена, все его
города и самые маленькие деревушки! Сорок лет скитался я и голодал в
Чо-Сене, и вместе со мной неизменно скиталась и голодала княжна Ом. Чего
только мы не ели с голодухи! Гнилые отбросы собачьего мяса, которые в
насмешку бросали нам мясники; минари -- водяной кресс, растущий в вонючих,
застоявшихся лужах; гнилой кимчи, от которого тошнило последнего мужика.
Увы, я крал даже кости у собак, ползая по большим дорогам, ища оброненных
зернышек риса, и в морозные ночи воровал у лошадей их дымящуюся бобовую
похлебку!
Не нужно удивляться тому, что я не умер. У меня были две поддержки:
первая -- княжна Ом, не покидавшая меня, вторая -- полная уверенность, что
наступит момент, когда мои пальцы сомкнутся на глотке ЧонгМонг-Джу!
Вечно прогоняемые от городских ворот Кейджо, где я подстерегал
Чонг-Монг-Джу, мы скитались годами и десятилетиями по всему Чо-Сену, и
каждый вершок дороги был теперь знаком нашим сандалиям. Наша история
известна была всей стране. Не было человека, который не знал бы нас и
наложенной на нас кары. Кули и разносчики выкрикивали оскорбления по адресу
княжны Ом, и им не раз случалось испытать цепкость моих пальцев, впивавшихся
в узел на их темени, и изведать крепость моих кулаков на их скулах. А
старухи в далеких горных деревнях, глядя на нищую женщину, шедшую рядом со
мной, на погибшую княжну Ом, вздыхали и качали головой, и глаза их
затуманивались слезами. Встречались молодые женщины, с состраданием
смотревшие на мои широкие плечи, на мои синие глаза и длинные желтые волосы
-- на того, кто некогда был принцем Кориу и владыкой провинции. И целые
толпы ребятишек бежали по пятам за нами, с криками и издевательствами,
осыпая нас грязной руганью.
За Ялу на ширину сорока миль тянулась полоса пустыни, составлявшая
северную границу и шедшая от моря до моря. В действительности это не была
пустыня -- ее сделала пустыней политика изоляции, которую проводил Чо-Сен.
На этой сорокамильной полосе уничтожены были все хутора, деревни и города.
Это была "ничья страна", кишевшая дикими зверями и пересекавшаяся только
отрядами конных тигровых охотников, которые обязаны были убивать всякого
человека, встреченного в этой полосе. Этим путем мы не могли бежать, как не
могли бежать и морем.
Годы проходили, мои семь матросов, товарищи по несчастью, чаще
появлялись в Фузане. Он находится на юго-восточном берегу, где климат мягче.
Но гораздо важнее климата было то, что это ближайший во всем ЧоСене путь к
Японии. Через узкий пролив, которого, однако, нельзя было окинуть даже
взглядом, лежала наша надежда на спасение. Из Японии, куда, несомненно,
время от времени приходили суда из Европы. Как сейчас вижу перед собой на
утесах Фузана этих семерых людей, жадно глядящих на море, по которому им не
суждено было больше плавать.
Временами показывались японские джонки, но ни разу мы не заметили
знакомого паруса старой Европы. Проходили годы, а семь матросов и я с
княжной Ом, вступившие уже из пожилого возраста в старость, все чаще
направляли свои стопы к Фузану. И по мере того как уходили годы, то один, то
другой отсутствовал на обычном месте. Первым умер Ганс Амден. Сообщил нам об
этом Якоб Бринкнер, его спутник по скитаниям. Якоб Бринкнер был последним из
семерки и умер почти девяноста лет, пережив Тромпа всего двумя годами. Я
хорошо помню этих двоих под конец: изможденные, ослабевшие. в отрепьях
нищих, с чашками для сбора милостыни, они рассказывали старинные сказки
детски-пискливыми голосами. Тромп без конца повторял их, как Иоганнес
Маартенс и матросы ограбили царей горы Табонга, лежавших набальзамированными
в золотых гробах и имевших справа и слева от себя по набальзамированной
девушке; и как эти древние цари рассыпались прахом за один час, в течение
которого матросы с проклятием тащили гробы.
Старый Иоганнес Маартенс, наверное, удрал бы через Желтое море со своей
добычей, если 6ы на другой день не случился туман, который погубил его. О,
этот проклятый туман! О нем сложили песню, которую я с ненавистью слушал по
всему Чо-Сену ежедневно вплоть до последнего дня. Вот две строчки из нее:
Густой туман западных людей
Висит над вершиной Веана.
Сорок лет я жил нищим в Чо-Сене. Один я остался в живых из четырнадцати
человек, выброшенных бурей на берег. Из такого же крепкого материала была
сложена и княжна Ом, и мы старились вместе. Она была теперь маленькая,
сморщенная, беззубая старушка; но все же это было чудо, а не женщина, и
сердце мое хранило ей верность до конца. Я же для семидесятилетнего старика
сохранил еще много силы. Лицо мое сморщилось, желтые волосы побелели,
широкие плечи согнулись. Но все же в моих мускулах осталась матросская сила.
Только благодаря ей я и оказался в состоянии сделать то, о чем сейчас
расскажу. В одно весеннее утро на склонах Фузана, у большой дороги, мы с
княжной Ом сели погреться на солнышке. Мы были в нищенских лохмотьях,
покрытых пылью, но все же я весело смеялся какой-то шутке княжны Ом, -- как
на нас пала тень. Это была тень от больших носилок Чонг-Монг-Джу, несомых
восемью кули, с верховыми спереди и позади и пышной свитой по бокам.
Два императора, гражданская война, голод и дюжина дворцовых революций
прошли и исчезли; а Чонг-МонгДжу остался и держал в своих руках власть над
Кейджо. В это весеннее утро на склонах Фузана ему было, вероятно, около
восьмидесяти лет, когда он подал своей парализованной рукой знак остановить
носилки, чтобы поглядеть на тех, кого он так долго истязал.
-- О, царь мой! -- пробормотала мне княжна Ом. Потом визгливо стала
просить милостыню у Чонг-МонгДжу, сделав вид, что не узнает его.
Я понял ее мысль. Не лелеяли ли мы ее все сорок лет? И момент
исполнения настал наконец. Поэтому я сделал вид, что не узнал своего врага,
и, напустив на себя вид впавшего в идиотизм старца, я пополз по пыли к его
носилкам, с визгом прося милостыню.
Свита отогнала бы меня прочь, но Чонг-Монг-Джу остановил своих слуг
дребезжащим голосом. Он оперся на трясущийся локоть, а другой трясущейся
рукой раздвинул занавески. Его сморщенное старческое лицо исказилось
гримасой восторга, когда он взглянул на нас.
-- О, мой царь, -- говорила княжна Ом, нищенски причитая; и я знал, что
вся ее бесконечно испытанная любовь и вера в мой замысел были вложены в эти
причитания.
И в это мгновение во мне поднялся багровый гнев. Неудивительно, что я
так и затрясся в усилиях овладеть собою. К счастью, они приняли эту дрожь за
старческую слабость. Я протянул мою медную чашку для сбора милостыни, еще
жалобнее завизжал и закрыл глаза, чтобы скрыть синий огонь, который, без
сомнения, пылал в них, а тем временем рассчитывал расстояние и силу для
своего прыжка.
И тут меня захлестнуло багровым пламенем. Раздался треск занавесок и
падающих шестов, раздались крики приближенных -- и мои пальцы сомкнулись на
глотке Чонг-Монг-Джу! Носилки опрокинулись, я перестал сознавать, что со
мной, но пальцы мои не разжимались.
Среди подушек, шестов и занавесей первые удары телохранителей почти не
чувствовались мной. Но вскоре подоспели верховые, град ударов рукоятками
бичей посыпался на мою голову, и множество рук схватили и терзали меня. У
меня кружилась голова, но я не потерял сознания и с чувством блаженства все
крепче стискивал своими старыми пальцами тощую, морщинистую, старую шею,
которую так долго искал. Град ударов продолжал сыпаться на мою голову, и в
мозгу моем быстро пронеслась мысль, что я похож на бульдога, сомкнувшего
челюсти. Чонг-Монг-Джу не ушел от меня, и я знаю, что он был мертв еще до
наступления темноты, в которую наконец погрузился и я на склонах Фузана у
Желтого моря.
Смотритель Этертон, когда думает обо мне, то едва ли испытывает при
этом чувство гордости. Я показал ему, что такое дух, я укротил его моим
собственным духом, неуязвимым, торжествующим, победившим все его попытки.
Вот я сижу в Фольсоме, в Коридоре Убийц, ожидая казни; смотритель Этертон
все еще занимает свое положение и царит над Сан-Квэнтином и над всеми
проклятыми душами, томящимися в его стенах; но в глубине души он знает, что
я выше его.
Тщетно пытался смотритель Этертон сломить мой дух. Без сомнения, были
моменты, когда он обрадовался бы, если бы я умер в смирительной куртке.
Пытка продолжалась. Как он мне сказал, и притом не раз, альтернатива
оставалась все та же: динамит или "пеленки"!
Капитан Джэми поседел в тюремных ужасах, и все же наступил момент,
когда он не выдержал нервного напряжения, которому я подвергал его и прочих
палачей. Он пришел в такое отчаяние, что осмелился прекословить смотрителю и
объявил, что умывает руки в этом деле. С этого дня и до конца моей пытки
ноги его не было в моей одиночке.
Наступило время, когда и смотритель Этертон струсил, хотя все еще
старался вырвать у меня признание, где я спрятал несуществующий динамит. В
конце концов его сильно смутил Джек Оппенгеймер. Оппенгеймер был бесстрашный
и прямодушный малый. Он перенес весь ад тюрьмы и обладал такой силой воли,
что никого из палачей не боялся. Моррель выстукал мне подробный отчет об
инциденте. Я в эту пору лежал без сознания в смирительной рубашке.
-- Смотритель Этертон, -- говорил Оппенгеймер, -- ты откусил больше,
чем можешь прожевать! Убить одного Стэндинга мало. Надо убить трех человек,
ибо если ты убьешь его, то рано или поздно Моррель и я расскажем об этом, и
то, что ты сделал, станет известно из конца в конец Калифорнии. Ты выбирай:
либо оставь в покое Стэндинга, либо убей нас всех троих. Стэндинг тебя не
боится, не боюсь тебя и я, не боится и Моррель. Ты трусливая вонючка, и у
тебя кишка тонка сделать грязное мясниково дело, которое ты задумал!
За это Оппенгеймер получил сто часов смирительной куртки, а когда его
развязали, он плюнул в рожу смотрителю и получил еще сто часов подряд. Когда
его на этот раз развязали, смотритель благоразумно не показывался в
одиночке. Что слова Оппенгеймера потрясли его, в этом не может быть
сомнения.
Но настоящим сатаной оказался доктор Джексон; для него я был новинкой,
и ему любопытно было узнать, сколько могу я выдержать, прежде чем сломлюсь.
-- Он может выдержать и двадцать дней подряд! -- объявил он смотрителю
в моем присутствии.
-- Какой вы консерватор, -- вмешался я. -- Я могу выдержать сорок дней.
Да что там! Так, как вы меня стягиваете, я могу выдержать и сто дней! -- И,
вспомнив, как я сорок лет терпел, пока мне представился случай впиться
пальцами в глотку Чонг-Монг-Джу, я добавил: -- Вы -- тюремные щенки, вы не
знаете, что такое человек! Вы думаете, что человек создан по вашему
трусливому подобию. Смотрите -- я человек! А вы -- дохлецы! Я выше вас. Вы
не можете заставить меня запищать. Вам это кажется удивительным только
потому, что вам известно, что сами вы давно бы запищали!
О, я ругал их, называя их жабьими сынами, чертовыми судомойками, грязью
выгребной ямы, ибо я был выше их, я был в н е их! Они были рабы, а я был
свободный дух. Здесь, в одиночке, лежало только мое тело, а не я. Я покидал
тело и мог свободно скитаться в пространстве, в то время как мое бедное
тело, даже не страдая, лежало, мертвое "малой смертью", в смирительной
рубашке.
О многих своих приключениях я простучал своим двум товарищам. Моррель
поверил мне, потому что он сам испытал "малую смерть". Но Оппенгеймер, хотя
и был захвачен моими рассказами, остался скептиком до конца. Он наивно, а
порой и очень трогательно сожалел, что я посвятил свою жизнь агрономии,
вместо того чтобы писать романы.
-- Да послушай же, -- убеждал я его, -- разве я сам что-нибудь знаю об
этом Чо-Сене? Я соображаю только, что это нынешняя Корея, и больше ничего!
Настолько-то я читал! Например, как могу я из опыта моей нынешней жизни
знать о "кимчи"? А я знаю кимчи! Это -- род кислой капусты. Когда она
испорчена, вонь от нее стоит до небес! Говорят тебе, когда я был Адамом
Стрэнгом, я ел кимчи тысячу раз. Мне хорошо знаком хороший кимчи, плохой
кимчи, гнилой кимчи. Я знаю, что наилучший кимчи готовят женщины в Осана.
Ну, откуда я знаю это? Этого нет в содержании моего ума, моей души, души
Дэрреля Стэндинга, это я взял из содержания души Адама Стрэнга, который
через целый ряд рождений и смертей завещал свои переживания мне, Дэррелю
Стэндингу, вместе с опытом разнообразных временных жизней, прожитых в
промежутки. Неужели ты не понимаешь, Джек? Вот как люди зачинаются,
вырастают, как рождается дух!
-- Брось это, -- ответил он мне быстрым повелительным стуком, который я
так хорошо знал. -- Ты теперь послушай, что скажут старшие! Я Джек
Оппенгеймер. Я всегда был Джеком Оппенгеймером. В моем теле нет никого
другого. То, что я знаю, я знаю как Джек Оппенгеймер. Что же я знаю? Я одно
скажу тебе! Я знаю кимчи. Кимчи -- род кислой капусты, изготовляемой в
стране, которую называли Чо-Сен. Женщины в Осана делают самый лучший кимчи,
а когда кимчи испорчен, он воняет до небес. Ты помалкивай, Эд! Погоди, пока
я разделаюсь с профессором! Так вот, профессор. Откуда я знаю всю эту
дребедень о кимчи? Ее нет в содержании моей души.
-- Нет, есть! -- ликовал я. -- Я вложил ее в тебя!
-- Отлично, дружище. Но кто вложил это в твою голову?
-- Адам Стрэнг.
-- Ни в какой степени! Адам Стрэнг -- выдумка; ты это где-нибудь
вычитал.
-- Никогда! -- клялся я. -- О Корее я только и читал, что в военных
корреспонденциях во время японско-русской войны.
-- А ты помнишь все, что читал? -- спрашивал Оппенгеймер.
-- Нет.
-- Что-нибудь забыл?
-- Да, но...
-- Довольно, благодарю вас! -- перебил он на манер адвоката, который
обрывает перекрестный допрос, выудив у свидетеля фатальное признание.
Не было возможности убедить Оппенгеймера в моей искренности! Он
настаивал, что я тут же все выдумываю, хотя восхищался моей манерой
"продолжение следует"; в промежутках, когда я отдыхал от смирительной
куртки, он постоянно просил меня рассказать ему еще несколько глав.
-- Ну, профессор, выкладывай свою дребедень, -- перебивал он
метафизические беседы между мной и Моррелем, -- и расскажи еще что-нибудь о
ки-санг и матросах! Расскажи, кстати, что сталось с принцессой Ом, когда ее
головорез супруг задушил старика скареда и издох!
Сколько раз говорил я, что форма погибает! Я повторю это: форма
погибает. Материя не имеет памяти. Только дух помнит. Вот как здесь, в
тюремной камере, спустя столетия, все, что я знал о принцессе Ом и
Чонг-МонгДжу, держалось в моей душе, от меня перешло в душу Джека
Оппенгеймера, а от него вернулось ко мне на жаргоне Запада. А теперь я
сообщил все это вашей душе, мой читатель. Попробуйте это выжечь из вашей
души, вы не сможете! Сколько вы ни будете жить, то, что я вам сказал, будет
при вас. Душа? Только то и есть прочного, что душа! Материя, вещество
изменяются, кристаллизуются, плавятся, и формы не повторяются. Формы
разлагаются в вечное небытие, из которого нет возврата. Форма есть видение,
она проходит, как прошли физические формы принцессы Ом и Чонг-Монг-Джу. Но
память о них остается, всегда будет оставаться, покуда существует дух; а дух
неразрушим.
-- Одно только ясно, -- заметил Оппенгеймер, выслушав мои рассказы о
приключениях Адама Стрэнга, -- именно что ты больше шатался по китайским
кабакам и притонам, чем полагается респектабельному профессору университета.
Зло заразительно, знаешь! Я полагаю, это и привело тебя сюда!
Прежде чем вернуться к моим приключениям, я должен рассказать об одном
замечательном инциденте, который произошел в одиночке. Замечателен он в двух
отношениях: во-первых, он показывает изумительные умственные способности
этого бродяги Джека Оппенгеймера; а во-вторых -- доказывает действительность
моих переживаний во время оцепенения "в пеленках".
-- Скажи, профессор, -- простучал мне как-то Оппенгеймер. -- Когда ты
рассказываешь эту историю об Адаме Стрэнге, то я вспоминаю, что ты раз играл
в шахматы с братом императора. Похожи ли эти шахматы на наши?
Разумеется, мне пришлось ответить, что я не знаю, что я не помню
деталей, когда возвращаюсь в свое нормальное состояние, и разумеется, он
добродушно засмеялся, сказав, что я его морочу. Но я отчетливо помнил, что в
бытность Адамом Стрэнгом я часто играл в шахматы. Беда была в том, что когда
я приходил в себя в одиночке, то несущественные и случайные детали обычно
испарялись из моей памяти.
Не нужно забывать, что удобства ради я собрал мои предшествовавшие и
повторные переживания в смирительной рубашке в связные, последовательные
рассказы. Я никогда не знал заранее, куда унесут меня мои скитания во
времени. Например, я раз двадцать возвращался к Джессу Фэнчеру и кругу
повозок на Горных Лугах. За десять дней лежания в смирительной куртке я
вновь и вновь возвращался к той или иной жизни. часто перепрыгивал через
целый ряд жизней, которые переживал в другие моменты, вплоть до
доисторических времен.
И вот я решил, когда вернусь в следующий раз из бытия Адама Стрэнга, то
немедленно по возвращении ко мне сознания сосредоточусь на всех видениях и
воспоминаниях об игре в шахматы. И как назло, целый месяц мне пришлось
терпеть насмешки Оппенгеймера, пока это случилось. Но как только меня
выпустили из смирительной куртки и кровообращение мое восстановилось, я
тотчас же начал выстукивать свои сообщения.
Далее, я научил Оппенгеймера игре в шахматы, в которые Адам Стрэнг
играл в Чо-Сене несколькими столетиями раньше. Она отличалась от западной
игры, но в основе своей была такая же и, должно быть, вела свое
происхождение тоже из Индии. Вместо наших шестидесяти четырех квадратов
здесь был восемьдесят один квадрат. У нас на стороне восемь пешек, у них
было девять; и хотя перемещение фигур ограничено, но принцип их перемещения
другой.
В игре Чо-Сена вместо наших шестнадцати фигур было двадцать, и
располагались они тремя рядами, вместо двух. Так, в первом ряду стояло
девять пешек; в среднем ряду стояли две фигуры вроде наших слонов, в
последнем ряду посередине стоял король, имея с каждого боку "золотую
монету", "серебряную монету", "рыцаря" и "копье". Как видим, в шахматах
Чо-Сена нет королевы. Другое важное отличие заключается в том, что взятая
фигура или пешка не убирается с шахматной доски. Она становится
собственностью захватчика, и он играет ею.
Так вот, я научил Оппенгеймера этой игре -- куда более трудной, чем
наша, если принять в соображение постоянный захват и отдачу фигур и пешек.
Одиночные камеры не отапливаются. Было бы упущением избавить каторжника хоть
от какой-нибудь стихийной невзгоды! Увлекаясь шахматами Чо-Сена, мы с
Оппенгеймером незаметно провели много морозных дней в эту и следующую зиму.
Но я никак не мог убедить его, что я действительно пронес эту игру в
Сан-Квэнтине через столетия. Он настаивал, что я о ней где-нибудь читал,
хотя забыл, где именно, но содержание чтения осталось в душе моей и теперь
проявляется в бреднях. Так он бил меня моей собственной психологией.
-- И что может помешать тебе выдумать все это здесь, в одиночке? --
была его следующая гипотеза. -- Разве Эд не изобрел перестукивания и разве
мы не усовершенствовали его? Что, попался? Ты это выдумал; знаешь -- возьми
патент! Я помню, когда я был ночным посыльным, то один парень изобрел глупую
игру, которая называется "свиньи в траве", и зашиб на ней миллион!
-- Это нельзя патентовать, -- отвечал я. -- Без сомнения, азиаты играют
в нее тысячи лет. Неужели ты не веришь, когда я говорю тебе, что я ее не
выдумал?
-- Значит, ты читал о ней или видел, как китайцы играют в нее в этих
кабаках, в которых ты всегда околачивался! -- было его последнее слово.
Впрочем, последнее слово осталось за мной. Здесь, в Фольсоме, имеется
убийца-японец -- или, вернее, был, потому что на прошлой неделе его казнили.
Я с ним говорил об этом; и игра, в которую играл Адам Стрэнг и которой я
научил Оппенгеймера, была очень похожа на японскую игру. Между этими играми
гораздо более сходства, чем у каждой из них с западными шахматами.
Вы помните, читатель, начало моего повествования -- как я был маленьким
мальчиком на ферме в Миннесоте, рассматривал фотографии Святой Земли, и
узнавал места, и указывал перемены, происшедшие в них. Вы помните также
описанную мной сцену исцеления прокаженных, которой я был свидетелем и о
которой сказал миссионеру, что я помню себя взрослым человеком с большим
мечом, сидящим верхом на коне и наблюдающим все происходившее передо мной.
Этот инцидент моего детства был просто "туманным облачком славы" по
выражению Вордсворта. "Не в полноте забвенья" пришел я, маленький Дэррель
Стэндинг, в этот мир! Но эти воспоминания о многих местах и моментах,
всплывшие на поверхности моего собственного сознания, скоро поблекли. Как
это бывает со всеми детьми, мрак телесной темницы сомкнулся надо мной, и я
не помнил уже моего славного прошлого. У каждого человека, рожденного
женщиной, есть такое же славное прошлое, как у меня. Но очень немногие люди,
рожденные женщиной, имели счастье страдать годы в одиночке, в смирительной
рубашке. Это счастье выпало мне на долю. Я получил возможность многое
вспомнить, и, между прочим, то время, когда я сидел на коне и видел
исцеление прокаженных.
Меня звали тогда Рагнар Лодброг. Я действительно был рослый мужчина. Я
на полголовы был выше римлян моего легиона. Но это было позднее, после моего
путешествия из Александрии в Иерусалим, когда я получил начальство над
легионом. Шумная была жизнь! Сколько бы лет я ни писал, сколько бы книг ни
сочинял, я не мог бы описать всего. Поэтому я сокращу повествование и лишь
слегка коснусь начала этих событий.
Передо мной все рисуется ясно и четко, за исключением начала. Матери
моей я не знал. Мне рассказывали, что я родился в бурю на острогрудом
корабле, в северном море, от женщины-полонянки, после морского сражения и
разгрома прибрежной крепости. Имени моей матери я не знал. Она умерла в
разгар бури. Она была родом северная датчанка -- так мне рассказывал старый
Лингорд. Он рассказал мне многое из того, чего я не мог помнить, но вообще
рассказывал мало. Морское сражение и штурм, бой, грабежи, дымные факелы,
бегство кораблей в открытое море, чтобы не разбиться о скалы, отчаянная,
убийственная борьба с яростными бушующими волнами -- кто мог в это время
заметить иноземную женщину, рождающую ребенка и одной ногой стоящую в гробу?
Многие умерли. Люди обращали внимание на живых женщин, а не на мертвых.
Отчетливо врезались в мою детскую память события, немедленно
последовавшие после моего рождения, и те, о которых мне рассказывал старый
Лингорд. Лингорд был слишком стар для работы, но Лингорд был врачом,
могильщиком и повивальной бабкой пленников, связанных на открытой палубе. Я
родился в бурю, под соленой пеной сердитых волн.
Немного часов прошло после моего рождения, когда Тостиг Лодброг впервые
заметил меня. Ему принадлежал узкогрудый корабль и семь других узкогрудых
кораблей, проделавших набег, увозивших награбленное и победивших бурю.
Тостига Лодброга звали также Муспеллем, что означает "Пылающий", ибо он
всегда пылал гневом. Он был храбр и жесток, и его огромная грудь скрывала
сердце, не знавшее пощады. Еще не высох на нем пот сражения, как он,
опершись на свою секиру, съел сердце Нгруна после битвы при Гасфарте. В
припадке безумного гнева он продал своего сына Гарульфа в рабство ютам. Я
помню, как он под прокопченными балками Бруннанбура требовал себе череп
Гутлафа, чтобы пить из него вино. Он не пил приправленного пряностями вина
из другого кубка, кроме этого черепа Гутлафа.
И вот к нему, как только прошла буря, старый Лингорд принес меня по
шатающейся палубе. Прошло всего несколько часов с минуты моего рождения, и я
был завернут в волчью шкуру, пропитанную морской солью.
Будучи рожден прежде времени, я был страшно мал.
-- Ого, карлик! -- вскрикнул Тостиг, оторвав от губ полуосушенный
кувшин с медом, чтобы посмотреть на меня.
День был холодный, но он вынул меня из волчьей шкуры и, зажав мою ножку
между большим и указательным пальцами, болтал мною в воздухе под холодным
ветром.
-- Козявка! -- грохотал он. -- Креветка! Морская вошь! -- И он начал
стискивать меня своими огромными указательным и большим пальцами, из которых
каждый, по утверждению Лингорда, был более толст, чем мои ноги.
Но тут его осенила другая капризная мысль.
-- Малец хочет пить! Пусть напьется!
И он ткнул меня прямо головой в кувшин с медом. Наверное, я утонул бы в
этом напитке мужчин, -- я, не прикасавшийся к материнской груди за короткое
время своей жизни, -- если бы не Лингорд. Но когда Лингорд вытянул меня из
кувшина, Тостиг Лодброг толкнул его в бешеном гневе. Мы покатились по
палубе, и огромные волкодавы, взятые в плен в бою с северными датчанами,
бросились на нас.
-- Го, го! -- грохотал Тостиг Лодброг, в то время как собаки терзали
меня в моей волчьей шкуре и старика.
Но Лингорд вскочил на ноги и спас меня, оставив в добычу собакам волчью
шкуру.
Тостиг Лодброг выпил мед и уставился на меня; Лингорд не стал просить
пощады, отлично зная, что пощады не будет.
-- Мальчик с пальчик! -- вымолвил наконец Тостиг. -- Клянусь Одином,
женщины северных датчан дрянное племя. Они рожают карликов, а не мужчин. На
кой черт эта дрянь? Из него никогда не будет мужчины! Послушай Лингорд,
вырасти из него виночерпия для Бруннанбура. И смотри, чтобы собаки
как-нибудь не слопали его по ошибке, приняв за кусок со стола!
Я рос, не зная женского ухода. Старый Лингорд был мне повивальной
бабкой и нянькой, детской мне служили шаткие палубы, и убаюкивал меня топот
людей в сражение или бурю. Как я пережил дни младенчества, одному Богу
известно! Должно быть, я родился железным в те железные дни, ибо я выжил и
опроверг предсказания Тостига насчет карлика! Я быстро перерос все кубки и
чаши, и Тостигу уже трудно было бы утопить меня в своем кувшине для меда. А
он очень любил эту забаву. Он ее считал остроумной!
Первое, что рисуется в моих воспоминаниях, -- это острогрудый корабль
Тостига Лодброга, его бойцы и зал для пиршеств в Бруннанбуре, в то время как
наши суда лежали у берега замерзшего фиорда. Меня сделали там виночерпием, и
я помню себя ребенком, появляющимся с черепом Гутлафа, доверху налитым
вином. Я подавал его Тостигу, который сидел на главном месте за столом, и
голос его наполнял все здание до потолочных балок. Они положительно были
какие-то бесноватые, эти люди, но мне эта жизнь казалась нормальной, ибо я
не знал другой. Они быстро приходили в ярость и начинали драться. Драки их
носили жестокий характер; они и ели и пили, как звери; и я рос, как они. Да
и как оно могло быть иначе, раз я подавал вино пьяным крикунам и скальдам,
воспевавшим Гиалля, и смелого Хогни, и золото Нифлунга, горланившим песни о
том, как Гудрун отомстил Атли, дав ему поесть сердца своих и его детей!
О, я тоже знавал моменты гнева, воспитанный в этой школе! Мне было
всего восемь лет, когда я показал зубы на попойке хозяев Бруннанбура с
ютами, которые приплыли в качестве друзей с Ярлом Агардом на его трех
длинных кораблях. Я стоял у плеча Тостига Лодброга, держа в руках череп
Гутлафа, дымившийся горячим пряным вином. Я дожидался, пока Тостиг кончит
свои бредни и ругань по адресу северных датчан. Он бесновался, а я ждал,
пока он не вздумал оскорбить женщину, северную датчанку. Тут я вспомнил, что
моей матерью была северная датчанка, перед глазами у меня все побагровело от
гнева, и я запустил в него черепом Гутлафа, так что он чуть не потонул в
вине: вино ослепило и обожгло его, И когда он, ничего не видя, зашатался,
размахивая в воздухе своими огромными кулаками, я трижды ударил его коротким
кинжалом в живот, бедро и ягодицу -- выше я не мог достать.
Ярл Агард выхватил свой клинок, и юты присоединились к нему с криками:
-- Медвежонок, медвежонок! Клянусь Одином, пусть медвежонок дерется!
И вот под крышей Бруннанбура маленький виночерпий северных датчан стал
драться с могучим Лодброгом. Когда он отбросил меня одним ударом и я
отлетел, ошеломленный и бездыханный, на половину длины огромного стола,
опрокидывая кубки и кружки, Лодброг крикнул:
-- Вон его! Бросьте его собакам!
Но Ярл не захотел этого; похлопав Лодброга по плечу, он попросил
подарить меня ему в знак дружбы.
Когда лед на фиорде растаял, я поплыл на юг на корабле Ярла Агарда. Я
сделался его виночерпием и оруженосцем и за неимением другого имени был
назван Рагнаром Лодброгом. Страна Агарда граничила со страной фризов -- это
была унылая равнина, туманная и топкая. Я прожил с ним три года, до самой
его смерти, неизменно следуя за ним -- на охоте ли за болотными волками, на
попойках ли в огромном зале, где Эльгива, его жена, часто сидела со своими
женщинами. Я поплыл с Агардом в набег на юг, вдоль берегов Франции, и здесь
я узнал, что чем южнее, тем и природа, и женщина теплее и мягче.
Агарда мы привезли раненым и умирающим. Мы сожгли его тело на огромном
костре и вместе с его трупом его молодую жену Эльгиву в золотых латах и
поющую. Вместе с нею было сожжено много ее рабов в золотых ошейниках, девять
рабынь, а также восемь рабов -- англов благородного происхождения, плененных
в бою. Были заживо сожжены сокола и с ними два сокольничьих.
Но меня, виночерпия Рагнара Лодброга, не сожгли. Мне было одиннадцать
лет. Я был бесстрашен и никогда еще не носил на своем теле тканой одежды. И
когда разгорелось пламя, и Эльгива запела свою смертную песню, а рабы и
рабыни воплями изъявили свое нежелание умирать, я разорвал свои узы,
спрыгнул с костра и с золотым ошейником, знаком моего рабства, побежал в
болото, спасаясь от спущенных на меня собак.
В болотах жили дикие бесстрашные люди, беглые рабы и отверженцы, на
которых охотились ради забавы, как охотятся на волков.
Три года я не знал ни крова, ни огня, закалился на морозе и украл бы
женщину у ютов, если бы фризы после двухдневной охоты не накрыли меня. Они
сняли с меня золотой ошейник и продали меня за двух гончих Эдви, саксонцу,
который надел на меня железный ошейник, а потом преподнес меня и пятерых
других рабов в подарок Этелю, родом из восточных англов. Я был рабом и
подневольным бойцом, пока, заблудившись в неудачном набеге на восток, не был
продан гуннам, я жил у них свинопасом; потом бежал на юг в огромные леса;
здесь меня приняли, как свободного, в свою среду тевтонцы, -- их было много,
но жили они небольшими кланами и двигались к югу, удаляясь от наступавших
гуннов.
А с юга в дремучие леса пришли римляне, все до одного бойцы, погнавшие
нас обратно к гуннам. Это было столкновение народов вследствие недостатка
места; и мы показали римлянам, что такое бой, хотя, правду сказать, и сами
от них научились многому.
Но я не мог забыть солнце южных краев, которое я видел с корабля
Агарда, и рок судил мне, захваченному в южный поток тевтонцев, попасться в
плен к римлянам. Меня отвезли к морю, которого я не видел с той поры, как
заблудился, уйдя от восточных англов. Меня сделали гребцом на галерах, и
подневольным гребцом я прибыл наконец в Рим.
Долго было бы рассказывать, как я сделался вольноотпущенником,
гражданином и воином, и как на тридцатом году жизни я отправился морем в
Александрию, а из Александрии в Иерусалим. Но мне необходимо было
рассказать, что было со мной после того, как я получил крещение в кувшине с
медом у Тостига Лодброга, иначе вы не знали бы, что за человек въехал в
Яффские ворота, привлекая к себе взоры толпы.
И было на что посмотреть! Они были маленькие, тонкокостые люди -- и
римляне, и евреи, -- и блондинов, вроде меня, им никогда не случалось
видеть. Они расступались передо мною в узких уличках и стояли по сторонам,
глазея на желтоволосого человека с севера или бог знает откуда.
В сущности, войска Пилата все были вспомогательными войсками, если не
считать горсточки римлян во дворце и двух десятков римлян, приехавших со
мной. Я нередко убеждался в том, что вспомогательные войска -- хорошие
солдаты, но они были не всегда надежны, в отличие от римлян. Последние были
недурные бойцы и всегда боролись одинаково, тогда как мы, северяне,
сражались только в минуту настроения. Римлянин постоянен характером и потому
надежен.
В вечер моего прибытия я встретил у Пилата одну женщину из дворца
Антипы -- подругу жены Пилата. Я буду называть ее Мириам, ибо под этим
именем я ее полюбил. Если бы необходимо было описать прелесть женщины, то я
описал бы Мириам. Но как описать душевное волнение? Прелесть женщины
неизъяснима словами. Она не имеет ничего общего с познаванием, завершающимся
рассудочным процессом, ибо возникает она из ощущения и завершается эмоцией,
которая в конце концов представляет собой не что иное, как сверхощущение.
Вообще говоря, всякая женщина представляет прелесть для мужчины. Когда
эта прелесть получает личный характер, то мы называем ее любовью. Мириам
обладала этой личной прелестью для меня. Действительно, я был соучастником
ее прелести! Половину ее составляла моя собственная мужественность, которая
затрепетала, встретив распростертые объятия, и сделала Мириам желанной для
меня.
Мириам была величественная женщина. Я умышленно употребляю это слово.
Она была прекрасно сложена, имела властную осанку и ростом была выше
большинства еврейских женщин. На общественной лестнице она была
аристократкой, но она была аристократкой и по натуре. Все ее поступки были
великодушны и благородны. Она была умна и остроумна, а главное --
женственна. Как вы увидите, эта-то женственность в конце концов погубила ее
и меня. Брюнетка с оливковой кожей, с овальным лицом, с иссиня-черными
волосами и глазами точно две черные бездны. Я никогда еще не встречал более
ярко выраженных типов блондина и брюнетки, как мы с нею.
Мы тотчас же познакомились. Ни размышлениям, ни ожиданиям, ни
колебаниям не было места. Она была моей с первой минуты, как я взглянул на
нее. И так же хорошо она поняла, что я принадлежу ей. Я устремился к ней.
Она приподнялась на ложе, словно ее толкнули ко мне. И наши глаза, голубые и
черные, слились в одном взгляде, пока жена Пилата, тщедушная, усталая
женщина, не засмеялась нервным смехом. И пока я, склоняясь, приветствовал
жену Пилата, мне показалось, что Пилат бросил на Мириам многозначительный
взгляд, словно говоря: "Правда, он такой, как я говорил?" Он знал о моем
предстоящем приезде от Сульпиция Квириния, сирийского легата. Точно так же и
мы с Пилатом знали друг друга еще до того дня, как он отправился наместником
на семитический вулкан в Иерусалим.
Много беседовали мы в этот вечер с Пилатом, который подробно рассказал
мне о положении вещей на местах; казалось, он был одинок, ему хотелось
поделиться своими тревогами с кем-нибудь и даже просить совета. Пилат был
тип солидного римлянина с достаточным воображением, чтобы разумно проводить
железную политику Рима, и нелегко раздражался.
Но в этот вечер ясно было, что он чем-то удручен. Евреи действовали ему
на нервы. У них была слишком вулканическая, судорожная натура. Кроме того,
они были хитры. У римлян прямая, откровенная манера действовать. Евреи
никогда и ни к чему не шли прямо, -- разве что назад, и то когда их толкали
силой. Предоставленные самим себе, они ко всему подходили окружными путями.
Пилат был раздражен тем, что евреи, по его словам, вечно интриговали, чтобы
сделать его, а через него и Рим ответственным за их религиозные раздоры. Мне
было хорошо известно, что Рим не вмешивался в религиозные убеждения
покоренных им народов; но евреи всегда умели запутать любой вопрос и придать
политический характер совершенно не политическим событиям.
Пилат стал подробно рассказывать мне о разнообразных сектах и
фанатических восстаниях и мятежах, то и дело возникавших.
-- Лодброг! -- говорил он. -- Никогда нельзя сказать наперед, что
облачко, поднятое ими, не превратится в грозовую тучу. Я послан сюда
поддерживать порядок и спокойствие. Несмотря на все мои усилия, они
превращают свой край в гнездо шершней! Я бы охотнее согласился управлять
скифами или дикими бриттами, чем этими людьми, вечно волнующимися из-за
вопроса о Боге. Вот и сейчас на севере появился какой-то рыбак,
превратившийся в проповедника и чудотворца; я не удивлюсь, если скоро он
увлечет за собой весь край и добьется того, что меня отзовут в Рим.
Я впервые услышал о человеке, называемом Иисусом, и в ту пору мало
обратил внимания на услышанное. Только впоследствии я вспомнил про него --
когда летнее облачко превратилось в настоящую грозовую тучу.
-- Я наводил справки о нем, -- продолжал Пилат. -- Он не политический
деятель, в этом не может быть сомнения. Но можно быть уверенным, что Каиафа,
а за спиной Каиафы Ханан, сделает из этого рыбака политическую занозу,
которою уколет Рим и погубит меня.
-- О Каиафе я слыхал как о первосвященнике; а кто же такой Ханан? --
спросил я.
-- Это действительный первосвященник; хитрая лисица! -- объяснил Пилат.
-- Каиафа был назначен Валерием Гратом, но Каиафа -- просто тень и рупор
Ханана.
-- Они все не могут забыть тебе этой маленькой истории со скрижалями,
-- поддразнила его Мириам.
Пилат, как человек, задетый за живое, стал подробно рассказывать об
этом эпизоде, который вначале был не больше как эпизод, но впоследствии чуть
не погубил его. Не думая ничего дурного, он пред своим дворцом укрепил два
щита с надписями. Не прошла еще буря, разразившаяся над его головой, как
евреи пожаловались Тиберию, который согласился с ними и сделал выговор
Пилату.
Я очень обрадовался, когда немного позднее получил возможность
беседовать с Мириам. Жена Пилата нашла случай рассказать мне о ней. Мириам
была старинного царского рода. Сестра ее была женой Филиппа, тетрарха
Гаулонитиса и Батанеи. Этот Филипп был братом Антипы, тетрарха Галилеи и
Переи, и оба они были сыновьями Ирода, называемого евреями Великим. Как я
узнал, Мириам бывала запросто при дворах обоих тетрархов, как особа царской
крови. Еще девочкой она была обручена Архелаю, тогдашнему этнарху
Иерусалима. Она обладала порядочным состоянием, так что брак этот не был
принудительным. Вдобавок она была человеком с волей, и без сомнения, ее было
нелегко уговорить в таком вопросе, как замужество.
Должно быть, это носилось в самом воздухе, которым мы дышали, ибо очень
скоро мы с Мириам заговорили о религии. Право, евреи в те дни были такими же
специалистами по части веры, как мы по части драки и попоек! Во все
пребывание мое в этой стране не было минуты, когда у меня не шумело бы в
голове от бесчисленных споров о жизни и смерти, о законе и Боге. Пилат не
верил ни в Бога, ни в черта, ни во что решительно. Для него смерть была
просто мраком непрерывного сна. И все же в бытность в Иерусалиме он нередко
сам заражался пылом религиозных споров. Да что там! Когда я ехал в Идумею,
со мной был мальчишка, жалкое создание, который никак не мог научиться
садиться в седло, -- и однако он мог, как заправский ученый, не переводя
дух, с заката до зари толковать о головоломных разногласиях в учениях всех
раввинов от Шемайи до Гамалиеля!
Но обратимся к Мириам.
-- Ты веришь, что ты бессмертен, -- сказала она мне. -- Так почему же
ты боишься говорить об этом?
-- Зачем же обременять свой ум мыслями о достоверных вещах? -- возразил
я
-- Но разве ты уверен? -- не отставала она. -- Расскажи мне об этом: на
что похоже ваше бессмертие?
И когда я рассказал ей о Нифельгейме и Мусцелле, о рождении гиганта
Ильгира из снежных хлопьев, о корове Андгумбле, о Фенрире и Локи и замерзших
иогунах, -- когда я рассказал ей обо всем этом, и о Торе, и об Одине, и о
нашей Валгалле, она захлопала в ладоши и, сверкая глазами, воскликнула:
-- О ты, варвар! Ты, большой ребенок! Ты, белокурый гигант, порождение
мороза! Ты веришь в старые бабьи сказки. Но вот дух, твой бессмертный дух,
-- куда он отправится, когда тело умрет?
-- Как я уже говорил -- в Валгаллу, -- отвечал я. -- И тело мое тоже
будет там.
-- Будет есть? Пить? Сражаться?
-- И любить, -- добавил я. -- У нас должны быть женщины в небесах,
иначе на что же небеса?
-- Мне не нравятся твои небеса, -- отвечала она. -- Это безумное место,
звериное место, место мороза, бурь и ярости!
-- Ну, а твое-то небо? -- спросил я.
-- Это небо вечного лета, зрелых плодов и цветов!
Я покачал головой и проворчал:
-- Но мне не нравится твое небо. Это скучное, изнеженное место, место
для слабосильных людей, для евнухов и для жирных, плачущих теней мужчины!
Должно быть, мои замечания пленили ее, потому что глаза у нее стали
искриться, а мой взгляд, вероятно, выдавал, что я догадываюсь о ее намерении
подразнить меня.
-- Мое небо, -- продолжала она, -- обитель блаженных!
-- Обитель блаженных -- Валгалла! -- ответил я. -- Подумай, кому
интересны цветы там, где цветы всегда существуют? На моей родине, после того
как спадут железные оковы зимы и солнце прогонит долгую ночь, первые
цветочки, проглянувшие из-под тающего льда, -- источник радости, и мы
смотрим, смотрим на них без конца!
-- А огонь! -- восклицал я. -- Великий славный огонь! Нечего сказать,
хорошо ваше небо, где человек не может даже оценить ревущей печки под
плотной крышей, за которою гудит ветер и носится вьюга!
-- Очень вы простой народ, -- возражала она. -- Вы строите крышу и
разводите огонь в снежном сугробе и называете это небом. У нас на небесах не
приходится прятаться от ветра и снега!
-- Нет, -- отвечал я. -- Мы строим кровли и разводим огонь для того,
чтобы уходить от них на мороз и вьюгу и возвращаться с мороза и вьюги!
Человек создан для борьбы с морозом и бурями! Свой огонь и кровлю создает он
в борьбе -- я знаю! Однажды я три года подряд не знал ни крова, ни огня. Мне
было шестнадцать лет, и я стал мужчиной прежде, чем надел ткань на свое
тело. Я родился в бурю, после битвы, и пеленками моими была волчья шкура.
Посмотри на меня, и ты поймешь, какие люди живут в Валгалле!
И она посмотрела на меня с явным восхищением и воскликнула:
-- О ты, огромный желтый гигант! -- При этом она задумчиво прибавила:
-- Я почти готова жалеть, что в моем раю нет таких мужчин!
-- Мир велик, -- утешил я ее. -- В нем найдется место для многих небес.
Мне кажется, каждому дано небо по желанию его сердца! Настоящая родина
действительно за гробом. Я не сомневаюсь в том, что мне еще придется
покинуть наши пиршественные чертоги, сделать набег на твои солнечные и
полные цветов берега и похитить тебя -- так похитили мою мать...
В промежутках я глядел на нее, а она глядела на меня, не отводя глаз.
Кровь так и кипела во мне. Клянусь Одином, это была н а с т о я щ а я
женщина!
Не знаю, что за этим последовало бы, ибо Пилат, прекративший свою
беседу с Амбивием и с некоторого времени улыбавшийся, нарушил молчание.
-- Раввин, тевтобургский раввин! -- насмешливо проговорил он. -- Новый
проповедник и новое учение пришли в Иерусалим! Пойдут новые несогласия,
мятежи и побиение пророка камнями! Спаси нас боги, ведь это настоящий
сумасшедший дом! Лодброг! Не ожидал я этого от тебя! Ты шумишь и кипятишься,
как любой безумец в пустыне, о том, что с тобой будет после того, как ты
умрешь. Живи только одну жизнь зараз, Лодброг, это избавит тебя от хлопот!
-- Продолжай, Мириам, продолжай! -- восклицала жена Пилата.
Она вошла во время спора с крепко сжатыми руками, и у меня промелькнула
мысль, что она уже отравлена религиозным безумием Иерусалима; во всяком
случае, как я впоследствии узнал, она очень интересовалась религиозными
вопросами. Это была худощавая женщина, словно снедаемая лихорадкой. Мне
казалось, что если она поднимет ладони между мной и светом, так они окажутся
прозрачными.
Она была очень добрая женщина, но страшно нервная и иногда просто
бредила темными знамениями и приметами. Ей даже бывали видения и слышались
голоса. Что касается меня, то у меня не хватило терпения выслушивать этот
вздор. Но она была хорошая женщина, и сердце у нее было не злое.
Я был отправлен с поручением к Тиверию и, к сожалению, очень мало видел
Мириам. По возвращении я узнал, что она уехала в Батанию ко двору Филиппа,
где жила ее сестра. Я опять попал в Иерусалим, и, хотя у меня, собственно,
не было дел у Филиппа, человека слабого и покорного воле римлян, я съездил в
Батанию, надеясь увидеть Мириам.
Потом мне пришлось поехать в Идумею. Я ездил и в Сирию по приказу
Сульпиция Квириния, который в качестве императорского легата хотел через
меня получить из первых рук доклад о положении дел в Иерусалиме. Так,
постоянно путешествуя, я имел случай наблюдать многие странности евреев,
помешанных на Боге.
Это была их особенность. Они не довольствовались тем, чтобы оставлять
эти дела своим священникам, но сами становились священниками и
проповедовали, если находили слушателей. А слушатели всегда находились в
изобилии!
Они бросали свои дела, чтобы шататься по стране нищими, ссориться и
спорить с раввинами и талмудистами в синагогах и на папертях храмов. В
Галилее, мало известном краю, жители которого слыли глупыми, я впервые
пересек след человека, называемого Иисусом. По-видимому, он был плотником, а
после рыбаком, и его товарищи по рыбацкому ремеслу побросали свои невода и
последовали за ним в его бродячей жизни. Некоторые видели в нем пророка, но
большинство утверждало, что он помешанный. Мой жалкий конюх, претендовавший
на обширные знания в Талмуде, посмеивался над Иисусом, величал его царем
нищих, называя его учение эбионизмом -- по его словам, оно сводилось к тому,
что только бедные наследуют царство небесное, богачи же и сильные мира сего
будут вечно гореть в каком-то огненном озере.
Я заметил, что в этой стране каждый называл своего ближнего
сумасшедшим. И в самом деле, на мой взгляд, все они смахивали на помешанных.
Они изгоняли дьявола заклинаниями, исцеляли болезни наложением рук, без
вреда для себя пили смертельные яды и играли с ядовитыми змеями или
утверждали, что могут это делать. Они уходили голодать в пустыню. Но оттуда
появлялись вновь, провозглашая новые учения, собирая вокруг себя толпы,
образуя новые секты, которые в свою очередь раскалывались по вопросам учения
еще на новые секты.
-- Клянусь Одином, -- сказал я раз Пилату, -- немного наших северных
морозов и снега охладило бы им головы! Тут слишком мягкий климат! Вместо
того чтобы строить кровли и охотиться за мясом, они вечно строят учения.
-- И меняют природу Бога, -- угрюмо подтвердил Пилат. -- К черту
учения!
-- Так я и говорю, -- согласился я с ним. -- Если я выберусь из этой
безумной страны с неповрежденным умом, то разрублю пополам всякого, кто
посмеет спросить меня, что случится, после того как я умру!
В жизни я не видел таких смутьянов! Все существующее под солнцем было
для них либо священным, либо нечистым! И эти люди, умевшие вести хитроумные
споры, неспособны были понять римскую идею государства. Все политическое
было религией; все религиозное было политикой. Таким образом, у каждого
римского прокуратора хлопот были полны руки. Римских орлов, римские статуи,
даже щиты, поставленные Пилатом по обету, они считали умышленным
оскорблением своей религии.
Переписи, производимые римлянами, они считали мерзостью. Но перепись
нужно было сделать, ибо она служила основой обложения. Опять беда! Обложение
налогами было преступлением против их закона и Бога. О, этот закон! Это был
не римский закон, это был их закон, который они называли Божиим законом. У
них были зилоты, умертвлявшие всякого, нарушившего этот закон. А для
прокуратора наказать зилота, пойманного на месте преступления, значило
поднять мятеж или восстание.
У этих странных людей все делалось именем Божьим. Среди них были люди,
которых мы называли тауматургами -- чудотворцами. Они творили чудеса, чтобы
доказать свое учение. Мне всегда казалось бессмыслицей доказывать таблицу
умножения посредством превращения жезла в змею или хотя бы в две змеи. А
между тем это проделывали чудотворцы, невероятно возбуждая простонародье.
Великое небо, сколько сект и секточек! Фарисеи, иессеи, саддукеи --
целый легион! И стоило им основать новую секту, как вопрос уже делался
политическим. Копоний, четвертый прокуратор перед Пилатом, с большим трудом
подавил мятеж гаулонитов, поднятый таким образом и распространившийся из
Гамалы.
Когда я в последний раз въезжал в Иерусалим, мне нетрудно было заметить
сильное возбуждение среди евреев. Они собирались толпами, трещали и спорили.
Некоторые предвещали светопреставление. Другие ограничивались тем, что
предсказывали неминуемое разрушение храма.
Находились и горячие революционеры, объявлявшие, что царству римлян
пришел конец и начинается новое, иудейское царство.
Пилата также я застал в сильной тревоге. Совершенно ясно было, что он
придавлен тяжкими заботами. Но должен вам сказать, что он отражал
хитросплетения евреев с большим искусством; насколько я его знаю, он мог
разбить многих спорщиков в синагогах.
-- Только бы пол-легиона римлян, и я взял бы Иерусалим за горло!.. А
потом был бы отозван за свой труд, надо думать!
Как я и говорил, он не очень доверял вспомогательным войскам, а римских
солдат у него была жалкая горсточка.
Я опять поселился во дворце и, к великой радости, нашел там Мириам. Но
это доставило мне мало утехи: разговоры только и вертелись, что около
нараставших событий. И было о чем говорить, ибо город шумел, как разозленное
гнездо шершней! Приближался пост, называемый Пасхой, и тысячи людей
стекались из провинции, чтобы, по обычаю, провести этот праздник в
Иерусалиме. Разумеется, эти пришельцы все были очень раздражительный народ,
иначе они не так легко склонились бы на такое паломничество. Город битком
набит был ими, так что многие расположились лагерем за его стенами. Что
касается меня, то я не мог определить, насколько в этом брожении были
виноваты проповеди странствующего рыбака, а насколько -- ненависть иудеев к
Риму.
-- Только на одну десятую, а может быть, и меньше, виноват в этом
Иисус! -- ответил Пилат на мой вопрос. -- Главную причину волнения надо
искать в Каиафе и Ханане. Они знают, чего хотят. Они заваривают кашу --
трудно сказать, для какой цели, если не для того, чтобы наделать мне хлопот!
-- Да, это несомненно, что ответственны Каиафа и Ханан, -- говорила
Мириам, -- но ведь ты, Понтий Пилат, только римлянин и не можешь понять!
Если бы ты был иудеем, ты бы понял, что в основе всего лежат более серьезные
вопросы, чем несогласия сектантов или желание наделать хлопот тебе и Риму.
Первосвященники и фарисеи, знатные и именитые евреи, Филипп и Антипа, я сама
-- мы боремся за самую жизнь!
-- Может быть, этот рыбак помешанный. Если так, то в его безумии есть
хитрость. Он проповедует учение бедности. Он угрожает нашему закону, а наш
закон -- это наша жизнь, как ты недавно узнал. Мы бережем наш закон, как ты
берег бы себя, если бы чья-нибудь рука сдавила тебе горло. Вот за что
борются Каиафа, Ханан и все они: или этот рыбак, или они! Они должны
уничтожить его, иначе он уничтожит их!
-- Не странно ли это -- простой человек, рыбак? -- воскликнула жена
Пилата. -- Что он за человек, если обладает такой властью? Мне хотелось бы
увидать его. Я хотела бы своими собственными глазами увидеть столь
замечательного человека!
Пилат нахмурил брови, и ясно было, что возбуждение его жены только
усиливает его беспокойство.
-- Если хочешь увидеть его, обойди городские притоны, -- злобно
усмехнулась Мириам. -- Ты застанешь его хлещущим вино в компании бездомных
женщин. Никогда еще в Иерусалиме не появлялось столь странного пророка!
-- Что ж тут дурного? -- спросил я, против воли становясь на сторону
рыбака. -- Разве я не упивался вином и не проводил странных ночей во всех
провинциях? Мужчина есть мужчина, и повадки его всегда и везде мужские --
иначе я сам помешанный, что я отрицаю.
Мириам покачала головой.
-- Он не помешанный, много хуже: он опасен. Его эбионизм опасен. Он
разрушит все установленное. Он революционер. Он готов уничтожить то
немногое, что осталось нам от иудейского государства и храма.
Но Пилат возразил:
-- Он не политический деятель, я собрал о нем справки. Он -- ясновидец.
В нем нет ни капли бунтарства. Он даже признает налоги римлян.
-- Но я все же не понимаю, -- стояла на своем Мириам. -- У него нет
революционных замыслов; революционером его делает исполнение его планов,
если оно удастся. Сомневаюсь, чтобы он сам предвидел последствия. Но этот
человек -- язва, и, как всякую язву, его нужно истребить!
-- Насколько я слышал, он добрый, простой человек, не имеющий в сердце
зла, -- утверждал я.
Тут я рассказал ей об исцелении десяти прокаженных, чему я был
свидетелем в Самарии, по пути в Иерихон,
Жена Пилата, как зачарованная, слушала мой рассказ. До нашего слуха
доносились отдельные вопли и крики собравшейся на улице толпы, и мы поняли,
что солдаты очищают улицу.
-- И ты веришь в это чудо? -- спросил Пилат. -- Ты веришь, что в одно
мгновение гнусные язвы оставили прокаженных?
-- Я видел их исцеленными, -- ответил я. -- Я последовал за ними, чтобы
удостовериться. На них не осталось проказы.
-- Видел ли ты их больными? До этого исцеления? -- настаивал Пилат.
Я покачал головой.
-- Мне только так рассказывали, -- согласился я. -- Когда я их видел
впоследствии, все они имели вид людей, некогда бывших прокаженными. Они
находились в состоянии какого-то одурения. Один, например, сидел на солнце,
ощупывал свое тело и все глядел на гладкую кожу, словно не мог поверить
глазам своим. Когда я задал ему вопрос, он не мог ни ответить, ни смотреть
на что-нибудь, кроме этой своей кожи. Он был как ошалелый. Он сидел на
солнце и все глядел и глядел на себя!
Пилат презрительно улыбнулся, и я заметил, что на лице Мириам также
показалась презрительная улыбка. Но жена Пилата сидела как мертвая, еле дыша
и широко раскрыв свои невидящие нас глаза.
Тут заговорил Амбивий.
-- Каиафа утверждает -- только вчера он говорил мне об этом, -- будто
этот рыбак обещает низвести Бога на землю и создать здесь новое царство,
которым будет править Бог...
-- И это конец римского владычества! -- вставил я.
-- Таким путем Каиафа и Ханан замышляют впутать Рим, -- объяснила
Мириам. -- Но это неправда! Это ложь, которую они выдумали.
Пилат кивнул головой и спросил:
-- Разве не имеется в ваших древних книгах пророчества, которое здешние
священники могли бы применить к намерениям этого рыбака?
Мириам ответила утвердительно и привела цитату. Я рассказываю этот
случай в доказательство глубокого знакомства Пилата с народом, среди
которого он с таким трудом поддерживал порядок.
-- Я слышала, -- продолжала Мириам, -- что Иисус предсказывает конец
мира и начало Царствия Божия не здесь, а в небесах.
-- Мне об этом докладывали, -- заметил Пилат. -- Это верно. Этот Иисус
признает римские налоги. Он утверждает, что Рим будет править, пока не
кончится всякая власть вместе с концом мира. Теперь мне ясен подвох, который
подстраивает Ханан.
-- Некоторые из его последователей утверждают даже, что он сам Бог, --
вставил Амбивий.
-- Мне не доносили, чтоб он это говорил! -- возразил Пилат.
-- А почему бы нет? -- вмешалась его жена. -- Почему нет? И раньше
случалось, что боги сходили на землю.
-- Послушай, -- сказал Пилат. -- Я знаю из надежных источников, что
после того, как этот Иисус сотворил чудо, накормив толпу несколькими хлебами
и рыбой, глупые галилеяне собирались сделать его царем. Против его воли они
хотели сделать его царем. Спасаясь от них, он бежал в горы. Это не безумие.
Он был слишком умен, чтобы принять участь, которую они настойчиво навязывали
ему!
-- Вот это и есть тот самый подвох, который готовит тебе Ханан, --
повторила Мириам. -- Они требуют, чтобы он сделался царем иудейским -- это
нарушение римского закона, за которое Рим должен разделаться с ним.
Пилат пожал плечами.
-- Король нищих или, вернее, король мечтателей! Он не глупец, он
ясновидец, но не властитель мира сего. Желаю ему владычества в грядущем, ибо
этот мир не подчинен Риму!
-- Он утверждает, что собственность -- грех, -- вот что задело
фарисеев, -- опять вмешался Амбивий.
Пилат от души рассмеялся.
-- Однако этот царь нищих и его последователи-нищие уважают
собственность, -- пояснил он. -- Недавно они завели даже казначея для своих
богатств. Его звали Иуда, и говорят, что он обворовал их общую казну и унес
с собою.
-- Но Иисус не крал? -- спросила жена Пилата.
-- Нет, -- отвечал Пилат. -- Украл Иуда-казначей.
-- А кто Иоанн? -- спросил я. -- Он появился впервые в Тивериаде, но
Антипа казнил его.
-- Это другой, -- отвечала Мириам. -- Он родился возле Хеврона. Это был
энтузиаст и отшельник. Не то он, не то его последователи утверждали, что он
Илия, воскресший из мертвых. Илия -- это был один из наших древних пророков.
-- Что ж, он бунтовал? -- спросил я.
Пилат улыбнулся и покачал головой, потом произнес:
-- Он повздорил с Антипой из-за Ирода. Иоанн был нравоучитель.
Рассказывать долго, но он заплатил за это головой. Нет, в этом деле не было
ничего политического!
-- Некоторые утверждают также, что Иисус называет себя сыном Давидовым,
-- сказала Мириам. -- Но это вздор: никто в Назарете не верит этому. Видишь
ли, вся его семья, в том числе его замужние сестры, живут там, и они знают
его. Это простые люди, совсем простонародье.
-- О, если бы таким же простым был доклад обо всех этих сложных делах,
который я должен послать Тиверию, -- пробурчал Пилат. -- А теперь этот рыбак
явился в Иерусалим, в город, битком набитый паломниками, готовыми на смуту,
а Ханан еще подливает масла в огонь.
-- Но прежде чем вы с ним разделаетесь, он добьется своего, --
пророчески заметила Мириам. -- Он вам задал задачу, и вам придется исполнить
ее.
-- И она заключается?.. -- спросил Пилат.
-- В казни этого рыбака.
Пилат упрямо покачал головой, и жена его вскричала:
-- Нет! Нет! Это была бы позорная несправедливость! Человек никому не
сделал зла. Он ничем не погрешил против Рима!
Она умоляюще взглянула на Пилата, который продолжал кивать головой.
-- Пусть они сами снимают ему голову, как это сделал Антипа, --
проворчал он. -- Не в рыбаке вопрос. Но я не желаю быть орудием их
махинаций. Если они должны уничтожить его, пусть уничтожают. Это их дело!
-- Но ведь ты не допустишь этого? -- горячо воскликнула жена Пилата.
-- Я не оберусь хлопот объясняться с Тиверием, если стану вмешиваться,
-- был его ответ.
-- Что бы там ни было, -- заметила Мириам, -- тебе придется писать
объяснения, и скоро: Иисус уже прибыл в Иерусалим, и с ним несколько его
рыбаков.
Пилат не смог скрыть раздражения, вызванного этим известием.
-- Мне неинтересны его передвижения, -- объявил он. -- Надеюсь, что
никогда не увижу его!
-- Поверь, что Ханан разыщет его для тебя, -- отвечала Мириам, -- и
приведет к твоим воротам!
Пилат пожал плечами. На этом беседа закончилась. Жена Пилата,
озабоченная и взволнованная, позвала Мириам в свои внутренние покои, так что
мне ничего не оставалось делать, как лечь в постель и заснуть под гул и
жужжание города помешанных.
События быстро развивались. За ночь атмосфера в городе еще больше
накалилась. В полдень, когда я поехал с полдюжиной моих людей, улицы были
полны народа, и он расступался передо мной с большей неохотой, чем когда бы
то ни было. Если бы взгляды могли убивать, то я в этот день был бы погибший
человек. Они открыто плевали при виде меня, и отовсюду ко мне неслось
ворчанье и крики.
Я был не столько предметом удивления, сколько ненависти, тем более, что
на мне были латы римлянина. Будь это в другом городе, я бы приказал моим
людям разогнать ножнами этих ревущих фанатиков. Но это был Иерусалим в жару
лихорадки, это был народ, неспособный отделить идею государства от идеи
Бога.
Саддукей Ханан хорошо сделал свое дело! Что бы он и синедрион ни
говорили о внутреннем положении, ясно было -- черни хорошо втолковали, что
виной всему Рим.
Вдобавок я встретился с Мириам. Она шла пешком в сопровождении одной
только женщины. В такое смутное время ей не следовало одеваться так, как
подобало ее положению. Через сестру она была родственницей Антипы, которого
мало кто любил. Поэтому она оделась очень скромно и закрыла лицо, чтобы
сойти за женщину из народа. Но от моих глаз она не могла скрыть своего
стройного стана, своей осанки и походки, настолько непохожей на походку
других женщин.
Мы могли даже обменяться несколькими торопливыми словами, ибо в то
мгновение нам загородили дорогу и моих людей с лошадьми стеснили и
затолкали. Мириам укрылась в углу стены дома.
-- Что ж, они уже поймали рыбака? -- спросил я.
-- Нет, но он за городской стеной. Он въехал в Иерусалим на осле,
предшествуемый и сопровождаемый толпами, и некоторые глупцы приветствовали
его царем израильским. Это предлог, которым Ханан не замедлит припереть к
стенке Пилата. И хотя он еще не арестован, приговор ему уже написан. Этот
рыбак -- погибший человек!
-- Пилат не станет арестовывать его!
Мириам покачала головой.
-- Об этом позаботится Ханан! Они приведут его в синедрион. И приговор
будет -- смерть. Вероятно, его побьют камнями.
-- Но синедрион не имеет права казнить!
-- Иисус -- не римлянин! -- ответила она. -- Он иудей! По законам
Талмуда он подлежит смерти, ибо богохульно преступил закон.
Я продолжал качать головой.
-- Синедрион не имеет права.
-- Пилат желает, чтобы он присвоил себе это право.
-- Но ведь тут вопрос в законности, -- настаивал я. -- Ведь ты знаешь,
как римляне придирчивы на этот счет!
-- В таком случае Ханан обойдет этот вопрос, -- улыбнулась она, --
заставит Пилата распять его. И в том и в другом случае все пройдет гладко.
Нахлынувшая волна народа смяла наших коней и нас самих. Какой-то
фанатик упал, мой конь попятился и чуть не упал, топча его. Человек
вскрикнул, и громкие угрозы по моему адресу превратились в сплошной рев. Но
я через плечо успел крикнуть Мириам:
-- Вы жестоки с человеком, который, по вашим же словам, никому не
сделал зла!
-- Я жестока к тому злу, которое произойдет от него, останься он в
живых, -- отвечала она.
Я едва уловил ее слова, ибо ко мне бросился человек, схватил узду моего
коня и мою ногу и попытался стащить меня с лошади. Наклонившись вперед, я
ударил его по щеке. Рука моя закрыла ему все лицо, удар опустился с большой
силой. Жители Иерусалима не привыкли к хорошим затрещинам. Я часто потом
задавал себе вопрос, не сломал ли я этому субъекту шею...
Я встретил Мириам на следующий день. Мы встретились во дворе Пилатова
дворца. Она, казалось, находилась в каком-то сне. Едва ли ее глаза заметили
меня. Едва ли она узнала меня. Она имела такой странный вид, взор ее был так
туманен и рассеян, что она мне напомнила прокаженных, которые были исцелены
однажды передо мною в Самарии.
Сделав усилие, она овладела собою, но чисто внешним образом. В глазах
ее застыла непередаваемая мысль. Никогда еще я не видел у женщины таких
глаз!
Она бы прошла мимо меня, не поздоровавшись со мной, если бы я не
загородил ей дороги. Остановившись, она машинально пробормотала несколько
слов, но глаза ее глядели как бы сквозь меня, куда-то вдаль, словно
зачарованные каким-то видением.
-- Я видела его, Лодброг, -- прошептала она. -- Я видела его!
-- Да помогут ему боги, чтобы это не сглазило его, кто бы он ни был! --
засмеялся я.
Она не обратила внимания на мою неуместную шутку и хотела пройти, но я
опять загородил ей дорогу.
-- Да кто он такой? -- спрашивал я. -- Кто-нибудь воскресший из
мертвых, чтобы наполнить таким странным светом твои глаза?
-- Человек, воскресавший из мертвых других! -- отвечала она. -- Истинно
верю я, что он, Иисус, воскрешал мертвых! Он -- князь света, сын Божий! Я
видела его. Истинно верю, что он сын Божий!
Я мало вынес из ее слов, кроме того, что она встретила этого
странствующего рыбака и заразилась его безумием, ибо это была не та Мириам,
которая называла его язвой и требовала, чтобы его истребили, как всякую
язву!
-- Он околдовал тебя! -- гневно воскликнул я.
Глаза ее как будто увлажнились, и взор стал более глубоким, когда она
утвердительно кивнула головой.
-- О, Лодброг, его чары не поддаются никакому описанию! Стоит только
взглянуть на него -- и ты поймешь, что это сама душа доброты и милосердия! Я
видела его! Я слышала его! Я раздам все свое имение бедным и последую за
ним.
Столько было уверенности в ее тоне, что я ей поверил, как поверил
изумлению самарийских прокаженных, глядевших на свое исцеленное тело; и мне
стало досадно, что такая великая женщина так легко свихнулась благодаря
какому-то бродячему незнакомцу.
-- Ну и следуй за ним, -- насмешливо ответил я. -- Без сомнения, ты
наденешь венец, когда он завоюет свое царство!
Она утвердительно кивнула головой, а мне захотелось ударить ее за это
безумие. Я отодвинулся в сторону, и она медленно прошла мимо, бормоча:
-- Его царство не здесь: он сын Давидов. Он сын Божий. Он тот, кем
именовал себя, в нем все то, что говорили о нем великого и доброго.
-- Мудрец с Востока! -- хихикнул Пилат. -- Он мыслитель -- этот
неграмотный рыбак. Я разузнал о нем все. У меня самые свежие донесения. Ему
нет надобности творить чудеса! Он переспорил самых редких софистов. Они
расставили ему западни, а он посмеялся над их западнями. Вот. послушай!
И он рассказал мне, как Иисус привел в смятение своих недругов, когда
те привели ему на суд женщину, уличенную в прелюбодеянии.
-- А подати! -- ликовал Пилат. -- "Воздайте кесарево кесарю, а Божие
Богу!" -- ответил он им. Эту штуку подстроил Ханан -- а он разрушил его
планы! Наконец-то появился иудей, понимающий наш римский взгляд на
государство!
Затем я увидел жену Пилата. Заглянув ей в глаза, я понял, после того
как видел Мириам, что и эта женщина видела чудесного рыбака.
-- В нем божество, -- прошептала она мне. -- В нем чувствуется бытие
Божие!
-- Да разве он Бог? -- тихонько спросил я, ибо нужно было что-нибудь
сказать.
Она покачала головой.
-- Я не знаю. Он не говорил этого. Но одно я знаю: из такого теста
лепятся боги!
"Заклинатель женщин", -- решил я про себя, уходя от жены Пилата,
погруженной в мечты и видения.
Последние дни известны всем, читающим эти строки. и вот в эти дни я
узнал, что Иисус был также заклинателем мужчин. Он очаровал Пилата! Он
очаровал меня!
После того, как Ханан отослал Иисуса к Каиафе и синедрион, собравшийся
в доме Каиафы, осудил Иисуса на смерть, Иисус, в сопровождении ревущей
толпы, был отправлен к Пилату.
Пилат, и в своих интересах, и в интересах Рима, не хотел казнить его.
Пилат мало интересовался рыбаком и очень был заинтересован в сохранении мира
и порядка. Что значила для Пилата человеческая жизнь? Или жизни многих
людей? В Риме он прошел железную школу, и правители, которых Рим посылал
управлять покоренными народами, были люди железные. Пилат думал и чувствовал
правительственными абстракциями. И все же Пилат, нахмурясь, вышел к толпе,
приведшей рыбака, и тотчас же подпал под влияние этого человека.
Я при этом присутствовал и знаю. Пилат видел его впервые. Пилат вышел в
гневе. Наши солдаты уже готовы были очистить двор от шумной черни. И как
только глаза Пилата упали на рыбака, Пилат был покорен -- нет, он
растерялся! Он стал отрицать за собою право суда, потребовал, чтобы иудеи
судили рыбака по своему закону и поступили с ним по своему закону, ибо рыбак
был иудей, а не римлянин. Но никогда еще иудеи не были так послушны римской
власти! Они кричали, что под властью Рима не имеют права казнить. Между тем
Антипа обезглавил чело века и нисколько за это не пострадал.
Пилат оставил их перед дверью, под открытым небом и повел одного Иисуса
в судилище. Что там происходило, я не знаю, но когда Пилат оттуда вышел, я
увидел в нем перемену. В то время как раньше он не желал казнить рыбака
потому, что не хотел быть орудием Ханана, теперь он не хотел казнить его из
уважения к нему самому. Теперь он старался спасти рыбака. А толпа все время
кричала: "Распни его! Распни его!"
Вам, читатель, известна искренность стараний Пилата. Вы знаете, как он
пытался одурачить толпу, сперва высмеяв Иисуса как безвредного дурачка, а
затем предложив освободить его по обычаю, который требовал освобождения
одного узника в праздник Пасхи. И вы знаете, что нашептывания священников
заставили толпу поднять крик о том, чтобы отпустить на свободу убийцу
Варраву.
Тщетно Пилат боролся против роли, которую ему навязывали священники.
Смехом и шутками он надеялся превратить дело в фарс. Он с издевкой называл
Иисуса царем иудейским и приказал побить его плетьми. Он надеялся, что все
кончится смехом и в смехе забудется.
С радостью должен сказать, что ни один римский солдат не принял участия
в том, что последовало. Солдаты вспомогательной армии увенчали и облачили
Иисуса в мантию, вложили в его руки жезл власти и, преклонив колени,
приветствовали его как царя иудейского. Это была попытка умилостивить толпу,
хотя она не удалась. Глядя на эту сцену, я также испытал на себе очарование
Иисуса. Несмотря на жестокую смехотворность своего положения, он хранил
царственную осанку. И, глядя на него, я успокоился. Я был утешен и
удовлетворен и нимало не смущался. Это должно было совершиться. Все шло
хорошо. Ясность Иисуса среди смятения и страданий стала моей ясностью. У
меня почти не появлялось мысли спасти его.
С другой стороны, я слишком много насмотрелся чудес в своей бурной,
разнообразной жизни, чтобы на меня подействовало это чудо. Я был невозмутим.
Мне нечего было сказать. Не нужно было произносить приговор. Я знал, что
происходят вещи, превосходящие мое понимание, и что они должны совершиться.
Однако Пилат продолжал бороться. Смятение усиливалось. Вопли о крови
гремели во дворе, и все требовали распятия. Опять Пилат удалился в зал суда.
Его усилия превратить дело в фарс были тщетны, и он попытался сослаться на
то, что не имеет права судить. Иисус не был жителем Иерусалима, он родился
подданным Антипы, и Пилат требовал отправки Иисуса к Антипе.
Но в это время смятение охватило весь город. Наши войска перед дворцом
были сметены уличными толпами. Начался мятеж, который в мгновенье ока мог
превратиться в гражданскую войну и революцию. Мои двадцать легионеров стояли
наготове. Они так же мало любили фанатичных иудеев, как я, и с удовольствием
послушались бы моего приказа очистить двор Пилата обнаженной сталью.
И когда Пилат снова вышел, то слов, которыми он требовал передачи суда
Антипе, не было слышно, ибо толпа теперь ревела, что Пилат изменник, что
если он отпустит рыбака на свободу, то он не друг Тиверию! Прямо передо
мною, когда я прислонился к стене, бородатый, шелудивый, длинноволосый
фанатик то и дело подпрыгивал и не переставая вопил: "Тиверий император! Нет
царя! Тиверий император! Нет царя!" Я потерял терпение. Крик этого человека
оскорблял меня. Подавшись в сторону, как бы случайно, я наступил своей ногой
на его ногу и страшно придавил ее. Безумец, казалось, ничего не заметил. Он
слишком обезумел, чтобы чувствовать боль. "Тиверий император! Нет царя!" --
продолжал он кричать.
Я видел, что Пилат заколебался. Пилат -- римский наместник -- в
настоящий момент был человеком с человеческим гневом против жалких тварей,
требовавших крови такого простого и кроткого, мужественного и доброго
человека, как этот Иисус.
Он остановил на мне взгляд, словно собирался подать мне знак открыть
военные действия; и я чуть-чуть подался вперед, освободив из-под своей ноги
раздавленную ногу соседа. Я готов был исполнить это полувысказанное желание
Пилата и кровавым натиском очистить двор от ревевшей в нем гнусной черни.
Меня остановила не нерешительность Пилата. Остановил и меня, и Пилата
-- Иисус! Иисус посмотрел на меня. Он приказал мне! Говорю вам, этот
бродячий рыбак, этот странствующий проповедник из Галилеи, повелевал мною!
Он ни слова не произнес, но приказ его был так же грозен и безошибочен, как
трубный глас. И я остановил свою ногу и удержал свою руку, ибо кто я был
такой, чтобы остановиться на пути столь величественно ясному и уверенному в
себе человеку, как он? И я почувствовал все его обаяние, все, что в нем
очаровало Мириам, и жену Пилата, и, наконец, самого Пилата.
Остальное вам известно. Пилат умыл свои руки в знак того, что он
неповинен в крови Иисуса, и мятежники приняли его кровь на свою голову.
Пилат отдал приказ к распятию. Толпа была удовлетворена, а за толпой
потирали руки Каиафа, Ханан и синедрион. Не Пилат, не Тиверий, не римские
солдаты распяли Христа. Это сделали духовные правители и духовные политиканы
Иерусалима. Я это видел! Я это знаю! Наперекор своим собственным интересам,
Пилат спас бы Иисуса, как и я спас бы его, если бы сам Иисус не пожелал,
чтобы его не спасали.
И Пилат в последний раз насмеялся над этим ненавидимым им народом. На
кресте Иисуса он прибил надпись на еврейском, греческом и латинском языках:
"Царь Иудейский". Тщетно ворчали священники. Под этим именно предлогом они
вырвали согласие у Пилата, и тем же предлогом воспользовался Пилат, чтобы
выразить презрение к иудейскому народу. Пилат предал смертной казни
абстракцию, никогда не существовавшую в действительности. Эта абстракция
была ложью и выдумкой, созданной священниками. Ни священники, ни Пилат не
верили в нее. Иисус отрицал ее. Абстракция эта была -- "Царь Иудейский".
Буря во дворе улеглась. Безумие погасло. Революция была предотвращена.
Священники были довольны, толпа удовлетворена, а мы с Пилатом негодовали и
чувствовали себя усталыми после всего этого дела. Однако же и меня, и его
ждала другая буря. Прежде чем увели Иисуса, одна из женщин Мириам позвала
меня к ней.
-- О, Лодброг, я слышала, -- такими словами встретила меня Мириам. Мы
были одни, она прижалась ко мне, ища приюта и силы в моих объятиях. -- Пилат
сдался. Он собирается распять его. Но есть еще время. Твои воины наготове.
Поспеши с ними. При нем находятся только центурион и горсточка солдат. Они
еще не вышли. Как только они выйдут, следуй за ними. Они не должны дойти до
Голгофы! Но ты дай им выбраться за городские стены. Затем отмени приказ.
Возьми с собой лишнего коня для него. Остальное будет легко. Уезжай вместе с
ним в Сирию или в Идумею -- куда-нибудь, лишь бы спасти его!
Она обвила мою шею своими руками и соблазнительно близко придвинула к
моему свое запрокинутое лицо, и в ее расширенных глазах я читал великое
обещание.
Неудивительно, что я не сразу нашелся ответить. В это мгновение только
одна мысль сверлила в моем мозгу. После всей непостижимой драмы,
разыгравшейся на моих глазах, вот что на меня обрушилось. Я понимал ее
хорошо. Дело было яснее ясного. Великая женщина будет моею... если я изменю
Риму! Ибо Пилат был наместник, приказ его был отдан; а его голос был голос
Рима.
Я уже говорил, что в конце концов Мириам и меня погубила ее
женственность, ее непередаваемая женственность. Она всегда была так
рассудительна, так проницательна, так уверена в себе и во мне, что я забыл
или, вернее, еще раз усвоил себе вечный урок, что женщина всегда женщина,
что в великие, решительные минуты женщина не рассуждает, а чувствует; что
последнее святилище и самое сокровенное побуждение к поступкам лежат не в
голове женщины, а в ее сердце.
Мириам не поняла моего молчания; тело ее слегка подалось в моих
объятиях, и она добавила, как бы вспомнив:
-- Возьми двух запасных коней, Лодброг. Я поеду на другом с тобою... с
тобою на край света, куда бы ты ни поехал!
Это была царская взятка! И за нее от меня требовали гнусного,
презренного поступка. Но я продолжал молчать. Не то чтобы я находился в
смятении или сомнении. Я просто ощутил великую печаль, великую внезапную
печаль, ибо сознавал, что держу в своих объятиях ту, которую больше никогда
не буду держать.
Ныне в Иерусалиме только один человек может спасти его, -- продолжала
она, -- этот человек ты, Лодброг!
И так как я все еще не отвечал, она тряхнула меня, словно желая вывести
из отупения. Она так тряхнула меня, что мои доспехи загремели.
-- Да говори же, Лодброг, говори! -- приказала она. -- Ты силен и
бесстрашен. Ты насквозь мужчина. Я знаю, ты презираешь гадов, желающих
погубить его. Скажи только слово -- и дело будет сделано, и я буду любить
тебя всегда, буду любить за это дело!
-- Я римлянин, -- медленно проговорил я, хорошо сознавая, что эти слова
отнимают ее у меня навсегда.
-- Ты раб Тиверия, ищейка Рима, -- вспылила она, -- но ты ничем не
обязан Риму, ибо ты не римлянин. Вы, желтые гиганты севера, -- не римляне!
-- Римляне -- старшие братья северных юнцов, -- ответил я. -- Я ношу
доспехи и ем хлеб Рима. -- И я тихо добавил: -- Да зачем столько гнева и
шума из-за одной человеческой жизни? Все люди должны умереть. Умереть так
просто, так легко! Сегодня или через сто лет -- не все ли равно? В конце
концов всех нас ждет это.
Она так и затрепетала в моих объятиях.
-- Ты не понимаешь, Лодброг! Это не простой человек. Я говорю тебе,
этот человек выше людей -- это живой Бог не людей, но над людьми!
Я прижал ее к себе, сознавая, что отказываюсь от этой прелестной
женщины, и промолвил:
-- Мы с тобою женщина и мужчина. Жизни наши от мира сего. А от всех
потусторонних миров -- одно безумие. Пусть же эти безумные мечтатели идут
путем своих грез. Не отказывай им в том, чего они желают паче всего, паче
мяса и вина, паче песен и битв, даже паче женской любви. Не отказывай им в
вожделении их сердца, влекущего их сквозь тьму могилы к грезам о жизни за
этим миром. Пусть они идут. А мы с тобой останемся здесь для всей сладости,
которую мы открыли друг в друге. Скоро наступит тьма, и ты уйдешь к своим
солнечным берегам, полным цветов, а я уйду к шумному столу Валгаллы!
-- Нет, нет! -- воскликнула она, вырываясь. -- Ты не понимаешь. Все
величие, вся доброта, все божество в этом человеке, -- больше, чем
человеке... И ему умереть такой позорной смертью? Только рабы и воры так
умирают! Он не раб и не вор! Он бессмертен! Он Бог! Истинно говорю тебе, он
-- Бог!
-- Ты говоришь, что он бессмертен? -- отвечал я. -- Значит, если он
нынче умрет на Голгофе, то во времени это не сократит его бессмертия на
ширину волоска. Ты говоришь, что он Бог? Боги не могут умереть. Судя по
всему, что я о них слышал, несомненно, что боги не умирают!
-- О! -- воскликнула она. -- Ты не хочешь понять! Ты просто исполинский
кусок мяса!
-- Не говорят разве, что это событие было предсказано встарь? --
спросил я, ибо от евреев я уже научился тому, что считал их тонкостью ума.
-- Да, да, -- подтвердила она пророчество о Мессии. -- Он -- Мессия!
-- Кто же я в таком случае, чтобы опровергать пророков? -- спросил я.
-- Превращать Мессию в лже-Мессию? Разве пророчества твоего народа так
нетверды, что я, глупый иноземец, желтый северянин в римских доспехах, могу
опровергнуть пророчество и сделать так, чтобы не исполнилось то самое, чего
хотели боги и что предсказано мудрецами?
-- Ты не понимаешь! -- твердила она.
-- Слишком хорошо понимаю! -- отвечал я. -- Разве я больше этих богов,
чтобы перечить их воле? В таком случае боги -- пустое, боги -- игрушки
людей! Я -- человек. И я поклоняюсь богам, всем богам, ибо я верю во всех
богов -- иначе как могли бы существовать все боги?
Мириам разом рванулась, выскользнув из моих рук, и мы стояли,
отделившись друг от друга и прислушиваясь к реву улицы, в то время как Иисус
и солдаты вышли и пошли своим путем. На душе у меня была тяжкая грусть от
сознания, что такая великая женщина может быть так глупа. Она хотела стать
выше Бога!
-- Ты не любишь меня! -- медленно проговорила она, и еще раз всплыло в
ее глазах обещание себя, слишком глубокое и слишком широкое, чтобы быть
выраженным словами.
-- Ты даже не понимаешь, до чего я люблю тебя, кажется мне! -- был мой
ответ. -- Я горжусь любовью к тебе, ибо я знаю, что я достоин любить тебя и
достоин всей любви, которую ты можешь дать мне. Но Рим -- моя приемная мать,
и если бы я изменил ей, малого стоила бы моя любовь к тебе!
Рев, преследовавший Иисуса и солдат, замер в отдалении улицы. И когда
все звуки стихли, Мириам повернулась и пошла, не оглянувшись на меня и не
бросив мне слова.
В последний раз вспыхнуло во мне бешеное желание ее. Я бросился и
схватил ее. Я хотел поднять ее на коня и ускакать с нею и моими людьми в
Сирию, прочь от этого проклятого города безумств. Она сопротивлялась. Я сжал
ее. Она ударила меня в лицо, а я продолжал держать ее, не выпуская, потому
что сладки мне были ее удары. И вдруг она перестала бороться. Она стала
холодна и неподвижна, и я понял, что нет любви в женщине, которую обвивали
мои руки. Для меня она умерла. Я тихо выпустил ее. Она медленно шагнула
назад. Словно не видя меня, она повернулась, пошла по затихшей комнате и, не
оглядываясь, раздвинула занавески и скрылась.
Я, Рагнар Лодброг, никогда не учился читать или писать. Но во дни своей
жизни я слышал великие речи. Как вижу теперь, я никогда не научился ни
великим речам иудеев, содержащимся в их законах, ни речам римлян,
содержащимся в их философии и в философии греков. Но я говорил со всей
простотой и прямотой, как может говорить только человек, пронесший свою
жизнь от кораблей Тостига Лодброга через весь мир до Иерусалима и обратно. Я
сделал простой и ясный доклад Сульпицию Квиринию, когда прибыл в Сирию для
доклада о событиях, происходивших в Иерусалиме.
Во временном прекращении жизни нет ничего нового не только в
растительном мире и в низших формах животной жизни, но даже в высокоразвитом
и сложном организме самого человека. Каталептический транс есть
каталептический транс, чем его ни вызвать. С незапамятных времен факиры
Индии умеют добровольно вызывать в себе такое состояние. Давно уже факиры
умеют зарывать себя живыми в землю. Другие люди в подобных же трансах
ставили в тупик врачей, объявлявших их покойниками и отдававших приказы, в
силу которых их живыми зарывали в землю.
По мере того, как продолжались мои эксперименты со смирительной
рубашкой в Сан-Квэнтине, я немало раздумывал об этой проблеме остановки
жизни. Помнится, я читал где-то, что крестьяне северной Сибири умеют
предаваться спячке в долгие зимы, совершенно как медведи и другие животные.
Какой-то ученый исследовал этих крестьян и нашел, что во время периодов
"долгого сна" дыхание и пищеварение в сущности прекращаются, сердце же
бьется так слабо, что неспециалист не может даже ощутить его биение.
В этом трансе физиологические процессы настолько близки к абсолютному
прекращению, что количество потребляемого воздуха и пищи можно считать, в
сущности, ничтожным. На этом рассуждении отчасти и основано было мое
вызывающее поведение перед смотрителем Этертоном и доктором Джексоном. Вот
почему я дерзнул предложить им оставить меня на сто дней в смирительной
рубашке. И они не посмели принять мой вызов.
Тем не менее я умудрился обходиться без воды и пищи в течение десяти
дней пребывания в куртке. Я находил положительно невыносимым, чтобы из
глубины грез в пространстве и времени меня извлекала гнусная
действительность в лице презренного тюремного врача, прижимающего сосуд с
водой к моим губам. Поэтому я предупредил доктора Джексона, что я,
во-первых, намерен обходиться в смирительной рубашке без воды, а во-вторых,
что я буду сопротивляться усилиям напоить меня.
Разумеется, дело не обошлось без борьбы, но после нескольких попыток
доктор Джексон сдался. После этого место, занимаемое в жизни Дэрреля
Стэндинга смирительной рубашкой, едва ли составляло больше нескольких
мгновений. Как только меня зашнуровывали, я сейчас же начинал наводить на
себя "малую смерть". Благодаря привычке это стало простым и легким делом. Я
так быстро прекращал в себе жизнь и сознание, что избавлял себя от страшной
муки, вызываемой задержкой кровообращения. Невероятно быстро меня осеняла
тьма. После этого Дэррель Стэндинг видел свет только тогда, когда надо мною
склонялись лица людей, развязывавших меня, и в уме пробегала мысль, что в
это мгновение протекло целых десять дней.
Но какие чудесные десять дней проводил я в других местах! О, эти
странствия по длинной цепи существований! Долгие периоды тьмы, постепенно
увеличивающие облачка света и порхания моих "я" в снопах сияния.
Я много раздумывал об отношении этих других "я" ко мне и об отношении
всего моего опыта к современному учению об эволюции.
Поистине можно сказать, что мой опыт находится в полном согласии с
нашими выводами об эволюции.
Как человек, я -- организм, способный к развитию. Я начался не тогда,
когда родился, и не тогда, когда был зачат. Я рос, развиваясь, на протяжении
бесчисленных мириад тысячелетий. Все опыты всех этих жизней и бесчисленное
множество других жизней пошли на созидание душевного и духовного содержания
моего "я". Вы понимаете? Они составляют мое содержание. Материя не помнит,
ибо дух есть память. Я -- дух, составленный из воспоминаний о моих
бесчисленных воплощениях.
Откуда взялся во мне, Дэрреле Стэндинге, багровый гнев, испортивший мне
жизнь и бросивший меня в камеру осужденных? Конечно, он не тогда появился,
не тогда был создан, когда был зачат младенец, которому суждено было стать
Дэррелем Стэндингом. Этот древний багровый гнев много старее моей матери,
много древнее древнейшей и первой праматери людей. Моя мать, зачиная меня,
не создавала присущего мне пылкого бесстрашия. И все матери за все время
развития человечества не создали страха или бесстрашия в мужчинах. Страх и
бесстрашие, любовь, ненависть, гнев -- все эмоции, развиваясь задолго до
первых людей, стали содержанием того, чему суждено было сделаться человеком.
Я весь в моем прошлом. Все мои предыдущие "я" отражаются во мне своими
голосами, отголосками, побуждениями. За каждым моим способом действовать, за
пылом страсти, за искрой мысли кроются тень и отзвук длинного ряда других
"я", предшествовавших мне и составивших меня.
Материал жизни пластичен, -- и в то же время этот материал никогда не
забывает. Придавайте ему какую угодно форму -- старое воспоминание
останется! Все виды лошадей, от огромных першеронов до карликовых
шотландских пони, развились из первых диких лошадей, прирученных первобытным
человеком. И все же до сего дня человеку не удалось уничтожить в лошади
привычку лягаться. А я, составленный из этих первых укротителей лошадей, не
могу уничтожить в себе их багровый гнев.
Я -- человек, рожденный женщиной. Дни мои сочтены, но сущность моя
неразрушима. Я был женщиной, рожденной от женщины. Я был женщиной и рождал
детей. И я опять буду рожден. Бесчисленное множество раз я буду рождаться, а
окружающие меня олухи воображают, будто, свернув мне шею веревкой, они могут
прекратить мое существование!
Да, меня повесят... скоро. Теперь конец июля. Через некоторое время они
попытаются обмануть меня. Они поведут меня из этой одиночки в баню, согласно
установленному в тюрьме обычаю еженедельно водить в баню. Но обратно в
камеру не приведут. Меня переоденут в свежее платье и отведут в камеру
смертников. Там они приставят ко мне особую стражу. Днем и ночью, во сне и в
бодрственном состоянии я буду находиться под надзором. Мне не позволят
укрываться одеялом с головой, чтобы я не надул государство, удушив себя сам.
Я непрерывно буду находиться под действием яркого света. И, уже
окончательно измотав меня, в одно прекрасное утро они выведут меня в рубашке
без ворота и сбросят с табуретки. О, я знаю! Веревка, при помощи которой они
это сделают, будет хорошо вытянута. Уже не первый месяц вешатель Фольсомской
тюрьмы растягивает ее тяжелыми гирями, чтобы вымотать из нее всякую
упругость.
Да, меня сбросят на длинной веревке. У них имеются хитроумные таблицы
вроде таблиц процентов, показывающие длину падения соответственно весу
жертвы. Я страшно истощен, и им придется сбросить меня вниз, чтобы сломать
мне позвоночник. Затем присутствующие снимут свои шляпы, и когда я
закачаюсь, доктор приложит ухо к моей груди, чтобы считать мои замирающие
сердцебиения, и наконец объявит, что я мертв.
Это забавно! Как смешна претензия этих жалких червячков, полагающих,
будто они могут убить меня!
Я не могу умереть. Я бессмертен, как бессмертны и они; разница лишь в
том, что я это знаю, а они не знают.
Ба! Я сам был некогда вешателем или, вернее сказать, палачом. Я очень
хорошо помню это. Я работал мечом, не веревкой. Меч -- более мужественный
способ, хотя все способы одинаково недействительны. Разве можно заколоть дух
сталью или задушить веревкой?
Наряду с Оппенгеймером и Моррелем, которые гнили со мною в эти черные
годы, я считался самым опасным узником Сан-Квэнтина, с другой стороны, меня
считали самым упрямым -- упрямее даже Оппенгеймера и Морреля. Под упрямством
я подразумеваю выносливость. Ужасны были попытки сломить физически и духовно
моих товарищей, но еще страшнее были попытки сломить меня. Ибо я все вынес!
Динамит или "крышка" -- таков был ультиматум смотрителя Этертона. А в конце
не вышло ни того, ни другого. Я не мог показать динамита, а смотритель
Этертон не мог добиться "крышки".
И случилось это не потому, что было выносливо мое тело, а потому, что
вынослив был мой дух. И потому еще, что в прежних существованиях мой дух был
закален, как сталь, жесткими, как сталь, переживаниями. Одно такое
переживание долго было для меня каким-то кошмаром. Оно не имело ни начала,
ни конца. Неизменно я видел себя на скалистом, размытом бурунами островке,
до того низком, что в бурю соленая пена долетала до самых высоких мест
островка. Часто и помногу шли дожди. Я жил в пещере и отчаянно страдал, ибо
не имел огня и питался сырым мясом. Я страдал непрерывно. Это была середина
какого-то переживания, к которому я не мог найти нити. И так как, погружаясь
в "малую смерть", я не имел власти направлять мои скитания, то часто я видел
себя переживающим именно этот отвратительный эпизод. Единственными
счастливыми моими минутами были те, когда светило солнце, -- тогда я грелся
на камнях и у меня прекращался тот почти непрерывный озноб, от которого я
жестоко страдал.
Единственным моим развлечением было весло и складной нож. Над этим
веслом я провел много времени, вырезая на нем крохотные буквы, и делал
зарубки в конце каждой недели. Много было этих зарубок! Я оттачивал нож на
плоском камне, и никогда ни один парикмахер не дрожал так над своей любимой
бритвой, как я дрожал над этим ножом. Ни один скряга не ценил так своего
сокровища, как я ценил свой нож. Он был для меня дорог, как самая жизнь. В
сущности, в нем и была вся моя жизнь.
Путем повторных усилий мне удалось восстановить повесть, вырезанную на
этом весле. Вначале расшифровать удавалось очень мало; потом это стало
легче, и я начал соединять в одно разрозненные обрывки. В конце концов я
разобрал все. Вот что на нем значилось:
"Осведомляю лицо, в руки которого может попасть
это весло, что Даниэль Фосс, уроженец Эльктона
в Мериленде, одном из Соединенных Штатов Аме
рики, отплывший из порта Филадельфии в 1809 году
на бриге "Негосиатор", с назначением к островам
Дружбы, был выброшен в феврале следующего года
на этот пустынный остров, где он построил хижину
и жил много лет, питаясь тюленями. Он -- послед
ний, оставшийся в живых из экипажа означенного
брига, который наткнулся на ледяной остров и за
тонул 25 ноября 1809 года".
Вот эта повесть. Благодаря ей я многое узнал о себе. Одного только
пункта я, к моей досаде, никак не мог выяснить. Находится ли этот остров в
южной части Тихого океана или в южной части Атлантики? Я недостаточно знаком
с путями парусных судов, чтобы сказать с уверенностью, должен ли был плыть
бриг "Негосиатор" на острова Дружбы мимо мыса Доброй Надежды или мимо мыса
Горна. Сознаюсь в своем невежестве: только после того, как меня посадили в
Фольсом, я узнал, в каком океане находятся острова Дружбы. Убийца-японец, о
котором я уже упоминал раньше, служил парусным мастером на судах Артура
Сиуолла, и он говорил мне, что вероятный курс корабля лежал мимо мыса Доброй
Надежды. Если это так, то тогда дата отплытия из Филадельфии и дата крушения
легко бы определили самый океан. К несчастью, датой отплытия показан просто
1809 год. Крушение могло произойти как в том океане, так и в другом.
Только однажды в своих трансах получил я намек на период,
предшествующий времени, проведенному на острове. Начинается это в момент
столкновения брига с ледяной горой; и я расскажу об этом хотя бы для того,
чтобы дать представление о моем замечательно хладнокровном и обдуманном
поведении. Как вы увидите, это поведение и дало мне в ту пору возможность в
конце концов пережить весь экипаж корабля.
Я проснулся на своей койке от страшного треска, как и остальные шесть
человек, спавшие внизу после вахты. Мы все мгновенно вскочили и поняли, что
случилось. Другие же ничего не подозревали, когда, полураздетые, выбежали на
палубу. Но я знал, чего следует ждать, -- и ждал; я знал, что если нам
суждено спастись, то только в баркасе. В этом ледяном море никто плавать не
мог и никто в скудной одежде не мог бы долго прожить в открытой лодке. Кроме
того, я хорошо знал, сколько времени требуется для спуска лодки на воду.
И вот при свете бешено качавшейся сальной плошки, под шум на палубе и
крики "тонем", я начал рыться в своем морском сундуке, ища подходящего
платья. Перерыл я и сундуки моих товарищей, зная, что они им больше не
понадобятся. Работая быстро и сосредоточенно, я вынимал только самые теплые
и толстые части костюма. Я напялил на себя четыре лучших шерстяных рубашки,
какими только мог похвастаться бак, три пары панталон и три пары толстых
шерстяных носков. Ноги мои после этого стали так огромны, что я не мог уже
надеть на них своих собственных отличных сапог. Вместо этого я напялил новые
сапоги Николая Вильтона, которые были больше и толще моих. Поверх своей
куртки я напялил еще куртку Иеремии Нэлора, а поверх всего толстый
брезентовый плащ Сэта Ричардса, который он совсем недавно заново просмолил.
Две пары толстых рукавиц, шарф Джона Робертса, связанный для него его
матерью, и бобровая шапка Джозефа Доуэса поверх моей собственной -- ибо она
была с наушниками и с отворотами над шеей -- дополнили мое снаряжение. Крики
на палубе усиливались, но я еще на минуту задержался, чтобы набить карманы
прессованным табаком, какой только попадался под руку. Затем я вылез на
палубу. И пора было!..
Луна, показавшаяся из разорванных туч, осветила жуткую, безотрадную
картину. Повсюду поломанные снасти, повсюду лед. Паруса, шкоты и реи
фок-мачты, еще державшиеся в своем гнезде, были окаймлены сосульками, и я
испытал чуть не облегчение, что больше мне уже не придется тащить тяжелые
снасти и разбивать лед, дабы мерзлые веревки могли пройти по мерзлым шкивам.
Ветер, дувший с неудержимостью шторма, жег тело с силой, показавшей близость
айсбергов. Огромные волны казались такими холодными в свете луны!
Баркас спускался с бакборта, и я видел, что матросы, хлопотавшие на
обледенелой палубе около бочки с припасами, побросали припасы, торопясь
убраться. Напрасно кричал на них капитан Николь! Огромная волна, хлынувшая с
наветренной стороны, решила вопрос и заставила их кучками броситься за борт.
Я схватил капитана за плечи и, держась за него, крикнул ему в ухо, что если
он сядет в лодку и не даст людям отчалить, так я займусь провиантом.
Впрочем, времени оставалось мало. Мне едва удалось с помощью второго
штурмана Аарона Нортрупа спустить полдюжины бочек и бочонков, как с лодки
мне крикнули, что пора спускаться. И они были правы. С наветренной стороны
на нас несло высокую, как башня, ледяную гору, а с подветренной стороны,
близко-близко, виднелся другой айсберг, на который нас несло.
Аарон Нортруп поспешил прыгнуть первый. Я задержался на мгновение,
чтобы выбрать место в середине лодки, где люди скучились гуще всего, --
расчет был тот, что они своими телами смягчат мое падение. Я вовсе не желал
отправляться со сломанной ногой в рискованное путешествие на баркасе! Чтобы
лодка была свободней у весел, я проворно пробрался на корму. Впрочем, у меня
для этого имелись другие, вполне уважительные, причины. На корме было куда
уютнее, чем на узком носу! Наконец, лучше всего находиться на корме, ибо с
носа следовало ожидать неизбежного в этих случаях волнения.
На корме находился штурман Уольтер Дрек, корабельный врач Арнольд
Бентам, Аарон Нортруп и капитан Николь, сидевший у руля. Врач склонился над
Нортрупом, лежавшим на дне и стонавшим. Прыжок его оказался весьма
неудачным, и он сломал свою правую ногу у бедренного сустава.
Впрочем, им в эту пору некогда было заниматься, ибо мы плыли в бурном
море между двумя островами льда, надвигавшимися один на другой. Николаю
Вильтону, который греб, было тесно; я удобнее расставил бочки и, став на
колени, прибавил своего веса к веслу. Впереди Джон Робертс трудился над
носовым веслом. Схватив его за плечи, ему помогали сзади Артур Гаскинс и
мальчик Бенни Гардуотер. Они так поглощены были этой задачей, что не раз,
случалось, мешали движениям других гребцов.
Продвигаться было трудно, но мы отдалились от опасности на добрую сотню
ярдов, так что я мог теперь обернуться и посмотреть на безвременную гибель
"Негосиатора". Бриг сдавило между двумя льдинами, как мальчик сдавливает
черносливину между большим и указательным пальцами. За ревом ветра и гулом
волн мы ничего не слыхали, хотя толстые ребра брига и палубные балки должны
были ломаться с таким треском, которого было бы довольно, чтобы разбудить
спящую деревню в тихую ночь.
Бесшумно, легко и уступчиво сближались бока брига, палуба выпячивалась
вверх, и наконец раздавленные останки погрузились в воду и исчезли между
соединившимися льдинами. С сожалением смотрел я на гибель нашего убежища от
непогоды, и в то же время мне было приятно думать, что я уютно устроился под
четырьмя рубахами и тремя куртками.
Но даже для меня ночь оказалась ужасной! Я был одет теплее всех в
лодке. Что должны были испытывать другие, об этом я не хотел много
раздумывать. С риском натолкнуться в темноте на другие льдины, мы отливали
воду и держали лодку носом к волне. А я то и дело тер свой замерзающий нос
то одной рукавицей, то другой. Вспоминая свой домашний уют в Эльктоне, я
молился Богу.
Утром мы произвели осмотр. Во-первых, все обмерзли, кроме двух или
трех. Аарон Нортруп, который не мог двигаться из-за сломанной ноги, был в
особенно тяжелом положении. По мнению врача, обе ноги Аарона Нортрупа должны
были безнадежно замерзнуть.
Баркас глубоко сидел в воде, отягченный всем экипажем корабля,
насчитывавшим двадцать одного человека. Двое из них были мальчики. Бенни
Гардуотеру едва было тринадцать, а Лишу Диккери, семья которого жила в
близком соседстве с моими родными в Эльктоне, только что исполнилось
шестнадцать. Припасы наши состояли из трехсот фунтов говядины и двухсот
фунтов свинины. Полдюжины смоченных соленой водой хлебов, взятых поваром, не
могли идти в счет. Кроме того, имелись три больших бочки воды и бочонок
пива.
Капитан Николь откровенно признался, что в этом неисследованном океане
он не знает суши поблизости. Оставалось одно -- плыть по направлению к более
мягкому климату, что мы и сделали, поставив наш маленький парус под свежий
ветер, который погнал нас на северо-восток. Вопрос о пропитании был решен
простым арифметическим подсчетом. Мы не считали Аарона Нортрупа, ибо знали,
что он скоро умрет. Если съедать в день по фунту провизии, то наших пятисот
фунтов хватит нам на двадцать пять дней; а если по полфунта -- то на
пятьдесят дней. И мы решили остановиться на полфунте. Я делил и раздавал
мясо на глазах капитана, и Богу известно, что делал это добросовестно, хотя
некоторые из матросов сейчас же начали ворчать. Время от времени я делил
между людьми прессованный табак, которым набил свои карманы, -- об этом я
мог только пожалеть -- особенно зная, что табак отдан тому или иному,
который, без сомнения, мог прожить еще только один день или в лучшем случае
-- два или три.
Дело в том, что в нашей открытой лодке люди очень скоро начали умирать
не от голода, но от убийственного холода и невзгод. Вопрос стоял так, что
выживут только самые крепкие и удачливые. Я был крепок телосложением и
удачлив в том отношении, что был тепло одет и не сломал себе ноги, подобно
Аарону Нортрупу; он, впрочем, был настолько крепок, что, обмерзши первым из
нас, умирал много дней. Первым умер Вэнс Хатавей. Мы нашли его на рассвете
скрюченным в три погибели на носу и уже закоченевшим. Вторым умер мальчик
Лиш Диккери. Другой мальчик, Бенни Гардуотер, продержался десять или
двенадцать дней.
В лодке было так холодно, что вода и пиво замерзли, и трудно было
математически точно делить куски, которые я откалывал ножом Нортрупа.
Кусочки льда мы клали в рот и сосали до тех пор, пока они не таяли. Иногда
налетали страшные шквалы, и снегу было хоть отбавляй. От всего этого во рту
у нас развились воспалительные процессы, слизистые оболочки постоянно были
сухи и горели. Вызванную ими жажду ничем нельзя было унять! Сосать снова лед
и снег -- значило только усиливать воспаление. Я думаю, эта напасть главным
образом погубила Лиша Диккери. Он помешался и двадцать четыре часа бредил
перед смертью. Умирая, он требовал воды, а между тем в воде не было
недостатка. Я, насколько мог, противился искушению пососать льду и
довольствовался кусочком табаку, заложенным за щеку.
С покойников мы снимали платье. Нагими явились они на свет и нагими
пошли за борт баркаса, в холодные воды океана. Их платье мы разыгрывали
жребием. Это было сделано по приказу капитана Николя, в предупреждение ссор.
Глупым сантиментам не было места. Всякий испытывал тайное
удовлетворение после каждой новой смерти. Всего удачливее на жребии оказался
Израиль Стикин, и когда наконец и он умер, то после него остался целый склад
одежды. Она дала новую передышку оставшимся.
Мы продолжали плыть к северо-востоку под напором свежего западного
ветра, но наши поиски теплого климата казались тщетными. Даже брызги морской
воды замерзали на дне лодки, и я продолжал рубить пиво и питьевую воду ножом
Нортрупа. Свой нож я припрятал. Это был клинок хорошей стали, с острым
лезвием и прочной отделкой, и мне не хотелось подвергать его риску
сломаться.
К этому времени половина нашей компании была уже брошена за борт; борта
лодки заметно поднялись над водой, и ею не так было трудно управлять в
штормы. Наконец, больше было места, чтобы растянуться.
Вечным предметом неудовольствий был провиант. Капитан, штурман и я,
переговорив, решили не увеличивать ежедневной порции в полфунта мяса. Шесть
матросов, от имени которых выступал Товий Сноу, доказывали, что после смерти
доброй половины экипажа нужно удвоить паек и, стало быть, выдавать теперь по
фунту. Мы же указывали на то, что удваиваются наши шансы на спасение, если
мы сможем продержаться на полуфунтовом пайке.
Конечно, восемь унций соленого мяса нельзя сказать, чтобы очень
способствовали сохранению жизни и сопротивлению суровому холоду. Мы страшно
ослабели и поэтому зябли еще больше. Нос и щеки у нас почернели, -- так
сильно они были обморожены. Согреться было немыслимо, хотя теперь у нас было
вдвое больше одежды.
Через пять недель после гибели "Негосиатора" произошла серьезная
катастрофа из-за провизии. Я спал (дело было ночью), когда капитан Николь
поймал Джеда Гечкинса на краже свинины из бочки. Что его к этому
подстрекнули остальные пятеро матросов, они доказали своими действиями. Как
только Джед Гечкинс был накрыт, все шестеро бросились на нас с ножами! В
тусклом свете звезд эта схватка врукопашную приобрела жуткий характер, и
лодка только чудом не опрокинулась. Я возблагодарил судьбу за рубашки и
куртки, послужившие мне теперь как бы броней. Удары ножа, наносимые в эту
толщу ткани, едва только оцарапали мою кожу.
Прочие были защищены подобным же образом, и битва окончилась бы только
всеобщим изувечением, если бы штурман Вальтер Дэкон, сильный мужчина, не
додумался окончить дело тем, что выбросил мятежников за борт. К нему
примкнули в этом деле капитан Николь, доктор и я -- и в одно мгновение
пятеро из мятежной шестерки уже находились в воде, цепляясь за шкафут.
Капитан Николь и доктор возились с шестым, Иеремией Нэлором, и бросили его
за борт, в то время как штурман колотил доской по пальцам тех, кто ухватился
за шкафут. С минуту я был свободен от всякого дела и мог поэтому видеть
трагический конец штурмана. Когда он поднял доску, чтобы ударить по пальцам
Сэта Ричардса, этот последний, опустившись глубже в воду, затем внезапно
подскочил и, ухватившись обеими руками, почти забрался в лодку, схватил в
свои объятия штурмана и, метнувшись назад, потащил его за собой. Он, без
сомнения, не ослабил своих тисков, и оба они утонули.
Таким образом из всего судового экипажа в живых остались только трое:
капитан Николь, Арнольд Бентам (доктор) и я. Семеро погибли во мгновение ока
благодаря попытке Джеда Гечкинса воровать провиант. А мне жаль было, что
такая масса хорошего теплого платья попала в море! Каждый из нас с
благодарностью надел бы на себя добавочную порцию ткани. Капитан Николь и
доктор были честные, хорошие люди. Часто, когда двое из нас спали, тот, кто
не спал и сидел у руля, мог красть мясо. Но этого не случилось ни разу! Мы
безусловно доверяли друг другу и скорее бы умерли, чем обманули это доверие.
Мы продолжали довольствоваться полфунтами мяса в сутки и пользовались
каждым попутным бризом, чтобы продвинуться немного к северу. Только
четырнадцатого января, через семь недель после крушения, мы добрались до
более теплых широт. Но настоящего тепла еще не было, просто не было такого
резкого холода, как раньше.
Здесь западные ветры покинули нас, и мы много дней носились по морю в
сравнительном штиле. Море чаще всего было спокойно, или же налетал небольшой
встречный ветер; иногда же на несколько часов задувал порывистый бриз. Мы
так ослабели, что не могло быть и речи о том, чтобы грести и вести на веслах
большую лодку. Мы только берегли провиант и ждали, когда наконец Господь
обернется к нам более милостивым ликом. Все трое мы были верующими
христианами и каждое утро перед раздачей провианта читали молитвы. Кроме
того, каждый часто и подолгу молился про себя.
В конце января наш провиант почти совсем истощился. Свинина была
съедена, и бочкой из-под нее мы пользовались для того, чтобы запасаться
дождевой водой. Говядины осталось несколько фунтов. За все девять недель,
проведенных в этой лодке, мы ни разу не видели суши и не подняли паруса.
Капитан Николь признался, что в конце шестидесяти трех дней расчетов и
догадок он все еще не знает, где мы находимся.
Двадцатого февраля мы съели последний кусок. Предпочту умолчать о
деталях многого из того, что происходило в последующие восемь дней. Я
коснусь лишь инцидента, показывающего, что за люди были мои спутники. Мы так
долго голодали, что, когда провиант вышел, у нас не осталось уже запаса, из
которого мы могли бы черпать выносливость, и с этой минуты мы стали сильно
слабеть.
Двадцать четвертого февраля мы спокойно обсудили положение. Мы все трое
были мужественными людьми, полными жизни, и умирать нам не хотелось. Никому
из нас не хотелось жертвовать собой для двух остальных. Но мы единогласно
признали: нам нужна еда; мы должны решить это дело метанием жребия; и мы
бросим жребий наутро, если не поднимется ветер.
Наутро поднялся ветер, небольшой, но устойчивый, так что оказалось
возможным делать узла два северным курсом. Такой же бриз дул в утро двадцать
шестого и двадцать седьмого числа. Мы страшно ослабели, но остались при
своем решении и продолжали плыть вперед.
Но утром двадцать восьмого мы поняли, что час наш настал. Лодка
беспомощно покачивалась на совершенно затихшем море, и застывший воздух не
подавал ни малейших надежд на бриз. Я вырезал из своей куртки три куска
ткани. В кромке одного из них виднелась коричневая нитка. Кто вытащит этот
кусок, тому и погибнуть! И я положил лоскутки в мою шапку, покрыв ее шапкой
капитана Николя.
Все было готово, но мы медлили; каждый из нас долго и горячо молился
про себя, ибо мы знали, что предоставляем решение Господу. Я сознавал, что
поступаю честно и достойно, но знал, что таково же поведение и моих двух
товарищей, и недоумевал: как Бог разрешит столь щекотливое дело?
Капитан, как оно и следовало, тянул жребий первым. Засунув руку в
шапку, он закрыл глаза, помешкал немного, и губы его шевелились, шепча
последнюю молитву. Он вытащил пустой номер. Это было правильно -- я не мог
не сознаваться, что это было правильное решение; ибо жизнь капитана хорошо
была известна мне; я знал, что это честный, прямодушный и богобоязненный
человек.
Остались мы с доктором. По корабельному этикету, он должен был тянуть
следующим. Опять мы помолились. Молясь, я мысленно окинул взором всю свою
жизнь и наскоро подвел итог моим порокам и достоинствам.
Я держал шляпу на коленях, накрыв ее шляпой капитана Николя. Доктор
засунул руку и копался в течение некоторого времени, а я любопытствовал:
можно ли нащупать коричневую нитку, выделив ее из прочих нитей бахромки?
Наконец он вытащил руку. Коричневая нитка оказалась в его куске ткани!
Я мгновенно ощутил великое смирение и благодарность Господу за оказанную им
мне милость и дал обет добросовестнее, чем когда-либо, исполнять все его
заповеди. В следующую же секунду я почувствовал, что доктор и капитан
связаны друг с другом более тесными узами положения и близости, чем со мною,
и что они до некоторой степени разочарованы исходом метания жребия... Наряду
с этой мыслью шевелилось убеждение, что исход нисколько не повлияет на
выполнение плана, на который решились эти славные люди.
Я оказался прав! Доктор обнажил руку и лезвие ножа и приготовился
вскрыть себе большую вену. Но прежде он сказал небольшую речь.
-- Я уроженец Норфолька, в Виргинии, -- сказал он, -- где еще живы, я
думаю, моя жена и трое детей. Одной только милости прошу от вас: если Богу
угодно будет избавить кого-нибудь из вас от гибельного положения и
ниспослать вам счастье увидеть отчизну -- пусть он ознакомит мою несчастную
семью с моей скорбной судьбой...
Затем он попросил у нас несколько минут отсрочки, чтобы уладить свои
счеты с Богом. Ни я, ни капитан Николь не в состоянии были вымолвить слова;
глаза наши застилали слезы, и мы только кивнули в знак согласия.
Без сомнения, Арнольд Бентам держал себя спокойнее всех. Я лично
страшно волновался и уверен, что капитан Николь страдал не меньше моего, но
что же было делать? Вопрос был решен самим Господом.
Но когда Арнольд Бентам кончил свои последние приготовления и собрался
приступить к делу, я не мог больше выдержать и вскричал:
-- Погодите! Мы столько страдали -- неужели мы не можем потерпеть еще
немного? Сейчас только утро. Подождем до сумерек! И в сумерки, если ничто не
изменит нашей страшной участи, делайте, Арнольд Бентам, как мы условились!
Он посмотрел на капитана Николя, и тот утвердительно кивнул головой.
Капитан не мог произнести ни слова, но его влажные синие глаза были
красноречивее слов.
Я не считал и не мог считать преступлением того, что было решено
жребием, того, что мы с капитаном Николем воспользовались смертью Арнольда
Бентама. Я верил, что любовь к жизни, вопиющая в нас, внедрена была в нашу
грудь не кем иным, как Богом. Такова воля Божия -- а мы, его жалкие
создания, можем только повиноваться ему и творить его волю! Но Бог
милосерден. В своем милосердии он спас нас от страшного, хотя и правого
поступка...
Не прошло и четверти часа, как с запада подул ветер, слегка морозный и
влажный. Еще через пять минут наполнился парус, и Арнольд Бентам сел к рулю.
-- Берегите последний остаток ваших сил! -- промолвил он. -- Дайте мне
использовать оставшиеся у меня ничтожные силы, чтобы повысить ваши шансы на
спасение...
И он правил рулем под все более свежевшим бризом, в то время как мы с
капитаном Николем лежали врастяжку на дне лодки, предаваясь болезненным
грезам и видениям обо всем, что было нам мило в том мире, от которого мы
были теперь отрезаны.
Бриз все свежел и наконец начал дергать и рвать парус. Облака, бежавшие
по небу, предвещали шторм. К полудню Арнольд Бентам лишился чувств, но
прежде чем лодка успела повернуться на порядочной волне, мы с капитаном
Николем всеми четырьмя нашими ослабевшими руками ухватились за руль. Мы
решили чередоваться; капитан Николь, по должности, первым взялся за руль,
затем я ему дал передышку. После этого мы сменяли друг друга каждые
пятнадцать минут. Мы слишком ослабели и дольше не могли просидеть у руля в
один прием.
Перед вечером ветер произвел опасное волнение. Мы бы повернули лодку,
если бы положение наше не было таким отчаянным, и положили ее в дрейф на
морском якоре, импровизированном из мачты и паруса; огромные волны грозили
залить лодку.
Время от времени Арнольд Бентам начинал просить нас поставить плавучий
якорь. Он знал, что мы работаем только в надежде, что жребий не будет
приведен в исполнение. Благородный человек! Благородный человек был и
капитан Николь, суровые глаза которого съежились в какие-то стальные точки.
И мог ли я быть менее благороден в такой благородной компании? В этот долгий
и гибельный вечер я много раз возблагодарил Бога за то, что мне дано было
узнать этих двух людей! С ними был Бог, с ними было право, -- и какова бы ни
была моя участь, я был больше чем вознагражден их обществом, Подобно им, я
не хотел умирать, но и не боялся смерти. Некоторое недоверие, которое я
питал к этим людям, давным-давно испарилось. Жестока была школа, и жестоки
люди -- но это были хорошие люди.
Я первый увидел. Арнольд Бентам, согласившийся принять смерть, и
капитан Николь, близкий к смерти, лежали, как трупы, на дне лодки, а я сидел
у руля. Лодку подняло на гребень вспененной волны -- и вдруг я увидел перед
собой омываемый волнами скалистый островок! Он был меньше чем в миле
расстояния. Я закричал так, что оба моих товарища поднялись на колени и,
схватившись руками за борт, уставились в ту сторону, куда я смотрел.
-- Греби, Даниэль, -- пробормотал капитан Николь, -- там должна быть
бухточка, там может оказаться бухточка! Это наш единственный шанс!
И когда мы оказались вблизи подветренного берега, где не видно было
никаких бухточек, он опять пробормотал:
-- Греби к берегу, Даниэль! Там наше спасение.
Он был прав. Я повиновался. Он вынул часы, посмотрел на них, я спросил
о времени. Было пять часов. Он протянул свою руку Арнольду Бентаму, который
едва-едва мог ее пожать; оба посмотрели на меня, в то же время протягивая
свои руки. Я знал, что это было прощание; ибо какие шансы были у столь
ослабевших людей добраться живыми через омываемые бурунами скалы к вершине
торчащего утеса.
В двадцати футах от берега лодка перестала повиноваться мне. В одно
мгновение она опрокинулась, и я чуть не задохся в соленой воде. Моих
спутников я больше не видал. По счастью, у меня в руках оказалось рулевое
весло, которого я не успел выпустить, и волна в надлежащий момент и
надлежащем месте выбросила меня на пологий скат единственного гладкого утеса
на всем этом страшном берегу. Меня не поранило, меня не расшибло! И хотя
голова моя кружилась от слабости, я нашел в себе силы отползти подальше от
жадной волны.
Я стал на ноги, понимая, что я спасен, -- благодарил Бога и так,
шатаясь, стоял. А лодку уже разбило в щепки. И хотя я не видел капитана
Николя и Арнольда Бентама, но догадывался, как страшно были разбиты и
искромсаны их тела. На краю вспененной волны я увидел весло и, рискуя
сорваться, потянул его к себе. Потом упал на колени, чувствуя, что лишаюсь
сознания. Но все же, инстинктом моряка, я потащил свое тело по острым
камням, чтобы лишиться чувств там, куда не достигали волны.
В эту ночь я сам был полумертвец; почти все время я находился в
оцепенении, лишь смутно чувствуя минутами страшную стужу и сырость. Утро
принесло мне ужас и изумление. Ни одного растения, ни единой былинки не
росло на этой страшной скале, поднявшейся со дна океана! Имея в ширину
четверть мили и полмили в длину, остров представлял собой просто груду
камней. Нигде я не видел ни малейших следов благодатной природы. Я умирал от
жажды, но не находил пресной воды. Тщетно пробовал я языком каждую впадину и
ямку в камне. По милости штормов и шквалов каждое углубление в камнях
острова было наполнено водой соленою, как море.
От лодки не осталось ничего -- даже щепки не осталось на память о
лодке. Со мной остались лишь мой длинный крепкий нож и весло, спасшее меня.
Шторм улегся, и весь этот день, шатаясь и падая, ползая до тех пор, пока
руки и колени не покрылись у меня кровью, я тщетно искал воды.
В эту ночь, более близкий к смерти, чем когда-либо, я укрывался от
ветра за выступом скалы. Страшный ливень немилосердно поливал меня. Я снял с
себя мои многочисленные куртки и разостлал их по камням, чтобы напитать их
дождем; но когда я стал выдавливать эту влагу в свой рот, то убедился, что
ткань насквозь пропиталась солью океана. Я лег на спину и раскрыл рот, чтобы
поймать те немногие капли дождя, которые падали мне на лицо. Это были муки
Тантала, но все же слизистые оболочки моего рта увлажнились, и это спасло
меня от сумасшествия.
На следующий день я чувствовал себя совершенно больным. Я давно уже
ничего не ел и вдруг начал пухнуть. Распухли мои руки, ноги, все тело. При
малейшем нажатии пальцы мои углублялись на целый дюйм в тело, и появившаяся
таким образом ямка очень долго не исчезала. Но я продолжал трудиться во
исполнение воли Божией, требовавшей, чтобы я остался в живых. Голыми руками
я тщательно удалял соленую воду из малейших ямок, в надежде, что следующий
дождь наполнит их водою, пригодною для питья.
При мысли о своей страшной участи и о милых, оставленных дома, в
Эльктоне, я впадал в черную меланхолию и часто забывался на целые часы. И
это было хорошо, ибо не давало мне чувствовать мук, которых я в противном
случае не пережил бы.
Ночью меня разбудил шум дождя, и я ползал от ямки к ямке, лакая пресную
воду или слизывая ее с камня. Вода была солоноватая, но пригодная для питья.
Это и спасло меня, ибо утром я проснулся в обильном поту, но почти
совершенно исцеленным от лихорадки.
Потом показалось солнце -- впервые с минуты моего прибытия на этот
остров! -- и я разложил большую часть своего платья сушиться. Я напился воды
вдоволь и рассчитал, что при умелом обращении мне хватит запаса на десять
дней. Каким богачом я себя чувствовал, имея этот запас солоноватой воды! И
кажется, ни один богатый купец при возвращении всех своих кораблей из
благополучного странствия не чувствовал себя таким богатым при виде складов,
наполненных до потолочных балок, и битком набитых денежных сундуков, как я,
когда открыл выброшенный на камни труп тюленя, издохшего, вероятно, уже
несколько дней. Первым делом я не преминул возблагодарить на коленях Бога за
это проявление его неослабевающей милости.
Одно мне ясно: Господь не желал моей гибели! Он с самого начала не
желал этого.
Зная ослабленное состояние своего желудка, я ел очень умеренно,
понимая, что естественный аппетит мой убьет меня, если я поддамся ему.
Никогда, кажется, ко мне в рот не попадало более лакомых кусочков! Я
откровенно сознаюсь, что проливал слезы радости при виде этой гнилой падали.
Вновь ожила во мне надежда. Я тщательно сохранил части, оставшиеся от
трупа. Тщательно прикрыл мои каменные цистерны плоскими камнями, чтобы под
солнечными лучами не испарилась драгоценная влага и ветер не разметал ее
брызгами. Я собирал крохотные кусочки обрывков водорослей и сушил их на
солнце, чтобы создать хоть какую-нибудь подстилку для моего бедного тела на
жестких камнях, на которых приходилось спать. И платье мое было теперь сухо
-- впервые за много дней; я наконец заснул тяжелым сном истощенного
человека, к которому возвращается здоровье.
Я проснулся новым человеком. Отсутствие солнца не угнетало меня, и я
скоро убедился, что Господь не забыл меня и во время моего сна приготовил
мне другое чудесное благодеяние. Не доверяя своим глазам, я тер их кулаками
и опять глядел на море: насколько охватывал взор, все камни по берегу были
покрыты тюленями! Их были целые тысячи, а в воде играли другие тысячи, и
шум, который они производили, был оглушителен. Я сразу понял -- вот лежит
мясо, остается только брать его, -- мясо, которого хватило бы на десятки
судовых экипажей!
Я немедленно схватил свое весло -- кроме него, на всем острове не было
ни кусочка дерева -- и осторожно стал приближаться к этому чудовищному
складу провизии. Я скоро убедился, что эти морские звери не знают человека.
При моем приближении они не обнаружили никаких признаков тревоги, и убивать
их веслом по голове оказалось детской игрушкой.
Когда я таким образом убил третьего или четвертого тюленя, на меня
вдруг напало непостижимое безумие. Я, как ошалелый, стал избивать их без
конца! Два часа подряд я неустанно работал веслом, пока сам не стал валиться
от усталости. Не знаю, сколько я бы еще мог их избить, но через два часа,
как бы повинуясь какому-то сигналу, все уцелевшие тюлени побросались в воду
и быстро исчезли.
Я насчитал свыше двухсот убитых тюленей, и меня смутило и испугало
безумие, побудившее меня учинить такое избиение. Я согрешил ненужной
расточительностью и после того, как освежился этой хорошей, здоровой пищей,
принес свое раскаяние существу, милосердием которого был так чудесно спасен.
Я работал до сумерек и ночью, освежевывая тюленей, разрезая мясо на полосы и
раскладывая их на вершинах камней для сушки на солнце. В щелях и трещинах
скал на наветренной стороне острова я нашел немного соли и этой солью натер
мясо для предохранения от порчи.
Четверо суток трудился я таким образом и в конце этого времени ощутил
немалую гордость при виде того, что ни одна кроха мясного запаса не была
растрачена зря! Непрерывный труд оказался благодетельным для моего тела,
быстро окрепшего на здоровой пище. И вот еще признак перста судьбы: за все
восемь лет, которые я провел на этом бесплодном острове, ни разу не было
такого долгого периода ясной погоды и постоянного ведра, как в период,
непосредственно последовавший за избиением тюленей!
Прошло много месяцев, пока тюлени вновь посетили мой остров. Тем
Временем я, однако, не предавался праздности. Я выстроил себе каменный шалаш
и рядом с ним кладовую для хранения вяленого мяса. Этот шалаш я покрыл
тюленьими шкурами, так что кровля не пропускала воды. И когда дождь стучал
по крыше, я не переставал думать о том, что поистине царская, по цене мехов
на лондонском рынке, кровля предохраняет выброшенного морем матроса от
разгула стихии!
Я очень скоро убедился в необходимости вести какойнибудь счет времени,
без чего я потерял бы всякое представление о днях недели, не мог бы отличить
их один от другого и не знал бы воскресных дней.
Я мысленно вернулся к счету времени, практиковавшемуся в лодке
капитаном Николем: многократно и старательно перебрал в уме все события, все
дни и ночи, проведенные на острове. По семи камням, стоявшим за моей
хижиной, я вел свой недельный календарь. В одном месте весла я делал
небольшую зарубку на каждую неделю, а на другом конце весла помечал месяцы,
добавляя нужное число дней каждый месяц, по истечении четырех недель.
Таким образом, я мог праздновать как следовало воскресенье. На весле я
вырезал краткую молитву, соответствующую моему положению, и по воскресеньям
не забывал распевать ее. Бог в своем милосердии не забыл меня, и я за эти
восемь лет ни разу не забывал в надлежащее время вспоминать Господа.
Изумительно, сколько требовалось работы, чтобы удовлетворить самые
немудрые потребности человека в еде и крове! В тот первый год я редко бывал
праздным. Жилище, представлявшее собою просто логовище из камней,
потребовало тем не менее шести недель работы. Сушение и бесконечные
скобления тюленьих шкур, чтобы они сделались мягкими и гибкими для выделки
одежды, занимали у меня все свободное время на протяжении многих месяцев.
Затем оставался вопрос о водоснабжении. После каждого сильного шторма
летящие брызги солили мои запасы дождевой воды, и иногда мне очень круто
приходилось в ожидании, пока выпадут новые дожди без сопровождения сильных
ветров. Зная, что капля по капле и камень долбит, я выбрал большой камень,
гладкий и плотный, и при помощи меньших камней начал выдалбливать его. В
пять недель невероятного труда мне удалось таким образом выдолбить
вместилище, заключавшее в себе галлона полтора воды. Потом я таким же
образом сделал себе кувшин на четыре галлона. Это потребовало девяти недель
работы. Время от времени я делал сосуды помельче. В одном сосуде,
вместимостью в восемь галлонов, через семь недель работы открылась трещина.
Только на четвертом году пребывания на острове, когда я наконец
примирился с возможностью, что мне придется провести здесь всю свою жизнь, я
создал свой шедевр. Он отнял у меня восемь месяцев, но был непроницаем и
вмещал свыше тридцати галлонов! Эти каменные сосуды были для меня большим
счастьем -- иногда я забывал о своем унизительном положении и начинал
гордиться ими. Они казались мне изящнее, чем самая дорогая мебель
какой-нибудь королевы! Я сделал себе также небольшой каменный сосуд,
емкостью не больше кварты, чтобы им наливать воду в мои большие сосуды. Если
я скажу, что эта квартовая посуда весила тридцать фунтов, то читатель
поймет, что собирание дождевой воды было весьма нелегкой задачей.
Таким образом я сделал свою дикую жизнь настолько комфортабельной,
насколько это было возможно. Я устроил себе уютный и надежный приют; что
касается провизии, у меня всегда был под рукой шестимесячный запас, который
я предохранял от порчи солением и высушиванием.
Хотя я был лишен общества людей и около меня не было ни одного живого
существа -- даже собаки или кошки, -- я все же мирился со своей участью
легче, чем в данном положении с нею примирились бы тысячи других людей. В
пустынном месте, куда меня забросила судьба, я чувствовал себя гораздо
счастливее многих, за гнусные преступления обреченных влачить существование
в одиночном заключении, наедине с грызущей совестью.
Как ни печальны были мои перспективы, я все же надеялся, что
провидение, выбросившее меня на эти бесплодные скалы как раз в тот момент,
когда голод довел меня до нравственной гибели и меня чуть не поглотила
пучина морская, в конце концов пошлет кого-нибудь мне на помощь.
Но если я был лишен общества ближних и всяких жизненных удобств, я не
мог не видеть, что в моем отчаянном положении имеются и некоторые
преимущества. Я мирно владел всем островом, как мал он ни был. По всей
вероятности, никто не явится оспаривать мое право, кроме, разве, земноводных
тварей океана. И так как остров был почти неприступен, то ночью мой покой не
нарушался страхами нападения людоедов или хищных зверей.
Но человек странное, непонятное существо! Я, просивший у Бога, как
милости, гнилого мяса и достаточного количества не слишком солоноватой воды,
как только поел в изобилии соленого мяса и попил пресной воды, я уже начал
испытывать недовольство своей судьбой! Я начал испытывать потребность в
огне, во вкусе вареного мяса. Я ловил себя на том, что мне хочется лакомств,
какие составляли мои ежедневные трапезы в Эльктоне. Наперекор всем своим
стараниям, я не переставал мечтать о вкусных вещах, которые я ел, и о тех,
которые буду есть, если когда-нибудь спасусь из этой пустыни!
Я полагаю, что во мне говорил ветхий Адам -- проклятие праотца, который
был первым ослушником заповедей Божиих. Всего удивительнее в человеке его
вечное недовольство, его ненасытность, отсутствие мира с собою и с Богом,
вечное беспокойство и бесполезные порывы, ночи, полные тщетных грез,
своевольных и неуместных желаний. Сильно меня угнетала также тоска по
табаку. День был для меня большей мукой, ибо во сне я иногда получал то, о
чем тосковал: я тысячи раз видел себя во сне владельцем бочек табаку,
корабельных грузов, целых плантаций табаку!
Но я боролся с собою. Я неустанно молил Господа ниспослать мне
смиренное сердце и умерщвлял свою плоть неослабным трудом. Не будучи в
состоянии исправить душу свою, я решил усовершенствовать мой бесплодный
остров. Четыре месяца работал я над сооружением каменной стены длиною в
тридцать футов и вышиною в двенадцать. Она служила защитою хижине в период
сильных штормов, когда весь остров дрожал как буревестник в порывах урагана.
И время это не было потрачено даром. После этого я спокойно лежал в уютном
прикрытии, в то время как весь воздух на высоте сотни футов над моей головой
представлял собою сплошной поток воды, гонимый ветром на восток.
На третий год я начал строить каменный столб. Вернее, это была
пирамида, четырехугольная пирамида, широкая в основании и не слишком круто
суживающаяся к вершине. Я вынужден был строить именно таким образом, ибо ни
дерева, ни какого-либо орудия не было на всем острове, и лесов поставить я
не мог. Только к концу пятого года моя пирамида была закончена. Она стояла
на вершине островка. Теперь, вспоминая, что эта вершина лишь на сорок футов
возвышалась над уровнем моря и что вышка моей пирамиды на сорок футов
превышала высоту вершины острова, я вижу, что без помощи орудий мне удалось
удвоить высоту острова. Кто-нибудь, не подумав, скажет, что я нарушал планы
Бога при сотворении мира. Я утверждаю, что это не так, ибо разве я не входил
в планы Бога, как часть их, вместе с этой кучей камней, выдвинутых из недр
океана? Руки, которыми я работал, спина, которую я гнул, пальцы, которыми я
хватал и удерживал камни, -- разве они не входили в состав Божиих планов? Я
много раздумывал над этим и теперь знаю, что был тогда совершенно прав.
На шестом году я расширил основание моей пирамиды, так что через
полтора года после этого высота моего монумента достигла пятидесяти футов
над высотою острова. Это была не Вавилонская башня. Она служила двум целям:
давала мне пункт наблюдения, с которого я мог обозревать океан, высматривая
корабли, и усиливала вероятность того, что мой остров будет замечен небрежно
блуждающим взглядом какого-нибудь моряка. Кроме того, постройка пирамиды
способствовала сохранению моего телесного и душевного здоровья. Так как руки
мои никогда не были праздны, то на этом острове сатане нечего было делать.
Он терзал меня только во сне главным образом видениями различной снеди и
видом гнусного зелья, называемого табаком.
В восемнадцатый день июня месяца, на шестом году моего пребывания на
острове, я увидел парус. Но он прошел слишком далеко на подветренной
стороне, чтобы моряки могли разглядеть меня. Я не испытывал разочарования --
одно появление этого паруса доставило мне живейшее удовлетворение. Оно
убедило меня в том, в чем я до этого несколько сомневался, а именно: что эти
моря иногда посещаются мореплавателями.
Между прочим, в том месте, где тюлени выходили на берег, я построил две
боковые низкие стенки, суживавшиеся в ступеньки, где я с удобством мог
убивать тюленей, не пугая их собратий, находившихся за стеною, и не давая
возможности раненому или испугавшемуся тюленю убежать и распространить
панику. На постройку этой западни ушло семь месяцев.
С течением времени я привык к своей участи, и дьявол все реже посещал
меня во сне, чтобы терзать ветхого Адама безбожными видениями табаку и
вкусной снеди. Я продолжал есть тюленину и находить ее вкусной, пить пресную
дождевую воду, которую всегда имел в изобилии. Я знаю, Бог слышал меня, ибо
за все время пребывания на острове я ни разу не болел, если не считать двух
случаев, вызванных обжорством, о чем я расскажу ниже.
На пятом году, еще до того, как я убедился, что корабли иногда посещают
эти воды, я начал высекать на моем весле подробности наиболее замечательных
событий, случившихся со мной с той поры, как я покинул мирные берега
Америки. Я старался сделать эту повесть как можно более четкой и
долговечной, причем буквы брал самые маленькие. Иногда вырезание шести или
даже пяти букв отнимало у меня целый день.
И на тот случай, если судьбе так и не угодно будет дать мне желанный
случай вернуться к друзьям и к моей семье в Эльктоне, я награвировал, то
есть вырезал, на широком конце весла повесть о моих злоключениях, о которой
уже говорил.
Это весло, оказавшееся столь полезным для меня в моем бедственном
положении и теперь заключавшее в себе летопись участи моей и моих товарищей,
я всячески берег. Я уже не рисковал более убивать им тюленей. Вместо этого я
сделал себе каменную палицу, фута в три длины и соответствующего диаметра,
на отделку которой у меня ушел ровно месяц. Чтобы уберечь весло от влияний
погоды (ибо я пользовался им в ветреные дни как флагштоком, укрепляя на
вершине моей пирамиды; к нему я привязывал флаг, сделанный из одной из моих
драгоценных рубашек), я сделал для него покрышку из хорошо обработанных
тюленьих шкур.
В марте шестого года моего заключения я пережил один из сильнейших
штормов, каких когда-либо был свидетелем человек. Шторм начался около девяти
часов вечера тем, что с юго-запада налетали черные облака и сильный ветер;
около одиннадцати он превратился в ураган, сопровождаемый непрерывными
раскатами грома и самой ослепительной молнией, какую я когда-либо видел.
Я боялся за целость моего островка! Со всех сторон напирали огромные
волны, не доставая лишь до верхушки моей пирамиды. Здесь я чуть не погиб и
не задохся от напора ветра и брызг. Я видел, что уцелел только благодаря
тому, что соорудил пирамиду и таким образом вдвойне увеличил высоту острова.
Утром я имел еще больше причин быть благодарным судьбе. Вся запасенная
мною дождевая вода стала соленой, за исключением крупного сосуда,
находившегося на подветренной стороне пирамиды. Я знал, что если буду
экономить, то мне хватит воды до следующих дождей, как бы они ни запоздали.
Хижину мою почти совсем размыли волны, а от огромного запаса тюленины
осталось лишь немного мясной каши. Но я был приятно поражен, найдя на скалах
выброшенную во множестве рыбу. Я набрал и этих рыб не более и не менее как
тысячу двести девятнадцать штук; я разрезал их и провялил на солнце, как это
делают с трескою. Эта благоприятная перемена диеты не замедлила дать свои
результаты. Я объелся, всю ночь мучился и едва не умер.
На седьмой год моего пребывания на острове, в том же марте, опять
налетела такая же буря. И после нее, к моему изумлению, я нашел огромного
мертвого кита, совершенно свежего, выброшенного на берег волнами!
Представьте себе мой восторг, когда во внутренностях огромного животного я
нашел глубоко засевший гарпун обыкновенного типа, с привязанной к нему
веревкой в несколько десятков футов.
Таким образом, во мне снова ожили надежды, что я в конце концов найду
случай покинуть пустынный остров. Без сомнения, эти моря посещаются
китоловами, и если только я не буду падать духом, то рано или поздно меня
спасут. Семь лет я питался тюленьим мясом -- и теперь, при виде огромного
множества разнообразной и сочной пищи, я опять поддался слабости и поел ее в
таком количестве, что опять чуть не умер! И все это были лишь заболевания,
вызванные непривычностью пищи для моего желудка, приучившегося переваривать
только одно тюленье мясо и ничего другого.
Я наготовил на целый год китового мяса. Под лучами солнца я растопил в
расщелинах камней много жиру, в который, добавляя соль, макал полоски мяса
во время еды. Из драгоценных обрывков моих рубашек я мог даже ссучить
фитиль; имея стальной гарпун и камень, я сумел бы высечь огонь для ночи. Но
в этом не было нужды, и я скоро отказался от этой мысли. Мне не нужен был
свет с наступлением темноты, ибо я привык спать с солнечного захода до
восхода и зимою, и летом.
Здесь я, Дэррель Стэндинг, должен прервать свое повествование и
отметить один свой вывод. Так как личность человека непрерывно растет и
представляет собою сумму всех прежних существований, взятых в одно, то каким
образом смотритель Этертон мог сломить мой дух в своем застенке? Я -- жизнь,
которая не исчезает, я -- то строение, которое воздвигалось веками прошлого
-- и какого прошлого! Что значили для меня десять дней и ночей в
смирительной куртке? Для меня, некогда бывшего Даниэлем Фоссом и в течение
восьми лет учившегося терпению в каменной школе далекого Южного океана?
В конце восьмого года пребывания на острове, в сентябре, когда я только
что разработал честолюбивые планы поднять свою пирамиду до шестидесяти футов
над вершиною острова, я в одно утро проснулся и увидел корабль со спущенными
парусами и в таком расстоянии, что с него мог быть услышан мой крик. Чтобы
меня заметили, я подбрасывал весло вверх, прыгал со скалы на скалу, --
словом, всячески проявлял жизнь и деятельность, пока не убедился, что
офицеры, стоявшие на шканцах, смотрят на меня в подзорные трубки. Они
ответили мне тем, что указали на крайний западный конец острова, куда я и
поспешил, увидев лодку и в ней человек шесть экипажа. Как я впоследствии
узнал, корабль привлекла моя пирамида, и он несколько изменил свой курс,
чтобы ближе рассмотреть столь странную постройку, имевшую большую высоту,
чем одинокий остров, на котором она стояла.
Но прилив был слишком силен, чтобы лодка могла пристать к моему
негостеприимному берегу. После нескольких безуспешных попыток матросы
сигнализировали мне, что должны вернуться на корабль. Представьте себе мое
отчаяние при невозможности покинуть пустынный остров! Я схватил свое весло
(которое давно уже решил пожертвовать Филадельфийскому музею, если
когда-нибудь вырвусь из пустыни) и вместе с этим веслом очертя голову
бросился в пену прибоя. И так мне везло, так еще много оставалось во мне
силы и гибкости, что я добрался до лодки!
Не могу не рассказать здесь любопытного случая. Корабль к этому времени
так далеко отнесло, что нам пришлось целый час плыть до него. В течение
этого часа я предался наклонностям, убитым во мне многими годами, и попросил
у второго штурмана, сидевшего на руле, кусочек жевательного табаку. Он
сделал это, протянув мне также свою трубку, наполненную первостатейным
виргинским листовым табаком. Не прошло и десяти минут, как я отчаянно
заболел! И причина не возбуждала сомнений: организм мой совершенно отвык от
табаку, и я теперь страдал от отравления табаком, какое случается с каждым
мальчиком во время первых попыток курения. Опять я получил основание быть
благодарным Господу -- и с того дня по день моей смерти я не употреблял и
даже не желал этого гнусного зелья.
Я, Дэррель Стэндинг, должен теперь закончить повествование об
изумительных деталях жизни, которую я вторично пережил, лежа без сознания в
смирительной куртке тюрьмы Сан-Квэнтина. Часто приходил мне в голову вопрос:
остался ли Даниэль Фосс верен своему решению и отдал ли свое резное весло
Филадельфийскому музею?
Узнику одиночки очень трудно сообщаться с внешним миром. Однажды со
сторожем, в другой раз с краткосрочником, сидевшим в одиночке, я передал,
заставив заучить наизусть, письмо с запросом, адресованным хранителю музея.
И хотя мне были даны самые торжественные клятвы, но оба эти человека надули
меня. Только после того, как Эд Моррель, по странному капризу судьбы, был
освобожден из одиночки и назначен главным старостой всей тюрьмы, я получил
возможность отправить письмо. Ниже я привожу ответ, присланный мне
хранителем Филадельфийского музея и тайком врученный мне Эдом Моррелем:
"Правда, у нас имеется весло, какое вы описываете, но мало кто знает о
нем, ибо оно не выставлено в залах для публики. Я занимаю свой пост уже
восемнадцать лет и также не знал о его существовании.
Просмотрев наши архивы, я убедился, что такое весло было пожертвовано
неким Даниэлем Фоссом из Эльктона в Мериленде в 1821 году. Только после
продолжительных поисков нашли мы это весло на чердаке среди разного хлама.
Зарубки и повествования вырезаны на весле совершенно так, как вы описываете.
У нас имеется также брошюра, присланная нам, написанная означенным
Даниэлем Фоссом и напечатанная в Бостоне фирмою Н. Коверли Мл. в 1834 г. В
этой брошюре описаны восемь лет жизни человека, выброшенного на пустынный
остров. Очевидно, этот моряк, на старости лет впав в нужду, распространял
эту брошюру среди благотворителей.
Меня очень интересует, каким образом вы узнали об этом весле, о
существовании которого не подозревали мы, работающие в этом музее. Прав ли
я, предположив, что вы прочли о нем рассказ в каком-нибудь дневнике, позднее
изданном означенным Даниэлем Фоссом? Я буду рад всякому сообщению по этому
предмету и немедленно распоряжусь о том, чтобы весло и брошюра попали в
выставочные залы.
Преданный вам О с и я С э л с б е р т и"1.
Наступило время, когда я принудил смотрителя Этертона к безусловной
сдаче, обратившей в пустую фразу его ультиматум -- динамит или "крышка". Он
оставил меня в покое, как человека, которого нельзя убить смирительной
рубашкой. У него люди умирали через несколько часов пребывания в
смирительной рубашке. Он умерщвлял несколькими днями "пеленок", хотя жертв
его неизменно развязывали и увозили в больницу, прежде чем они
испус---------------
1. После казни профессора Дэрреля Стэндинга, когда рукопись
его мемуаров попала в наши руки, мы написали мистеру Осии Сэл
сберти, хранителю Филадельфийского музея, и получили ответ, под
тверждающий существование весла и брошюры. -- Примечание издателя.
-------------------- кали дух... А там доктор выдавал свидетельство о том,
что они умерли от воспаления легких, брайтовой болезни или порока сердечного
клапана.
Но меня смотрителю Этертону так и не удалось убить! Так и не возникло
необходимости перевезти в тележке мое изувеченное и умирающее тело в
больницу! Но должен сказать, что смотритель Этертон приложил все свои
старания и дерзнул на самое худшее. Было время, когда он заключал меня в
двойную рубашку. Об этом замечательном случае я должен рассказать.
Случилось так, что одна из газет Сан-Франциско (искавшая выгодного
рынка, как всякая газета, как всякое коммерческое предприятие) вздумала
заинтересовать радикальную часть рабочего класса тюремной реформой. В
результате, так как Рабочий Союз обладал в то время большим политическим
влиянием, угодливые политиканы Сакраменто назначили сенатскую комиссию для
обследования состояния государственных тюрем.
Эта сенатская комиссия _обследовала_ (простите мой иронический курсив)
Сан-Квэнтин. Оказалось, что такой образцовой темницы мир не видел. Сами
арестанты об этом свидетельствовали! И нельзя было их винить за это. Они по
опыту знали, ч т о влекут за собой подобные обследования. Они знали, что у
них будут болеть бока и все ребра вскоре после того, как они дадут свои
показания... если эти показания будут не в пользу тюремной администрации.
О, поверьте мне, читатель, это старая сказка! Старой сказкой была она в
Древнем Вавилоне за много лет до нашего времени -- и я очень хорошо помню
время, когда я гнил в тюрьме, в то время как дворцовые интриги потрясали
двор.
Как я уже говорил, каждый арестант свидетельствовал о гуманности
управления смотрителя Этертона. Их свидетельства о доброте смотрителя, о
хорошей и разнообразной еде и о варке этой еды, о снисходительности сторожей
вообще, о полном благоприличии, удобствах и комфорте пребывания в тюрьме
были так трогательны, что оппозиционные газеты Сан-Франциско подняли
негодующий вопль, требуя большей строгости в управлении нашими тюрьмами --
иначе, мол, честные, но ленивые граждане соблазнятся и будут искать случая
попасть в тюрьму!..
Сенатская комиссия явилась даже в одиночку, где нам троим нечего было
ни терять, ни приобретать. Джек Оппенгеймер плюнул им в рожи и послал членов
комиссии, всех вместе и каждого порознь, к черту. Эд Моррель рассказал им,
какую гнусную клоаку представляет собою тюрьма, обругал смотрителя в лицо.
Комиссия рекомендовала дать ему отведать старинного наказания, которое было
изобретено прежними смотрителями в силу необходимости управиться как-нибудь
с закоренелыми типами вроде Морреля.
Я остерегся оскорбить смотрителя. Я свидетельствовал искусно и как
ученый, начав с самого начала и шаг за шагом заставляя моих сенатских
слушателей с нетерпением дожидаться следующих деталей, и так ловко сплел я
свой рассказ, что они не имели возможности вставить слово или вопрос... и
таким образом заставил их выслушать все до конца!
Увы, ни словечка из того, что я рассказал, не просочилось за тюремные
стены! Сенатская комиссия дала прекрасную аттестацию смотрителю Этертону и
всему СанКвэнтину. Открывшая крестовый поход сан-францисская газета уверила
своих читателей из рабочего класса, что Сан-Квэнтин -- белее снега, и хотя
смирительная рубашка является еще законным средством наказания ослушников,
но в настоящее время, при гуманном и справедливом управлении смотрителя
Этертона, к смирительной рубашке никогда, ни в коем случае, ни при каких
обстоятельствах не прибегают.
И в то время, как бедные ослы из рабочего класса читали и верили, в то
время, как сенатская комиссия и спала и ела у смотрителя за счет государства
и налогоплательщиков, мы с Эдом Моррелем и Джеком Оппенгеймером лежали в
наших смирительных куртках, стянутых еще туже и еще мстительнее, чем
когда-либо раньше.
-- Да ведь это смеху подобно! -- простучал мне Эд Моррель концом своей
подошвы.
-- Плевать мне на них! -- выстукивал Джек.
Что касается меня, то я также выстукал свое горькое презрение и смех.
Вспомнив о тюрьмах Древнего Вавилона, я усмехнулся про себя космической
улыбкой и отдался охватившей меня волне "малой смерти", делавшей меня
наследником всех богов и полным господином времени.
Да, дорогой брат мой из внешнего мира, в то время как благоприятный для
смотрителя отчет печатался на станке, а высокопоставленные сенаторы жрали и
пили, мы, три живых мертвеца, заживо погребенные в наших одиночках, исходили
потом, мучаясь в смирительных рубашках...
После обеда, разгоряченный вином, смотритель Этертон самолично явился
посмотреть, что с нами. Меня он, по обыкновению, застал в летаргии. Тут
впервые встревожился сам доктор Джексон. Мне вернули сознание нашатырным
спиртом, пощекотавшим мне ноздри. Я усмехнулся в физиономии, склонившиеся
надо мною.
-- Притворяется! -- прохрипел смотритель; и по тому, как горело его
лицо и как он еле ворочал языком, я понял, что он пьян.
Я облизал губы, требуя воды, потому что мне хотелось говорить.
-- Вы осел! -- проговорил я наконец с холодной отчетливостью. -- Вы
осел, трус, гнусность, собака настолько низкая, что жаль тратить плевка в
вашу физиономию! Джек Оппенгеймер чересчур благороден с вами! Что касается
меня, то я без стыда передаю вам единственную причину, по которой я не плюю
вам в рожу: я не хочу унизить себя или мой плевок!
-- Мое терпение наконец истощилось! -- проговорил он. -- Я убью тебя,
Стэндинг!
-- Вы пьяны, -- возразил я, -- и я бы вам посоветовал, если вам уж
нужно сказать эту фразу, не брать в свидетели такого множества тюремных
собак. Они еще выдадут вас когда-нибудь, и вы лишитесь места!
Но он был всецело под властью вина.
-- Наденьте на него другую куртку! -- скомандовал он. -- Ты погиб,
Стэндинг, но ты умрешь не в куртке. Мы тебя вынесем хоронить из больницы!..
На этот раз поверх одной куртки на меня набросили другую, которую
стянули спереди.
-- Боже, боже, смотритель, какая холодная погода! -- издевался я. --
Какой страшный мороз! Я поистине благодарен вам за вторую куртку! Мне будет
почти хорошо.
-- Туже! -- приказывал он Элю Гетчинсу, который шнуровал меня. -- Топчи
ногами эту вонючку! Ломай ему ребра!
Должен признаться, что Гетчинс добросовестно постарался.
-- Ты будешь клеветать на меня? -- бесновался смотритель, и лицо его
еще более покраснело от вина и гнева. -- Смотри же, чего ты добился! Дни
твои сочтены наконец, Стэндинг! Это конец, ты слышишь? Это твоя гибель!
-- Сделайте милость, смотритель, -- прошептал я (я был почти без
сознания от страшных тисков), -- заключите меня в третью рубашку. -- Стены
камеры так и качались вокруг меня, но я изо всех сил старался сохранить
сознание, которое выдавливали из меня куртками. -- Наденьте еще одну
куртку...смотритель...так...будет...э, э, мне теплее!..
Шепот мой замер, и я погрузился в "малую смерть".
После этого пребывания в смирительной куртке я стал совсем другим
человеком. Я уже не мог как следует питаться, чем бы меня ни кормили. Я так
сильно страдал от внутренних повреждений, что не позволял выслушивать себя.
Даже сейчас, когда я пишу эти строки, у меня отчаянно болят ребра и живот.
Но моя бедная, измученная машина продолжает служить. Она дала мне
возможность дожить до этих дней и даст возможность прожить еще немного до
того дня, когда меня выведут в рубашке без ворота и повесят за шею на хорошо
растянутой веревке.
Но заключение во вторую куртку было последней каплей, переполнившей
чашу. Оно сломило смотрителя Этертона. Он сдался и признал, что меня нельзя
убить. Как я сказал ему однажды:
-- Единственный способ избавиться от меня, смотритель, -- это
прокрасться сюда ночью с топориком!
Джек Оппенгеймер тоже позабавился над смотрителем:
-- Знаешь, смотритель, тебе, должно быть, страшно просыпаться каждое
утро и видеть себя на своей подушке!
А Эд Моррель сказал смотрителю:
-- Должно быть, твоя мать чертовски любила детей, если вырастила тебя!
Когда куртку развязали, я почувствовал какую-то обиду. Мне недоставало
моего мира грез. Но это длилось недолго. Я убедился, что могу прекращать в
себе жизнь напряжением воли, дополняя ее механическим стягиванием груди и
живота при помощи одеяла. Этим способом я приводил себя в физиологическое и
психологическое состояние, подобное тому, какое вызывала смирительная
рубашка. Таким образом я в любой момент и, не испытывая прежних мук, мог
отправиться в скитание по безднам времени.
Эд Моррель верил всем моим приключениям, но Джек Оппенгеймер остался
скептиком до конца. На третий год пребывания в одиночке я нанес визит
Оппенгеймеру. Мне удалось сделать это только единственный раз, да и в тот
раз без всякой подготовки, вполне неожиданно.
После того как я потерял сознание, я увидел себя в его камере. Я знал,
что мое тело лежит в смирительной рубашке в моей собственной камере. И хотя
я раньше никогда его не видел, я понял, что этот человек -- Джек
Оппенгеймер. Стояла жаркая погода, и он лежал раздетый поверх своего одеяла.
Меня поразил трупный вид его лица и скелетоподобного тела. Это была даже не
оболочка человека. Это был просто остов человека, кости человека, еще
связанные между собой, лишенные всякого мяса и покрытые кожей, походившей на
пергамент.
Только вернувшись в свою камеру и придя в сознание, я припомнил все это
и понял: как существует Джек Оппенгеймер, как существует Эд Моррель, так
существую и я. Меня охватила дрожь при мысли, какой огромный дух обитает в
этих хрупких погибающих наших телах -- телах трех неисправимых арестантов!
Тело -- дешевая, пустая вещь. Трава есть плоть, и плоть становится травою;
но дух остается и выживает. Все эти поклонники плоти выводят меня из
терпения! Порция одиночки в Сан-Квэнтине быстро обратила бы их к правильной
оценке и к поклонению духу.
Вернемся, однако, в камеру Оппенгеймера. У него было тело человека
давно умершего, сморщившееся, словно от зноя пустыни. Покрывавшая его кожа
имела цвет высохшей грязи. Острые желто-серые глаза казались единственной
живой частью его организма. Они ни минуты не оставались в покое. Он лежал на
спине, а глаза его, как дротики, метались то туда, то сюда, следя за полетом
нескольких мух, игравших в полутьме над ним. Над его правым локтем я заметил
рубец, а другой рубец на правой лодыжке.
Спустя некоторое время он зевнул, перевернулся на бок и стал
осматривать отвратительную язву над ляжкой; он начал чистить ее и оправлять
грубыми приемами, к каким прибегают жильцы одиночек. В этой язве я признал
ссадины, причиняемые смирительной рубашкой. На мне в тот момент, когда я это
пишу, имеются сотни таких же.
Затем Оппенгеймер перевернулся на спину, бодро захватил один из
передних верхних зубов -- это был главный зуб -- между большим и
указательным пальцами и начал расшатывать его. Опять он зевнул, вытянул
руку, перевернулся и постучал к Эду Моррелю.
Разумеется, я понимал. что он выстукивает.
-- Я думал, ты не спишь! -- выстукивал Оппенгеймер. -- А что с
профессором?
Я еле расслышал глухие постукивания Морреля, который докладывал, что
меня зашнуровали в куртку с час тому назад и что я, по обыкновению, уже глух
ко всяким стукам.
-- Он славный парень, -- продолжал выстукивать Оппенгеймер. -- Я всегда
был подозрительно настроен к образованным людям -- но он не испорчен своим
образованием. Он молодец! Он храбрый парень, и ты в тысячу лет не заставишь
его сфискалить или проболтаться!
Эд Моррель согласился со всем этим и прибавил кое-что от себя. И здесь,
прежде чем продолжать, я должен сказать, что много лет и много жизней я
прожил, и в этих многочисленных жизнях я знавал минуты гордости; но самым
гордым моментом в моей жизни был момент, когда эти два мои товарища по
одиночке похвалили меня! У Эда Морреля и Джека Оппенгеймера были великие
души, и не было для меня большей чести, как то, что они приняли меня в свою
компанию! Цари посвящали меня в рыцари, императоры возводили в дворянство, и
сам я, как царь, знал великие моменты. Но ничто мне не кажется столь
блестящим, как это посвящение, произведенное двумя пожизненными арестантами
в одиночке, которых мир считал находящимися на самом дне человеческой
сточной ямы!..
Впоследствии, оправляясь после этого лежания в смирительной рубашке, я
привел свое посещение камеры Джека в доказательство того, что дух покидал
мое тело. Но Джек оставался непоколебимым.
-- Это угадывание, в котором есть нечто большее, чем угадывание! -- был
его ответ, когда я описал ему все его действия в ту пору, когда дух мой
навещал его камеру. -- Это ты себе представляешь! Ты сам провел почти три
года в одиночке, профессор, и легко можешь себе представить, что делает
человек, чтобы убить время! В том, что ты описываешь, нет ничего такого,
чего я и Эд не проделывали бы тысячи раз, начиная с лежания без одежды в
зной и до наблюдения мух, ухода за ранами и постукивания!
Моррель поддерживал меня, но все было напрасно.
-- Не обижайся, профессор, -- выстукивал Джек, -- я не говорю, что ты
врешь. Я говорю только, что ты грезил и представлял себе все это. Я знаю, ты
веришь тому, что говоришь, и думаешь, что все случилось на самом деле. Но
меня это ни в чем не убеждает! Ты это воображаешь, но не знаешь, что
воображаешь. Это нечто такое, что ты знаешь все время, но не сознаешь этого,
пока не придешь в свое сонное обморочное состояние.
-- Замолчи, Джек! -- выстучал я в ответ. -- Ты знаешь, что я никогда не
видел тебя в глаза. Ведь это так?
-- Я должен верить твоему слову, профессор. Может быть, ты видел меня и
не знал, что это я.
-- Дело в том, -- продолжал я, -- что я, если бы и видел тебя в одежде,
не мог бы рассказать тебе о рубце над правым локтем и о рубце на правой
лодыжке!
-- О, вздор! -- отвечал он. -- Все это ты найдешь в моих тюремных
приметах, равно как и мой портрет -- в Коридоре Мошенников. Тысячи
полицейских начальников и сыщиков знают это все!
-- Я никогда не слыхал! -- уверял я.
-- Ты не помнишь, что слыхал об этом, -- поправил он меня. -- Но все же
ты знаешь. Хотя бы ты даже забыл это -- бессознательно это сохранилось в
твоем мозгу; оно где-то спрятано для справок, только ты забыл -- где. Чтобы
вспомнить, тебе надо одурманиться. Случалось ли тебе когда-нибудь забывать
имя человека, известное тебе так же хорошо, как имя родного брата? Мне
случалось! Был, например, маленький присяжный, осудивший меня в Окленде в ту
пору, когда я получил свои пятьдесят лет. В один прекрасный день я убедился,
что забыл его имя! Представь себе, я целые недели лежал и ломал себе над
этим голову! Но то, что я не мог выудить его из памяти, еще не значит, что
его в ней не было! Оно просто было положено не на место, только и всего. И
вот тебе доказательство: в один прекрасный день, когда я даже не думал о
нем, оно вдруг выскочило из мозга на кончик языка! "Стэси!" -- громко
выкрикнул я. Джозеф Стэси, вот это имя!" Понял меня? Ты рассказываешь мне о
рубцах, известных тысячам людей. Я не знаю, как ты о них узнал, и думаю --
ты сам этого не знаешь. Но все равно! Тем, что ты мне расскажешь то, что мне
известно, ты меня не убедишь. Тебе нужно рассказать гораздо больше, чтобы я
проглотил остальные твои выдумки!
Гамильтонов закон бережливости при взвешивании доказательств! Этот
воспитавшийся в трущобах каторжник до того был развит духовно, что
самостоятельно разработал закон Гамильтона и правильно применил его!
И все же -- и это всего замечательнее -- Джек Оппенгеймер обладал
интеллектуальной честностью. В тот вечер, когда я подремывал, он подал мне
обычный сигнал.
-- Вот что, профессор: ты сказал мне, что видел, как я дергал свой
расшатавшийся зуб. Вот где ты поставил меня в тупик! Это единственное, чего
я не могу себе представить, как ты узнал. Зуб расшатался всего три дня
назад, и я не сказал об этом ни одной живой душе!..
Паскаль как-то сказал: "Рассматривая поступательный ход человеческой
эволюции, философский ум должен смотреть на человечество как на единого
человека, а не как на конгломерат индивидуумов".
Вот я сижу в Коридоре Убийц в Фольсоме и под сонное жужжание мух
переворачиваю в уме эту мысль Паскаля, -- как она верна! Совершенно так, как
человеческий зародыш в десять лунных месяцев с изумительной быстротой в
мириадах форм и подобий повторяет всю историю органической жизни от растения
до человека; как мальчик в краткие годы своего отрочества повторяет историю
первобытного человека своими играми и жестокими действиями, от необдуманного
причинения боли мелким тварям вплоть до племенного сознания, выражающегося
стремлением собираться в шайки, -- так и я, Дэррель Стэндинг, повторил и
пережил все, чем был первобытный человек, и все, что он делал, и так же, как
вы и прочее человечество, дожил до цивилизации двадцатого века.
Поистине каждый из нас, жителей этой планеты, носит в себе нетленную
историю жизни от самых ее зачатков. Эта история записана в наших тканях и в
наших костях, в наших функциях и в наших органах, в наших мозговых клетках и
в нашей душе, во всяческого рода физиологических и психологических атавизмах
и импульсах. Некогда, читатель, мы были с вами подобны рыбам, выплывали из
моря на сушу и переживали великие приключения, в толще которых мы находимся
еще и теперь. Следы моря еще держатся на нас, как и следы змея той далекой
эпохи, когда змей еще не был змеем, а человек человеком, когда празмей и
прачеловек были одним и тем же. Было время, когда мы летали по воздуху, и
было время, когда мы жили на деревьях и боялись потемок. Следы всего этого,
точно выгравированные, остались во мне и в вас и будут переходить в наше
семя после нас до скончания веков на земле.
То, что Паскаль понял своим взором провидца, я пережил. Я сам видел
того человека, которого Паскаль узрел философским оком. О, я пережил повесть
более правдивую, более чудесную и для меня более реальную, хотя и
сомневаюсь, сумею ли я рассказать вам и сумеете ли вы, мой читатель,
охватить ее, когда я расскажу. Я говорю, что видел себя тем самым человеком,
на которого намекает Паскаль. Я лежал в продолжительном трансе в
смирительной рубашке -- и видел себя в тысяче живых людей, проходя через
тысячи жизней; я сам был историей человеческого существования,
развивающегося в течение веков.
И какими же царственными представляются мне мои воспоминания, когда я
окидываю взглядом эти минувшие тысячелетия! За один прием куртки я переживал
бесчисленные жизни, заключенные в тысячелетних одиссеях первобытного люда.
Задолго до того, как я был Эзиром с белыми как лен волосами, который жил в
Асгарде, до того, как я был рыжеволосым Ваниром, жившим в Ванагейме, задолго
до всего этого я вспоминаю другие свои бытия, которые, как пух одуванчика по
ветру, проносились пред лицом наступавшего полярного льда.
Я умирал от стужи и холода, битв и потопа. Я собирал ягоды на холодном
хребте мира и откапывал съедобные корешки на жирных торфяниках и лугах. Я
нацарапывал изображения северного оленя и волосатого мамонта на клыках,
добытых охотой, и на каменных стенах пещер, под гул и рев бури. Я разбивал
мозговые кости на месте царственных городов, погибших за много веков до
моего времени, или тех, которым суждено было погибнуть через много веков
после моей смерти. Я оставил кости этих моих преходящих тел на дне прудов, в
ледниковых песках, в озерах асфальта. Я пережил века, ныне называемые
учеными палеолитической, неолитической и бронзовой эпохами. Я помню, как мы
с нашими прирученными волками пасли северных оленей на северном берегу
Средиземного моря, где сейчас находятся Франция, Италия и Испания. Это было
до того, как ледяной покров начал таять и отступать к полюсу. Я пережил
много равноденствий и много раз умирал, читатель... но только я все это
помню, а вы -- нет!
Я был Сыном Сохи, Сыном Рыбы и Сыном Древа. Все религии, от начал
человека, живут во мне. И когда пастор в часовне Фольсома служит Богу по
воскресеньям на современный лад, то я знаю, что в нем, в этом пасторе, еще
живут культы Сохи, Рыбы и Древа и даже все культы Астарты и Ночи.
Я был арийским начальником в Древнем Египте, когда мои солдаты рисовали
непристойности на резных гробницах царей, умерших и зарытых в незапамятные
времена, и я, арийский начальник Древнего Египта, сам построил себе два
склепа -- один в виде фальшивой могучей пирамиды, о которой могло
свидетельствовать поколение рабов. А второй -- скромный, тайный, высеченный
в камне пустынной долины рабами, умершими тотчас же после того, как их
работа была доведена до конца... И теперь, сейчас, в Фольсоме, в то время
как демократия грезит волшебными снами над миром двадцатого века, я думаю:
сохранились ли еще в каменном склепе сокровенной пустынной долины кости,
некогда принадлежавшие мне и двигавшие мое тело, когда я был блестящим
арийским начальником?
И во время великого передвижения человечества на юг и восток от
пылающего солнца, погубившего всех потомков домов Асгарда и Ванагейма, я был
царем на Цейлоне, строителем арийских памятников под властью арийских царей
на древней Яве и древней Суматре. И я умирал сотней смертей на Великом Южном
море задолго до того, как возрождался для строительства памятников, какие
умеют строить только арийцы, на вулканических островах тропиков, которых я,
Дэррель Стэндинг, назвать не могу, потому что слишком мало искушен сейчас в
географии южных морей.
О, если бы я умел обрисовать при помощи бренных слов все то, что я знаю
и чувствую в своем сознании, все, что осталось от могучего потока времени,
предшествующего нашей писаной истории! Да, уже и тогда у нас была история.
Наши старцы, наши жрецы, наши мудрецы рассказывали нашу историю в сказках и
записывали эти сказки на звездах, чтобы наши потомки после нас не забывали
их. С небес ниспадал живительный дождь и солнечный свет. И мы изучали небо,
научились по звездам рассчитывать время и угадывать времена года. Мы
называли звезды в честь наших героев, в честь наших скитаний и приключений и
в честь наших страстных побуждений и вожделений.
Увы! Мы считали нетленными небеса, на которых записывали наши скромные
стремления и скромные дела, которые мы творили или мечтали творить. Когда я
был Сыном созвездия Тельца, помню, я целую жизнь провел, глядя на звезды.
Позднее и раньше в других жизнях я распевал со жрецами и бардами заветные
песни о звездах, на которых, как мы думали, записаны наши нетленные
летописи. И вот в конце всего этого я сижу над книгой по астрономии, взятой
из тюремной библиотеки, и узнаю, что даже небеса -- вещь тленная и
преходящая.
Вооруженный этой совершенной наукой, я, воскресая из "малой смерти"
моих прежних существований, могу теперь сравнить тогдашние и теперешние
небеса. И звезды меняются! Я видел бесчисленные полярные звезды, целые
династии их. В настоящее время Полярная звезда находится в Малой Медведице.
Но в те далекие дни я видел Полярную звезду в Драконе, в Геркулесе, в Лире,
в Лебеде и в Цефее. Нет, даже звезды не вечны! И все же воспоминание и следы
их нетленны во мне, они в духе моем и в памяти моей, которая вечна. Только
дух вечен. Все же остальное, как материя, исчезает и должно исчезать.
О, как ясно я вижу сейчас человека, который явился в древнем мире,
белокурый, свирепый, убийца и любовник, пожирающий мясо и выкапывающий
корни, бродяга и разбойник, который с палицей в руке скитался по свету
тысячелетиями в поисках мяса и убежища для своих детенышей.
Я -- этот человек; я -- сумма этих людей; я -- безволосое двуногое,
развившееся из тины и создавшее любовь и закон из анархии жизни, визжавшей и
вопившей в джунглях. Я -- все, чем человек был и чем он стал. Я вижу себя в
перспективе поколений ставящим силки и убивающим дичь и рыбу; расчищающим
первые поля среди леса; выделывающим грубые орудия из камня и костей;
строящим деревянные хижины, покрывающим их листьями и соломой; возделывающим
поле и пересаживающим в него дикие травы и съедобные корешки, этих праотцов
риса, проса, пшеницы, ячменя и всех съедобных корнеплодов; учащимся
вскапывать землю, сеять, жать и складывать в житницы, разбивать волокна
растений, превращать их в нити и ткать из них ткани, изобретать системы
орошения; обрабатывающим металлы, создающим рынки и торговые пути, строящим
корабли и кладущим начало мореплаванию. Я же был организатором сельской
жизни, сливал отдельные селения, пока они не становились племенами, сливал
племена в народы, вечно ища законы вещей, вечно создавая людские законы,
дабы люди могли жить совместно и соединенными силами убивать и истреблять
всякого рода ползучую, пресмыкающуюся, ревущую тварь, которая иначе
истребила бы человека.
Я был этим человеком во всех его рождениях и стремлениях. Я и сейчас
этот человек, ожидающий своей смерти по закону, составить который я сам
помогал много тысяч лет назад и благодаря которому и уже много-много раз
умирал прежде. И когда я созерцаю теперь эту свою бесконечную прошлую
историю, я замечаю на ней великие и сложные влияния, и на первом плане --
любовь к женщине, любовь мужчины к женщине своего рода. Я вижу себя в
прошлых веках любовником -- вечным любовником! Да, я был и великим бойцом,
но мне, когда я сижу здесь сейчас и все это продумываю, начинает казаться,
что я был прежде всего и больше всего великим любовником. Я потому был
великим бойцом, что любил великой любовью!
Иногда мне кажется, что история человека -- это история любви к
женщине. Все воспоминания моего прошлого, которые я теперь записываю, суть
воспоминания о моей любви к женщине. Всегда, в десятках тысяч моих жизней и
образов, я любил ее, я люблю ее и сейчас. Сны мои полны женщиной; мои
фантазии наяву, с чего бы ни начинались, всегда приводят меня к женщине. Нет
спасения от нее -- от вечной, сверкающей, великолепной фигуры женщины!
Не заблуждайтесь! Я не пылкий неоперившийся юнец. Я пожилой человек с
разбитым здоровьем и разрушенным телом и скоро умру. Я ученый и философ. Я,
как и все поколения философов до меня, знаю цену женщине, ее слабости, ее
подлости, ее бесчестности, ее гнусности, ее прикованности к земле и ее
глазам, никогда не видящим звезд. Но -- и этот вечный неопровержимый факт
остается -- ноги ее прекрасны, ее руки и грудь -- рай, очарование ее сильнее
всего, что когда-либо ослепляло мужчин; и как полюс притягивает магнитную
стрелку, так и женщина -- хочешь не хочешь -- притягивает к себе мужчину.
Женщина заставила меня смеяться над смертью, расстоянием, презирать
усталость и сон; из любви к женщине я убивал мужчин, многих мужчин, или
купал нашу свадьбу в их горячей крови, или смывал ею пятно благоволения
женщины к другому. Я шел на бесчестие, изменял своим товарищам и звездам
ради женщины -- ради себя, вернее, так я желал ее. Я лежал в колосьях
ячменя, томясь желанием, только для того, чтобы видеть, как она пройдет
мимо, и утолить свое зрение ее чудесной раскачивающейся походкой, видом ее
развевающихся волос, черных как ночь, или темных, или льняных, или
отливающих золотом в лучах солнца.
Ибо женщина прекрасна для мужчины! Она сладость для его уст, она аромат
для его ноздрей. Она огонь в его крови; голос ее выше всякой музыки для его
ушей; она может потрясти его душу, непоколебимо стоящую в присутствии
титанов света и тьмы. Смотря на звезды, блуждая по далеким воображаемым
небесам, человек охотно отводит женщине место на небесах в виде Валькирии
или Гурии, ибо он не представляет себе небес без нее. И меч на поле битвы
поет не так сладко, как женщина поет мужчине одним своим смехом в лунном
сиянии, или любовными всхлипываниями в сумраке ночи, или покачивающейся
походкой под солнцем, когда он, с закружившейся от желания головой, лежит в
траве и смотрит на нее.
Я умирал от любви. Я умирал за любовь, как вы увидите. Скоро меня,
Дэрреля Стэндинга, выведут вон и умертвят. И эта смерть будет смертью за
любовь. О, не зря я был возбужден, когда убивал профессора Гаскелля в
лаборатории Калифорнийского университета. Он был мужчиной, и я был мужчиной.
И была между нами прекрасная женщина. Вы понимаете? Была женщина, а я был
мужчиной и любовником, я унаследовал всю ту любовь, которая существовала в
мрачных лесных чащах, полных дикого воя, когда любовь еще не была любовью, а
человек -- человеком.
О, я знаю, в этом нет ничего нового. Часто, очень часто в своем
длительном прошлом отдавал я жизнь, и честь, и власть за любовь. Мужчина
отличен от женщины. Она льнет к непосредственному и знает только насущные
потребности. Мы знаем честь, которая выше ее чести, и гордость, которая выше
самых фантастических грез ее гордости. Глаза наши видят далеко, видят
звезды; глаза женщины не видят ничего дальше твердой земли под ее ногами,
груди любовника на ее груди и здорового младенца на ее руке. И все же --
такова уж алхимия веков -- женщина волшебно действует на наши грезы.
Женщина, как верно говорят любовники, дороже всего мира. И это правильно,
иначе мужчина не был бы мужчиной, бойцом и завоевателем, прокладывающим свой
кровавый путь по трупам более слабых существ, -- ибо не будь мужчина
любовником, царственным любовником, он никогда не мог бы сделаться
царственным бойцом. Лучше всего мы деремся, и лучше всего умираем, и лучше
всего живем за то, что мы любим.
Этот единый мужчина воплощен во мне. Я вижу мои многочисленные "я",
составившие меня. И вечно я вижу женщину, многих женщин, создавших меня и
погубивших меня, любивших меня и любимых мною.
Помню -- о, это было давно, когда человеческий род был еще очень юн! --
я изготовил силки и вырыл яму с остроконечным колом посредине, чтобы поймать
кинжалозубого тигра с длинными клыками и длинной шерстью. Он был главной
опасностью для нас; он ночью подкрадывался к нашим кострам, подкапывал
берег, где мы в соленой отмели находили съедобные ракушки.
И когда рев и вой кинжалозубого заставил нас проснуться над угасающим
костром, и я вылез посмотреть, удалась ли моя затея с ямой и колом, то
женщина, обхватив меня ногами, обвив руками, дралась со мною и удерживала,
не давая мне выйти во тьму, как мне того хотелось. Она была только для
теплоты полуприкрыта шкурой животных, убитых мною; она была черна и грязна
от дыма костров; она не мылась со времени весенних дождей, с изгрызанными,
изломанными ногтями; на руках ее были мозоли, как на ногах зверя, и руки эти
похожи были на когтистые лапы; но глаза ее были сини, как летнее небо, как
глубокое море, и что-то было в ее глазах, и в руках, обвивавших меня, и в
сердце, бившемся рядом с моим, -- было нечто, удержавшее меня... несмотря на
то, что с вечера до самой зари кинжалозубый ревел от боли и ярости, и мои
товарищи шушукались и хихикали со своими женщинами, посмеивались над тем,
что я не верю в свое предприятие и изобретательность и не смею ночью выйти к
яме и колу, которые изготовил для того, чтобы поймать кинжалозубого. Но моя
женщина, моя дикая подруга, удерживала меня, и глаза ее влекли меня, руки ее
сковывали меня, -- и обвивавшие меня ноги и бьющееся сердце отвлекли меня от
моей грезы, от мужского подвига, от цели, заманчивее всех других целей -- от
того, чтобы взять и убить зверя на колу в яме.
Некогда я был Ушу, стрелок из лука. Я хорошо это помню. Я отбился от
своего народа в огромном лесу, вышел на равнину и был взят в плен незнакомым
народом, родственным моему: кожа у них тоже была белая, волосы желтые и речь
не слишком отличалась от нашей. Была там Игарь; я привлек ее своими песнями
в сумерках, ибо ей суждено было сделаться матерью нового рода. Она была
широкоплеча и полногруда, и ее не мог не увлечь мускулистый, с широкой
грудью мужчина, распевавший о своей доблести, об убийстве врагов и добывании
мяса и обещавший ей таким образом еду и защиту на то время, когда она будет
вынашивать потомство, которому суждено охотиться за мясом и жить после нее.
Эти люди не знали мудрых уловок моего племени; они добывали свое мясо
силками и ямами, убивая зверей палицами и камнями, им были неведомы свойства
быстролетной стрелы, зазубренной на одном конце, чтобы ее можно было
натягивать на крепко скрученную из оленьей жилы тетиву.
Покуда я пел, иноземные мужчины посмеивались. И только она, Игарь,
поверила мне. Я взял ее одну на охоту к водопою, куда приходили олени. Мой
лук задрожал и запел в засаде -- и олень пал, мгновенно сраженный, и сладко
было горячее мясо для нас, и я овладел ею здесь, у водопоя.
И из-за Игари я остался с чужим народом. Я научил их делать луки из
красного пахучего дерева, похожего на кедр. Я научил их держать оба глаза
открытыми и прицеливаться левым, делать тупые стрелы для мелкой дичи и
остроконечные стрелы из костей для рыбы в прозрачной воде и насаживать
острые куски обсидиана на стрелы для охоты на оленей и дикую лошадь, на лося
и на старого кинжалозубого тигра. Они смеялись над обтачиванием камней, пока
я насквозь не прострелил лося и обточенный камень не вышел наружу, а
оперенное древко стрелы не застряло во внутренностях животного. Все племя
тогда хвалило меня!
Я был Ушу-стрелок, а Игарь была моей женой и подругой. Мы смеялись под
солнцем по утрам, когда наши мальчик и девочка, желтые как медовые пчелы,
валялись и катались по желтому полю горчицы, а ночью она лежала в моих
объятиях, любила меня и уговаривала меня использовать искусство обрабатывать
дерево и делать наконечники для стрел из камней, чтобы я мог сидеть в лагере
и предоставить другим мужчинам приносить мне мясо с опасной охоты; и я
послушался ее, пополнел, у меня сделалась одышка, и в длинные ночи,
ворочаясь в бессоннице, я горевал над тем, что мужчины чужого племени
приносили мне мясо за мою мудрость, но смеялись над моей толщиной и
нежеланием охотиться.
И в старости, когда наши сыновья превратились в мужей, а дочери стали
матерями, когда с юга, как волны морские, на нас нахлынули смуглые люди с
плоскими лбами, с хохлатыми головами, и мы бежали перед ними на горные
склоны, Игарь, подобно моим подругам до и после нее, обвившись вокруг меня
всем телом, старалась удержать меня подальше от битвы.
И я оторвался от нее, несмотря на свою одышку и тучность, несмотря на
то, что она плакала, будто я разлюбил ее; я пошел и дрался ночью и на
рассвете, и под пение тетив и свист оперенных, с острыми наконечниками,
стрел мы показали им, этим хохлатоголовым, искусство боя, показали им, что
такое уменье и воля сражаться!
И когда я умирал в конце этой битвы, то вокруг меня зазвучали смертные
песни, и песни эти пели о том, что я был Ушу-стрелок из лука, а Игарь, моя
подруга, обвившись вокруг меня всем телом, хотела меня удержать от участия в
битве.
Однажды -- одно небо знает, когда это было -- очень, очень давно, когда
человек был юн, -- мы жили у великих озер, где холмы обступили широкую,
лениво текущую реку и где наши женщины добывали ягоды и съедобные корешки;
здесь были целые стада оленей, диких лошадей, антилоп и лосей, и мы,
мужчины, убивали их стрелами и ловили, загоняя в ямы или ущелья. А мы ловили
рыбу сетями, сплетенными женщиной из коры молодых деревьев.
Я был мужчина, горячий и любопытный, как антилопы, которых мы
заманивали, размахивая пучками травы из нашей засады в высокой траве. Дикий
рис рос на болоте, поднимаясь из воды у края канав. Каждое утро нас будили
своим щебетаньем дрозды, летавшие со своих гнезд на болото. А вечером воздух
наполнялся их шумом, когда они летели обратно в свои гнезда. Это было время
созревания риса. Были там утки, и утки и дрозды отъедались до тучности
спелым рисом, наполовину вышелушенным солнцем.
Всегда беспокойный, всегда пытливый, я хотел знать, что лежит за
холмами, за болотами и в тине на дне реки, я наблюдал диких уток и дроздов и
размышлял, пока мои мысли не сложились в видение. Вот что я увидел, вот
мысль моя.
Мясо хорошо есть. В конце концов, если проследить назад или, вернее, до
начала всего, мясо происходит от травы. Мясо уток и дроздов -- от семени
болотного риса. Убить утку стрелой едва ли оправдывало труд по выслеживанию
ее и долгие часы лежания в засаде. Дрозды были слишком малы, чтобы убивать
их стрелами, это было занятие разве что для мальчишки, который учится
стрелять и готовится к охоте на крупную дичь. Между тем в период созревания
риса дрозды и утки жирели и становились сочными. Жир их был от риса. Почему
же мне и близким моим не жиреть от риса таким же образом?
Все это я думал, сидя в лагере, угрюмый, безмолвный, покуда дети шумели
вокруг меня, а Аарунга, моя жена и подруга, тщетно бранила меня, посылая на
охоту -- принести мясо для нашей многочисленной семьи.
Аарунга была женщина, которую я украл у горного племени. Мы с нею целый
год учились понимать друг друга после того, как я полонил ее. В тот день,
когда я прыгнул на нее с нависшего древесного сука, она медленно шла по
тропинке. Всем своим телом я навалился ей на плечи, широко расставив пальцы,
чтобы схватить ее. Она завизжала, как кошка. Она дралась, кусалась, ногти ее
рук подобны были когтям дикой кошки, и она терзала меня ими. Но я удержал
ее, и овладел ею, и два дня подряд бил ее, и заставил уйти со мною из ущелий
горных людей на широкие равнины, где река протекала через рисовые болота и
утки и дрозды отъедались до тучности.
Когда рис созрел, я посадил Аарунгу на носу выдолбленного огнем
древесного ствола, этого грубого прообраза лодки. Я дал ей лопатку. На корме
же я разостлал выдолбленную ею оленью шкуру. Двумя толстыми палками я сгибал
стебли над оленьей шкурой и выколачивал зерна, иначе их бы поели дрозды. И
когда и выработал нужный прием, я дал две толстые палки Аарунге, а сам сидел
на корме, гребя и направляя ее работу.
В прошлом мы случайно ели сырой рис, и он нам не нравился. Теперь же мы
поджаривали его над огнем, так что зерна раздувались и лопались до белизны,
и все племя бегало отведывать его.
После этого нас стали называть Едоками Риса и Сынами Риса. И много
спустя после этого, когда Сыны Реки прогнали нас с болот на горы, мы взяли с
собой рис и посадили его. Мы научились отбирать на семя самые крупные зерна,
так что рис, который мы после того ели, был и крупнее, и мучнистее при
поджаривании и варке.
Но вернемся к Аарунге. Как я уже говорил, она визжала и царапалась, как
кошка, когда я похищал ее. И я помню время, когда ее родня, горные люди,
поймали меня и унесли в горы. Это были ее отец, брат отца и двое ее кровных
братьев. Но она была моя и жила со мною. И ночью, когда я лежал связанный,
как дикая свинья, приготовленная к убою, а они, усталые, крепко спали у
костра, она подобралась к ним ползком и размозжила им головы боевой палицей,
сделанной моими руками. Она поплакала надо мной, развязала меня и убежала со
мной обратно к широкой, ленивой реке, где дрозды и дикие утки кормились на
болотах, -- это было до прихода Сынов Реки.
Ибо она была Аарунга, единственная женщина, вечная женщина. Она жила во
все времена и была во всех местах. Она всегда будет жить. Она бессмертна.
Некогда в далеком краю ее имя было Руфь. Ее же звали Изольдой, Еленой,
Покагонтас и Унгой; и чужаки, из других племен, всегда находили ее и будут
находить в племенах всей земли.
Я помню много женщин, участвовавших в создании одной-единственной
женщины. Было время, когда Гар, мой брат, и я, поочередно предаваясь сну и
выслеживанию, гнались за диким жеребцом днем и ночью и широкими кругами,
которые смыкались там, где лежал спящий, довели жеребца голодом и жаждой до
кротости и слабости, так что в конце концов он мог только стоять и дрожать,
пока мы обвязывали его веревкой, сплетенной из оленьей кожи. Без труда,
только при помощи сообразительности -- я изобрел этот план! -- мы с братом
овладели быстроногим созданием и полонили его.
И когда все было готово для того, чтобы я сел коню на спину -- ибо
такова была моя мечта с первой же минуты, -- Сельпа, моя жена, обвила меня
руками и подняла крик, стала настаивать, что ехать должен Гар, а не я, ибо у
Гара нет ни жены, ни малюток и он может умереть без вреда для кого бы то ни
было. В конце концов она подняла плач, и Гар, нагой и цепкий, вскочил на
жеребца, и тот унес его.
На закате, с великими стенаниями, Гара принесли с далеких скал, где
нашли его тело. Голова его была разбита, и, как мед с упавшего дерева с
ульем, капали его мозги наземь. Его мать посыпала пеплом голову и вымазала
сажей лицо. Отец отрубил себе наполовину пальцы на одной руке в знак горя. А
женщины, в особенности молодые и незамужние, с визгом метали в меня бранные
слова; старики качали своими мудрыми головами и бормотали, что ни их отцы,
ни отцы их отцов не делали таких безумств. Лошадиное мясо хорошо есть;
молодая жеребятина мягка для старых зубов; и только глупец может близко
подойти к дикому коню, если он не пронзен стрелою или колом в яме.
Сельпа бранила меня до тех пор, пока я не уснул, а утром разбудила меня
своей трескотней; она осуждала мое безумие, заявляла свои права на меня и
права наших детей, так что мне это надоело, я оставил свои мечты и сказал,
что больше не буду и думать о том, чтобы сесть на дикого коня и скакать с
быстротой его ног и ветра по пескам и лугам.
Но проходили годы, и повесть о моем безумии не сходила с языка людей у
лагерных костров; и эти рассказы были моей местью, ибо мечта не умирала, и
молодые, слушая смех и издевки, передумывали ее заново, так что в конце
концов мой старший сын Отар, совсем юноша, обуздал дикого жеребца, вскочил к
нему на спину и полетел от нас с быстротой ветра. И после того, не желая
отставать от него, все мужчины уже ловили и укрощали диких коней. Много
коней и несколько мужчин погибло, но я дожил до того момента, когда, при
перемене стоянок в погоне за дичью, мы сажали наших младенцев в корзины из
лозы, переброшенные через спины коней, и те несли наши лагерную утварь и
пожитки.
Мне, когда я был молод, явилось видение: женщина, Сельпа, удерживала
меня от осуществления моей грезы; но Отар, наше семя, которому суждено было
жить после нас, осуществил мою мечту, так что наше племя теперь было богато
от удачной охоты.
Еще была одна женщина -- во время великого переселения из Европы, во
время скитаний многих поколений, когда мы ввели в Индии короткорогих овец и
посевы ячменя. Но эта женщина была задолго до того, как мы добрались до
Индии, мы находились еще в самом начале этих многовековых скитаний, и сейчас
я не могу вспомнить, в каком месте могла находиться та древняя долина.
Эта женщина была Нугила. Долина была узкая и длинная, и, кроме того,
скат ее и дно и ее крутые стены были изрыты террасами для взращивания риса и
проса -- первого риса и первого проса, которые узнали мы, Сыны Горы. В этой
долине жило смирное племя. Оно стало таким благодаря возделыванию
плодородной земли, еще более тучневшей от воды. У них-то мы впервые увидели
искусственное орошение, хотя у нас мало было времени наблюдать их канавы и
каналы, по которым горные воды стекали на поля. Времени у нас было мало,
потому что мы, Сыны Горы, малые числом, бежали от Сынов Шишконосого, которых
было много. Мы звали их Безносыми, а они называли себя Сынами Орла. Но их
было много, и мы бежали от них с нашим короткорогим скотом, с козами и
зернами ячменя, с женами и детьми.
Пока Шишконосые убивали нашу молодежь позади нас, мы убивали впереди
себя жителей долины, восставших против нас, но очень слабых. Поселения их
состояли из глинобитных, крытых соломою, хижин. Кругом селений шли
глинобитные стены значительной высоты. И когда мы перебили людей,
построивших стены, и укрыли за ними наши стада, наших женщин и детей, мы
стали на стене и бранили Шишконосых. Ибо мы застали глинобитные житницы
полными риса и проса. Скотина наша могла есть солому с крыш, и приближалось
время дождей, так что мы не знали нужды в воде.
Осада была продолжительная. Вначале мы собрали вместе женщин, стариков
и детей, которых не успели убить, и выгнали их за стены, построенные ими, и
Шишконосые убили их всех до последнего; в селении осталось больше пищи для
нас, а в долине -- для Шишконосых.
Это была утомительная, долгая осада. Болезни истребляли нас, и мы
умирали от мора, исходившего от плохо погребенных нами мертвецов. Мы
очистили глинобитные житницы от риса и проса. Наши козы и овцы ели солому с
крыш, а мы, пока не пришел конец, ели овец и коз.
Наступило время, когда из каждых пяти мужчин на стене остался один; из
полусотни младенцев и отроков не осталось ни одного. Нугила, моя жена,
отрезала себе волосы и сплела из них крепкую тетиву для моего лука. Прочие
женщины последовали ее примеру, и когда стена была атакована, они стали
плечом к плечу с нами, среди наших копий и стрел, и обрушивали груды
горшечных черепков и камней на головы Шишконосых.
Мы в конце концов почти перехитрили Шишконосых. Наступило время, когда
из каждых десяти мужчин на стене остался только один, а наших женщин
осталось совсем немного; и Шишконосые вступили в переговоры. Они объявили
нам, что мы крепкая порода, и что наши женщины способны рожать мужчин; если
мы отдадим им наших женщин, они оставят нам во владение долину, а женщин мы
себе добудем из долины южнее.
Но Нугила сказала -- нет, другие женщины также сказали -- нет. Мы
издевались над Шишконосыми и спрашивали их: неужели они устали сражаться? И
в то время как мы издевались над нашими врагами, мы были почти что мертвецы;
драться мы не могли, так мы ослабели. Еще один приступ на стену -- и нам
конец. Мы это знали. Наши женщины тоже это знали. И Нугила предложила нам
сделать это самим и оставить Шишконосых в дураках. Все женщины согласились с
нею. И пока Шишконосые готовились к последней атаке, мы на стене убивали
наших женщин. Нугила любила меня и склонилась грудью на мой меч здесь же, на
стене. А мы, мужчины, во имя любви к племени и к соплеменникам убивали друг
друга, пока от всей этой багровой резни не остались только Горда и я. Горда
был мой старший сын, и я склонился на его меч. Но не сразу я умер. Я был
последним из Сынов Горы, ибо на моих глазах Горда, пав на свой меч, быстро
скончался. Я умирал, смутно слыша вопли наступавших Шишконосых, и радовался
тому, что нашим женщинам не придется воспитывать их сыновей.
Не знаю, в какое время я был Сыном Горы и когда мы умирали в узкой
долине, где перебили Сынов Риса и Проса. Знаю только, что это случилось за
много столетий до великого переселения всех Сынов Горы в Индию и задолго до
того, как я был арийским владыкой в Древнем Египте и строил себе
погребальный склеп, разрывая могилы царей, похороненных до меня.
Я многое мог бы рассказать об этих далеких днях, но времени остается
мало. Скоро я умру. И все же мне жаль, что я не могу рассказать подробнее об
этих древних переселениях.
Мне хочется поговорить о Тайне. Ибо нас всегда тянет разрешать тайны
жизни, смерти и угасания. В отличие от прочих животных, человек всегда
глядел на звезды. Много богов создал он по своему образу и подобию своих
влечений. В те древние времена я поклонялся солнцу и тьме. Я поклонялся
очищенному рисовому зерну, как праотцу жизни. Я преклонялся Сар, богине
злаков. Я поклонялся морским богам и речным богам.
Я помню Иштар еще до того, как ее украли у нас вавилоняне. Эа также
была наша, она царила в подземном мире, давшем Иштар возможность победить
смерть. Добрым арийским богом был и Митра, до того как его у нас украли или
пока мы от него не отказались. Я помню, что однажды, спустя много времени
после переселения в Индию, куда мы занесли ячмень, я отправился в Индию
лошадиным барышником с моими слугами и длинным караваном, и помню, что в это
время мы поклонялись Бодисатве.
Действительно, поклонение таинственному так же странствовало, как и
люди, и боги вели такую же бродячую жизнь, как и народы. Как сумерийцы
заимствовали у нас Шамашнапиштина, так сыны Сима похитили его у сумерийцев и
назвали его Ноем.
Я, Дэррель Стэндинг, в Коридоре Убийц улыбаюсь теперь тому, что меня
признали виновным и приговорили к смерти двенадцать дюжих и добросовестных
присяжных. Двенадцать всегда было магическое число -- число Тайны. Оно
родилось не во времена двенадцати племен Израилевых. Задолго до Израиля
звездочеты наметили двенадцать знаков Зодиака в небесах. И помню, когда я
был Ассиром и Ваниром. Один судил людей в сонме двенадцати богов, и имена их
были: Тор, Бальдур, Ниорд, Фрей, Тюр, Бреги, Геймдаль, Годер, Видар, Улль,
Форсети и Локи.
У нас украли даже наших валькирий, превратив их в ангелов, и крылья
коней валькирий оказались прикрепленными к плечам ангелов. И тогдашний наш
Гельгейм, царство льда и мороза, сделался нынешней нашей преисподней, в
которой так жарко, что кровь кипит в жилах грешников, между тем как у нас, в
нашем Гельгейме, царил такой холод, что мозг замерзал в костях. И само небо,
которое мы считали нетленным и вечным, переселялось и колебалось, так что в
настоящее время мы видим созвездие Скорпиона на том месте, где встарь
находилась Коза, и Стрельца на месте Рака.
Культы и культы! Вечное преследование Тайны. Я помню хромого бога
греков, кузнеца. Но греческий Вулкан был и германский Виланд, кузнец,
которого поймал и сделал хромым, подрезав ему поджилки, Нидунг, царь нидов.
Еще раньше он был нашим богом кузнецов, и мы его называли Ильмаринен. Мы
родили его в нашем воображении, дав ему в отцы бородатого солнечного бога и
в воспитатели -- звезды Большой Медведицы. Ибо бог Вулкан, или Виланд, или
Ильмаринен, родился под сосною от волоска волка и назывался отцом Медведя
задолго до того, как его стали обожествлять германцы и греки. В те дни мы
себя называли Сынами Медведя и Сынами Волка, и медведь и волк были у нас
священными животными. Это было задолго до нашего переселения на юг, во время
которого мы соединились с Сынами Древесной Рощи и передали им наши легенды и
сказания.
Да, а кто был Кашияна, он же Пуруровас, как не наш храбрый кузнец,
которого мы брали с собой в наших скитаниях и переименовывали и
обожествляли, когда жили на юге и на востоке, когда были Сынами Полюса и
Сынами Огневого Ручья и Огневой Бездны?
Но рассказывать это -- слишком долгая история, хотя мне хотелось бы
рассказать о трехлистном зелье жизни, при помощи которого Сигмунд возвратил
к жизни Синфиоти, ибо это было то же самое, что индийское растение Сома...
или о святой чаше Грааля, короля Артура, или... -- но довольно! Довольно!
Спокойно обсуждая все это, я прихожу к выводу, что величайшей вещью в
жизни, во всех жизнях, моей и всех людей, была женщина, и есть женщина, и
будет женщина, доколе звезды движутся в небе и небеса изменяются в вечном
течении. Превыше наших трудов и усилий, превыше игры воображения и
изобретательности, битв, созерцания звезд и Тайны -- превыше всего этого
была женщина.
Даже когда она фальшиво пела мне песни, и влекла мои ноги к неподвижной
земле, и отводила мои глаза, созерцающие звезды, к земле, заставляя глядеть
на нее, -- она, хранительница жизни, мать земная, дарила мне лучшие мои дни
и ночи и всю полноту лет. Даже Тайну я представлял себе в ее образе, и,
вычерчивая карту звезд, ее фигуру я поместил на небе.
Все мои труды и изобретения приводили к ней: все мои мечты и грезы
видели ее в конце. Для нее добыл я огонь. Для нее, не сознавая этого, я
вбивал кол в яму, чтобы ловить зверей, укрощал коней, убивал мамонта и гнал
свои стада северных оленей к югу, отступая перед надвигавшимися ледниками.
Для нее я жал дикий рис и сеял ячмень, пшеницу и рожь.
За нее и за потомство, которое она должна была родить по своему образу,
я умирал на вершинах деревьев и выдерживал долгие осады в пещерах и на
глинобитных стенах. Для нее я поместил на небе двенадцать знаков Зодиака. Ей
я поклонялся, склонившись перед десятью камнями из нефрита и обожествляя их
как фазы подвижничества, как десять лунных месяцев пред тайной рождения.
Всегда женщину тянуло к земле, как куропатку, выхаживающую птенцов;
всегда моя бродячая натура сбивала меня на блестящие пути, и всегда мои
звездные тропинки возвращали меня к ней, к вечной фигуре женщины,
единственной женщины, объятия которой так мне были нужны, что в них я
забывал о звездах.
Ради нее я совершал одиссеи, всходил на горы, пересекал пустыни; ради
нее я был первым на охоте и первым в сражении; и ради нее и для нее я пел
песни о подвигах, совершенных мною. Все экстазы жизни и все восторги
принадлежали мне, и ради нее. И вот в конце могу сказать, что я не знал
более сладкого и глубокого безумия, чем какое испытывал, утопая и забываясь
в ароматных волнах ее волос.
Еще одно слово. Я вижу перед собой Дороти в те дни, когда еще читал
лекции по агрономии крестьянамстудентам. Ей было одиннадцать лет. Отец ее
был деканом колледжа. Это была женщина-ребенок, и она понимала, что любит
меня. А я улыбался про себя, ибо сердце мое было нетронуто и тянулось в
другом направлении.
Но как нежна была эта улыбка! В глазах ребенка я видел все ту же вечную
женщину, женщину всех времен и всех образов. В ее глазах я видел глаза моей
подруги льдов и древесных вершин, и пещеры, и стоянки у костра. В ее глазах
я видел глаза Игарь, когда сам был стрелком Ушу, Глаза Аарунги, когда я был
жнецом риса. Глаза Сельпы, когда я мечтал оседлать жеребца, и глаза Нугилы,
павшей на острие моего меча. Было в ее глазах то, что делало их глазами
Леи-Леи, которую я помню со смехом на устах, глаза княжны Ом, сорок лет
делившей со мной нищенство и скитания по большим дорогам, глаза Филиппы, за
которую я был убит на лужайке в старинной Франции. Глаза моей матери, когда
я был мальчиком Джессом на Горных Лугах, в кругу наших больших сорока
повозок...
Это была женщина-ребенок, но она была дочерью всех женщин, как и мать
ее, жившая до нее; и она была матерью всех грядущих женщин, которые будут
жить после нее. Она была Сар, богиня злаков. Она была Иштар, покорившая
смерть. Она была Царицей Савской и Клеопатрой, Эсфирью и Иродиадой. Она была
Марией Богоматерью и Марией Магдалиной, и Марией, сестрой Марфы, и самой
Марфой. Она была Брунгильдой и Женевьевой, Изольдой и Джульеттой, Элоизой и
Николеттой. Она была Евой, Лилит и Астартой. Ей было всего одиннадцать лет,
но в ней были все женщины прошлого и будущего.
И вот сижу я в своей камере, мухи жужжат в сонное летнее предвечерье, и
я знаю, что сроку мне осталось немного. Скоро, скоро наденут на меня рубаху
без ворота... Но умолкни, сердце! Дух бессмертен. После тьмы я опять оживу,
и опять будут женщины! Грядущее приготовило для меня милых женщин в тех
жизнях, которые мне еще предстоит прожить. И хотя звезды текут и небеса
лгут, но вечной остается женщина -- блестящая, вечная, единственная женщина,
-- как и я, под всеми масками и злоключениями своими, остаюсь единственным
мужчиной, ее другом и супругом.
У меня мало времени. Вся рукопись, все написанное мною до сих пор
благополучно вынесено контрабандой из тюрьмы. Есть человек, которому я могу
довериться, и который позаботится о том, чтобы она была напечатана. Я уже не
нахожусь в Коридоре Убийц. Эти строки я пишу в Камере Смертников. И стража
смертников следит за мной. День и ночь бодрствует надо мной эта стража, и
парадоксальное ее назначение заключается в том, чтобы не дать мне умереть. Я
должен уцелеть для повешения, иначе публика почувствует себя обманутой,
закон будет посрамлен, и падет тень на раболепного смотрителя тюрьмы,
который управляет ею и в число обязанностей которого входит наблюдение за
тем, чтобы смертники были должным и пристойным образом повешены. Часто я
задумываюсь над тем, какие странные у людей способы кормиться!..
Это будут последние мои строки. Час назначен на завтра, на утро.
Губернатор отказался помиловать меня или отсрочить исполнение приговора,
несмотря на то, что Лига борьбы со смертной казнью подняла большой шум в
Калифорнии. Репортеры собрались, как воронье. Я всех их видел. В большинстве
это потешные юнцы, и всего удивительнее то, что они хотят заработать на хлеб
и на масло, на выпивку и табак, на квартирную плату, а кто женат -- на
башмаки и учебники для детей -- присутствием при казни Дэрреля Стэндинга,
описав публике, как профессор Дэррель Стэндинг умер на конце веревки. О, в
конце этого дела они себя будут чувствовать хуже, чем я!
Я сижу и думаю обо всем этом, прислушиваясь к шагам стражей,
расхаживающих взад и вперед перед моей клеткой и подозрительным оком
поглядывающих на меня время от времени.
Я, наконец, устал от этого вечного подглядывания! Я прожил столько
жизней! Я устал от бесконечной борьбы, страданий и катастроф, подстерегающих
тех, кто сидит на высоком месте, ступает по блестящим стезям и скитается
среди звезд.
Надеюсь, что когда я в следующий раз воплощусь в телесную форму, то это
будет тело мирного фермера. Мечтаю о ферме. Я хотел бы отдать такой ферме
всю свою жизнь. О, мои грезы! Мои луга альфы, моя породистая джерсейская
скотина, мои нагорные пастбища, холмы, поросшие кустарником и незаметно
переходящие в возделанное поле, и мои ангорские козы, поднимающиеся по
горным склонам и беспощадно объедающие кусты!
Там имеется бассейн, естественный водоем с прекрасным водоразделом,
защищенный горами с трех сторон. Мне хотелось бы построить дамбу с четвертой
стороны, поразительно узкой. Ценой небольшого труда я мог бы заключить таким
образом в ограду двадцать миллионов галлонов воды. Ведь вы знаете, что одной
из невыгод сельского хозяйства в Калифорнии является продолжительное
засушливое лето. Зной не дает возможности сажать защитные растения, и
перегной чувствительной почвы, обнаженный и распыленный, перегорает на
солнце. Устрой я такую плотину, я мог бы собирать в год три урожая, соблюдая
севооборот и смены зеленого пара.
Только что я вытерпел визит смотрителя. Я нарочно говорю "вытерпел". Он
совершенно непохож на смотрителя Сан-Квэнтина. Он очень нервничал, и мне
поневоле пришлось занимать его. Это его первое повешение. Так он сам мне
сказал. Я неуклюже пытался сострить, объявив, что это и м о е первое
повешение, но все же не успокоил его. Он не в состоянии был засмеяться. У
него дочь учится в высшей школе, и мальчик только что поступил в Стэнфорд.
Кроме жалованья, у него нет других доходов, жена у него инвалид, и его очень
огорчает то, что директор страхового общества отказался принять его на
страховку под предлогом нежелательного риска.
Этот человек, в сущности, рассказал мне все свои беды. Если бы я
дипломатически не оборвал свидания, он еще до сих пор сидел бы у меня и
рассказывал!
Последние два года, проведенные мною в Сан-Квэнтине, были очень мрачны
и унылы. Эд Моррель, по одному из диких капризов случая, был выпущен из
одиночки и сделан главным старостой всей тюрьмы. Это была должность Эля
Гетчинса, приносившая доходу три тысячи долларов в год. На мое несчастье,
Джек Оппенгеймер, столько лет гнивший в одиночке, обозлился на весь свет, на
всех. В течение восьми месяцев он отказывался разговаривать даже со мною!
В тюрьме новости распространяются. Дайте только время -- и новость
дойдет и до карцера, и до камеры одиночного узника. Дошло наконец и до меня
известие, что Сесиль Винвуд -- поэт-сочинитель пьес и доносчик -- вернулся в
тюрьму за новое преступление. Вы должны припомнить, что именно Сесиль Винвуд
сочинил волшебную сказку, будто бы я переменил тайник несуществующего
динамита, и что именно он виноват в пяти годах одиночки, к которым меня
присудили.
Я решил убить Сесиля Винвуда. Моррель ушел, а Оппенгеймер до вспышки,
прикончившей его, хранил молчание. Одиночка сделалась для меня невыносимой.
Мне нужно было сделать что-нибудь. И вот я вспомнил время, когда я был
Адамом Стрэнгом и терпеливо вынашивал месть в течение сорока лет. Что сделал
он, могу сделать и я, если мне только удастся когда-нибудь наложить руку на
горло Сесиля Винвуда.
От меня никто не станет требовать, чтобы я рассказал, как в мои руки
попали четыре иголки; это были тонкие иголки для шитья по батисту. Как я ни
был худ, мне все же пришлось перепилить четыре железных прута, каждый в двух
местах, чтобы проделать отверстие, сквозь которое я мог бы протиснуться. Я
это все сделал. Я израсходовал по иголке на каждый прут. Это значит -- два
разреза на прут; и каждый разрез отнял месяц времени. Таким образом, мне
понадобилось восемь месяцев, чтобы выбраться вон. К несчастью, на последнем
пруте я сломал последнюю иголку -- и мне пришлось ждать целых три месяца,
пока я мог раздобыть другую.
Но я добыл ее и вышел из камеры.
Я страшно жалею, что не поймал Сесиля Винвуда! Я все хорошо рассчитал,
кроме одной мелочи. Всего скорее можно было найти Винвуда в столовой в
обеденный час. И вот я дождался, пока Пестролицего Джонса, сонливого
сторожа, послали на смену в полуденный час. К этому времени я был
единственным обитателем одиночки, так как Пестролицый Джонс скоро захрапел.
Я раздвинул прутья, вылез, прокрался мимо него по коридору, отворил дверь и
вышел... в другую часть тюрьмы!
И тут я не принял в соображение одного -- себя самого. Я пять лет
просидел в одиночной камере. Я чудовищно ослабел. Я весил всего восемьдесят
семь фунтов; я наполовину ослеп. Я мгновенно заболел агорафобией -- боязнью
пространства. Меня испугало открытое место. Пять лет сидения в тесных стенах
сделали меня совершенно непригодным для спуска по страшной крутизне
лестницы, непригодным для просторов тюремного двора.
Спуск по этой лестнице я считаю самым героическим подвигом, когда-либо
совершенным мною. Во дворе было пусто. Яркое солнце заливало его
ослепительным светом. Трижды я пытался перейти его. Но у меня кружилась
голова, и я отступал обратно к стене, под ее защиту. Наконец, собрав все
свое мужество, я попытался двинуться вперед. Но мои бедные полуслепые глаза,
глаза летучей мыши, испугались моей собственной тени на каменных плитах. Я
попробовал обойти мою собственную тень, споткнулся, упал на нее и, как
утопающий, рвущийся к берегу, пополз на руках и коленях обратно к стене.
Прислонившись к стене, я заплакал. Я плакал в первый раз за много лет.
Я помню, что в тот момент я успел ощутить теплоту слез на моих щеках, их
соленый вкус на моих губах. На меня напал озноб, и некоторое время я трясся
мелкой дрожью. Странствие по пустыне двора было совершенно невозможным
подвигом для человека в моем положении, и все же, трясясь от озноба,
прижимаясь к стене, ощупывая ее руками, я начал обходить двор. И тут, надо
полагать, меня и увидел сторож Серстон. Я увидел его образ, искаженный моим
помутившимся взором, -- образ огромного упитанного чудовища, бросившегося на
меня с невероятной быстротой из отдаленного угла. Возможно, что в тот момент
он находился от меня в расстоянии двадцати футов. Весу в нем было сто
семьдесят фунтов. Нетрудно представить себе, какого рода борьба между нами
происходила, но как-то вышло, что в этой борьбе я ударил его кулаком по
носу, и из этого органа потекла кровь.
Как бы там ни было, я -- вечник, а в Калифорнии наказание вечнику за
драку только одно -- смерть; меня присудили к смерти присяжные, которые не
могли игнорировать утверждений сторожа Серстона и прочих тюремных собак, а
судья, который не мог игнорировать закона, очень ясно изложенного в
уголовном кодексе, приговорил меня к повешению.
Меня изрядно исколотил Серстон, и весь обратный путь по этой ужасной
лестнице меня пинали, колотили и награждали затрещинами старосты и сторожа,
сбивавшие друг друга с ног в усердии помочь Серстону. Если у него пошла из
носу кровь, то, скорей всего, от того, что кто-нибудь из его же товарищей
ушиб его в свалке. Я ничего не имел бы против того, чтобы в этом была моя
вина; но ужасно быть повешенным за такой пустяк!
Я только что беседовал с человеком, несущим при мне дежурство. Меньше
года назад Джек Оппенгеймер занимал эту самую камеру на пути к виселице, по
которому завтра пойду и я. И этот человек был один из сторожей Джека. Он
старый солдат. Он непрерывно и неопрятно жует табак, его седая борода и усы
в желтых пятнах. Он вдовец, у него четырнадцать живых детей, сплошь
семейных, тридцать один внук и четыре правнучки. Выудить у него эти сведения
было так же трудно, как выдернуть зуб человеку! Это старый чудак, не
особенно развитой. Вот почему, кажется мне, он прожил так долго и народил
столь многочисленное потомство. Ум его застыл, наверное, лет тридцать тому
назад, и мысли его ровно настолько же отстали от нашего времени. Все его
ответы на мои вопросы сводятся большей частью к словам "да" или "нет". И это
не потому, чтобы он был угрюм, -- у него просто нет мыслей, которыми бы
стоило делиться, не знаю, когда я опять оживу, но воплощение в человеке
такого рода дало бы мне славное растительное существование, отличный отдых
перед тем, как вновь отправиться в скитания меж звезд...
Но вернемся к моему повествованию. Я остановился на том, как меня
пинали, толкали и били, таща вверх по лестнице, Серстон и остальные тюремные
псы; очутившись в своей тесной одиночке, я испытал чувство бесконечного
облегчения. Там было так безопасно, так спокойно! У меня было чувство
ребенка, заблудившегося и попавшего наконец домой. Я полюбил те самые стены,
которые так ненавидел в течение пяти лет. От пугающего чудовищного
пространства отгораживали меня именно эти славные толстые стены, с каждой
стороны находившиеся близко, под рукой! Какая это была ужасная болезнь --
агорафобия! Мне недолго пришлось испытывать ее, но даже и то немногое, что я
испытал, заставляет меня думать, что повешение куда легче...
Только что я посмеялся от души! Тюремный доктор, славный малый, заходил
покалякать со мною и, между прочим, предложил мне свои услуги по части
наркоза. Разумеется, я отклонил его предложение "накачать" меня за ночь
морфием так, чтобы утром, шагая к виселице, я не знал, "иду я к ней или
ухожу от нее"!
Но как же я смеялся! Должно быть, так смеялся Джек Оппенгеймер. Я живо
представляю себе этого человека, как он дурачил репортеров умышленной
чепухой, которую они принимали за чистую монету. Рассказывают, что, когда в
последнее утро, позавтракав, он надел рубаху без ворота, репортеры,
собравшись услышать его последнее слово в камере, спросили его, каковы его
взгляды на смертную казнь.
Ну кто скажет, что на нашей грубой дикости есть хотя бы малейший лак
цивилизации, если группа живых людей может задать такой вопрос человеку,
которому предстоит умереть, и при смерти которого они будут присутствовать?
Но Джек, как всегда, был молодец.
-- Джентльмены, -- сказал он, -- я надеюсь дожить до того дня, когда
смертная казнь будет отменена!
Много жизней я прожил в ряду долгих веков. Человек как индивид не
сделал нравственного прогресса за последние десять тысяч лет. Утверждаю это
категорически. Различие между необъезженным жеребенком и терпеливой ломовой
лошадью обусловливается исключительно различием тренировки. Тренировка --
единственное нравственное отличие современного человека от человека, жившего
за десять тысяч лет до нас. Под тонким слоем морали, наведенной на него как
лак, он такой же дикарь, каким был десять тысяч лет назад. Нравственность
его -- общественный капитал, накопленный долгими веками. Новорожденный
ребенок вырастет дикарем, если его не будут тренировать и полировать
отвлеченной моралью, так долго накоплявшейся.
"Не убий" -- какой вздор! Вот меня убьют завтра утром. "Не убий" --
вздор. На верфях всех цивилизованных стран сейчас закладываются кили
дредноутов и сверхдредноутов. Дорогие друзья, я, идущий на смерть,
приветствую вас словом "вздор!".
Я спрашиваю вас: преподается ли теперь лучшая мораль, чем какой учили
Христос, Будда, Сократ и Платон, Конфуций и неизвестный автор "Махабхараты"?
Боже добрый, пятьдесят тысяч лет назад в наших диких кланах женщины были
чище, а семейные и родственные отношения суровее и справедливее!
Должен сказать, что нравственность, которую мы практиковали в те
далекие дни, была выше нравственности, практикуемой ныне. Не отмахивайтесь
слишком поспешно от этой мысли! Подумайте о детях, угнетенных среди нас
работой, о взяточничестве нашей полиции и политической продажности, о
фальсификации съестных продуктов и о рабстве, в котором томятся дочери
бедного класса. Когда я был Сыном Горы и Сыном Тельца, проституция лишена
была всякого смысла. Мы были чисты, повторяю вам. Нам даже и не снились
нынешние бездны развращенности! Все животные и сейчас так же чисты. Чтобы
изобрести смертные грехи, нужен был человек, с его воображением и его
властью над материей. Низшие животные не способны грешить.
Я быстро пробегаю взглядом многочисленные жизни многочисленных эпох и
многочисленных мест. Я никогда не знал более страшной жестокости, чем
жестокость нашей нынешней тюремной системы. Я уже описывал вам, что я
вытерпел в смирительной рубашке и в одиночной камере в первое десятилетие
двадцатого века нашей эры.
В старину, наказывая, мы убивали быстро. Мы поступали так потому, что
хотели этого, -- по капризу, если угодно. Но мы не лицемерили. Мы не
приглашали прессу, церковные кафедры и университеты освящать нашу дикость и
зверство. Что мы хотели делать, то и делали, не обинуясь, с поднятой
головою; и с поднятой головою встречали укоры и осуждения, а не прятались ни
за юбки классических экономистов и буржуазных философов, ни за юбки
субсидируемых проповедников, профессоров и редакторов.
Помилуйте, сто лет назад, пятьдесят лет назад, пять лет назад в этих
самых Соединенных Штатах нападение и нанесение побоев вовсе не считалось
уголовным преступлением, заслуживающим смертной казни! Но в этом году, в год
от Рождества Христова тысяча девятьсот тринадцатый, в штате Калифорния
повесили Джека Оппенгеймера за такой проступок, а завтра за удар по носу они
выведут и повесят меня! Спрашивается, сколько же нужно времени обезьяне и
тигру, чтобы переродиться или вымереть, когда такие законы вносятся в
кодексы Калифорнии в тысяча девятьсот тринадцатом году по Рождеству
Христову? Боже, Боже, Христа только распяли! Со мною и Джеком Оппенгеймером
поступили гораздо хуже...
Однажды Эд Моррель выстукал мне костяшками пальцев: "Худшее, что можно
сделать из человека, это -- повесить его".
Нет, у меня мало уважения к смертной казни. Это не только грязное дело,
унижающее наемных псов, творящих его за деньги, -- оно унижает республику,
которая терпит смертную казнь, голосует за нее и платит налоги на
поддержание ее. Смертная казнь -- глупое, грубое, страшно ненаучное дело.
"Повесить его за шею, пока он не умрет" -- такова своеобразная юридическая
фразеология...
...Наступило утро -- мое последнее утро. Всю ночь я спал сном младенца.
Я спал так спокойно, что сторож даже испугался. Он решил, что я задушил себя
под одеялом. Просто жаль было видеть, как перетревожился бедняга, -- ведь он
рисковал своим хлебом и маслом!
Если бы это действительно оказалось так, на него легло бы пятно, ему
могло грозить увольнение -- а перспективы безработного человека весьма
печальны в наше время. Мне рассказывали, что в Европе началась ликвидация
многих предприятий два года назад, а теперь дошла очередь до Соединенных
Штатов. Это означает либо деловой кризис, либо тихую панику, и, значит, к
зиме вырастут огромные армии безработных, и у мест раздачи хлеба выстроятся
длинные очереди...
Я позавтракал. Это может показаться глупым, но я ел с аппетитом.
Смотритель пришел с квартой виски. Я презентовал ее Коридору Убийц с моим
приветом. Бедняга смотритель боится, как бы я, если не буду пьян, не наделал
шуму и не набросил тень на его управление тюрьмой...
На меня надели рубаху без ворота...
Кажется, я нынче очень важная особа. Множество людей вдруг
заинтересовались мною!..
Только что ушел доктор. Он пощупал мой пульс -- я просил его об этом.
Пульс нормальный...
Я записываю эти случайные мысли, и листок за листком тайно уходит за
стены тюрьмы...
Я сейчас самый спокойный в тюрьме человек. Я похож на ребенка,
отправляющегося на прогулку. Мне не терпится уйти и увидеть новые,
любопытные места. Этот страх "малой смерти" смешон человеку, который так
часто уходил во мрак и вновь оживал...
Смотритель пришел с бутылкой шампанского. Я отправил ее в Коридор
Убийц. Не правда ли, странно, что за мной ухаживают в этот последний день?
Должно быть, люди, собирающиеся убить меня, сами боятся смерти. Говоря
словами Джека Оппенгеймера, я, собирающийся умереть, должен казаться им
страшным, как Бог...
Только что Эд Моррель прислал мне весточку. Говорят, он всю ночь
прошагал за стенами тюрьмы. Так как он бывший каторжник, то они хитростью
лишили его возможности увидеть меня и попрощаться. Дикари? Не знаю, может
быть, просто дети. Бьюсь об заклад, что почти все они будут бояться
оставаться одни в темноте ночью, после того как затянут мне шею.
Вот записка Эда Морреля: "Рука моя в твоей, старый товарищ. Я знаю, что
ты умрешь молодцом..."
Только что ушли репортеры. В следующий и в последний раз я увижу их с
эшафота, перед тем как палач закроет мне лицо черным колпаком. Вид у них
будет болезненный. Странные ребята! У некоторых такой вид, словно они
выпили. Двое или трое готовы, кажется, упасть в обморок от того, что им
предстоит увидеть. По-видимому, легче быть повешенным, чем смотреть на
это...
Мои последние строки. Чуть ли я не задерживаю процессию. Моя камера
битком набита чиновными и сановными лицами. Все они нервничают. Им хочется,
чтобы э т о уже кончилось. Без сомнения, у некоторых из них есть приглашения
на обед. Я положительно оскорбляю их тем, что пишу эти немногие строки. Поп
опять предложил мне пробыть со мною до конца. Бедняга -- зачем я стану
отказывать ему в этом утешении? Я согласился, и он, видимо, повеселел! Какой
пустяк может сделать человека довольным! Я бы остался сердечно посмеяться
минут пять, если бы они не торопились.
Кончаю! Я могу только повторить сказанное. Смерти нет! Жизнь -- это
дух, а дух не может умереть! Только плоть умирает и исчезает, вечно
проникаясь химическим бродилом, формирующим ее, вечно пластичная, вечно
кристаллизующаяся, -- и это только для того, чтобы расплавиться и вновь
кристаллизоваться в иных, новых формах, столь же эфемерных и вновь
расплавляющихся. Только дух остается и продолжает развиваться в процессе
последовательных и бесконечных воплощений, стремясь к свету. Кем я буду,
когда я буду жить снова? Хотелось бы мне знать это... Очень хотелось бы...
Текст романа "Межзвездный скиталец" печатался по изданию: Лондон Джек.
Полное собрание сочинений: В 24 т.-- М.; Л.: Земля и фабрика, 1928-1929.--
Т.12.
Популярность: 1, Last-modified: Tue, 26 Feb 2002 11:41:27 GmT