---------------------------------------------------------------
© Copyright Екатерина Кокурина
From: [email protected]
Date: 26 May 2001
---------------------------------------------------------------
(иллюстрации автора)
Тени пришли ко мне. Тени женщин, давно умерших, или никогда не живших.
Кого только не было среди них! Блудницы и монахини, крестьянки и знатные
дамы, красавицы и дурнушки... Все они были я и не я. Они тесным кольцом
окружили меня, и каждая громко умоляла выслушать ее историю. Еще немного, и
они растерзали бы друг друга, а может, и меня заодно. "Стойте! -- закричала
я. -- Успокойтесь! Я выслушаю вас всех. Начнет... ну, вот, хотя бы ты..."
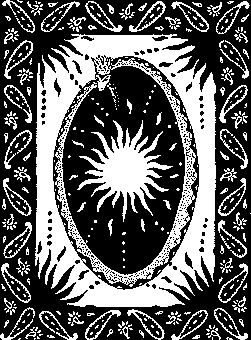 О Финн Мак Кумал, зачем ты упрекаешь меня в измене? Зачем бередишь мои
раны? Да, я виновна пред тобой, не спорю, но могла ли я поступить иначе, чем
поступила?
Ведь ты, доблестный Финн, никогда не искал моей любви. Ты просто
подумал, что настало время взять себе жену, и начал подыскивать ее. Ты
пришел свататься ко мне, решив, что я буду тебе достойной супругой, раз
красотой и умом превзошла всех дев Эрин. Разумом, а не сердцем, выбирал ты
жену, о Финн! И все, что случилось после -- твоя расплата.
Сердце мое не знало любви. Все вокруг по кому-то вздыхали, но только не
Грайне. Ни один прекрасный юноша не привлек моего взгляда. И мне, по
совести, тогда все равно было, за кого выйти замуж. Вспомни, что я ответила
на твое сватовство: "Стать женой Финна Мак Кумала для меня честь". И это
воистину так, о Финн. Но только сердце мое молчало.
И после, на свадебном пиру, когда все пили чашу за чашей за молодую
жену Финна, я радовалась и гордилась, а сердце все так же молчало. Вдруг две
белых гончих, что лежали у моих ног, стали драться из-за брошеной кости.
Какой-то светловолосый юноша подбежал и так ловко разнял их, что я
рассмеялась. Юноша, улыбаясь, поднял на меня глаза, и мне показалось, что
мир озарился. Это заговорило, наконец, мое сердце. Так пришла ко мне любовь
к юному Диармеду, твоему племяннику.
Не думай, о Финн, что я сразу решилась изменить тебе. О, больше всего
на свете я хотела бы, чтобы ты никогда не сватался ко мне! И, пока ты
бражничал с воинами, я сидела и размышляла: "Финн, отважный предводитель
Воинства Фианов, оказал мне великую честь, предложив стать его женой. Но
Финн не любит меня, как и я не люблю его. Диармед самый красивый юноша,
какого я видела, и в глазах его горит сама молодость. Сердце мое пылает от
любви к нему. Так что же мне выбрать -- долг или сердце? Могу ли я заставить
свое сердце молчать? Нет, никогда. Это судьба". И я решилась.
Дождавшись, когда ты и большинство воинов отяжелели от выпитого вина и
уснули, я подозвала Диармеда и призналась, что полюбила его. Я стала просить
его убежать со мной прямо сейчас, со свадебного пира. Но Диармед, хоть
сердце его пылало так же сильно, как мое, не хотел предавать своего
родственника и господина. Душа его содрогалась при мысли о подобном
бесчестьи. И он хотел предпочесть долг любви.
Тогда я сказала:
-- Не думай, о Диармед, что ты так легко сможешь отвергнуть меня! А
что, если против одного долга я поставлю другой? Я накладываю на тебя гейс и
запрещаю когда-либо расставаться со мной!
И тогда Диармед смирился, ведь нарушить гейс -- еще большее бесчестье,
чем предать господина. Подумай сам, о Финн, мог ли твой племянник поступить
иначе? О, нет, все мы попали в сети судьбы.
В ту же ночь мы бежали. И хотя нас преследовали, словно оленей, мы были
счастливы своей любовью. Но иногда Диармед мрачнел. Как-то раз он сказал
мне:
-- Я ни о чем не жалею. Но сердце говорит мне, о Грайне, что недолгим
будет наше счастье, а месть Финна будет ужасна.
Я возразила:
-- Финн Мак Кумал не только доблестен, но и справедлив. Позже мы
повинимся ему, и он не сможет отказать нам в прощеньи. Ведь только любовь
была виною нашего проступка.
Так я думала тогда. Что ты скажешь на это, о Финн? Где была твоя
справедливость, когда ты обманом завлек своего племянника в западню и
погубил его? Неужели душа твоя не содрогнулась от такого вероломства?
Когда Диармед услышал твой рог, призывающий на помощь, он, позабыв все
распри, поспешил на твой зов. А я поспешила вслед за Диармедом, чтобы, если
понадобится, встретить с ним вместе и смерть, и бесчестье. Скажи мне, о
Финн, как случилось, что бесстрашный Диармед умер?
Ты молчишь. Разве месть так сладка, чтобы ради нее погубить родную
кровь? Ведь ты не любил меня, Финн, и я не успела еще стать твоей женой --
зачем же ты мстил? Ответь мне, ответь!
Ты плачешь! О, не плачь, не плачь! Прости меня, доблестный Финн, я не
хотела быть жестокой. Я знаю, ты не мог поступить иначе, как не могла и я.
Это наша судьба, злая судьба.
О Финн Мак Кумал, зачем ты упрекаешь меня в измене? Зачем бередишь мои
раны? Да, я виновна пред тобой, не спорю, но могла ли я поступить иначе, чем
поступила?
Ведь ты, доблестный Финн, никогда не искал моей любви. Ты просто
подумал, что настало время взять себе жену, и начал подыскивать ее. Ты
пришел свататься ко мне, решив, что я буду тебе достойной супругой, раз
красотой и умом превзошла всех дев Эрин. Разумом, а не сердцем, выбирал ты
жену, о Финн! И все, что случилось после -- твоя расплата.
Сердце мое не знало любви. Все вокруг по кому-то вздыхали, но только не
Грайне. Ни один прекрасный юноша не привлек моего взгляда. И мне, по
совести, тогда все равно было, за кого выйти замуж. Вспомни, что я ответила
на твое сватовство: "Стать женой Финна Мак Кумала для меня честь". И это
воистину так, о Финн. Но только сердце мое молчало.
И после, на свадебном пиру, когда все пили чашу за чашей за молодую
жену Финна, я радовалась и гордилась, а сердце все так же молчало. Вдруг две
белых гончих, что лежали у моих ног, стали драться из-за брошеной кости.
Какой-то светловолосый юноша подбежал и так ловко разнял их, что я
рассмеялась. Юноша, улыбаясь, поднял на меня глаза, и мне показалось, что
мир озарился. Это заговорило, наконец, мое сердце. Так пришла ко мне любовь
к юному Диармеду, твоему племяннику.
Не думай, о Финн, что я сразу решилась изменить тебе. О, больше всего
на свете я хотела бы, чтобы ты никогда не сватался ко мне! И, пока ты
бражничал с воинами, я сидела и размышляла: "Финн, отважный предводитель
Воинства Фианов, оказал мне великую честь, предложив стать его женой. Но
Финн не любит меня, как и я не люблю его. Диармед самый красивый юноша,
какого я видела, и в глазах его горит сама молодость. Сердце мое пылает от
любви к нему. Так что же мне выбрать -- долг или сердце? Могу ли я заставить
свое сердце молчать? Нет, никогда. Это судьба". И я решилась.
Дождавшись, когда ты и большинство воинов отяжелели от выпитого вина и
уснули, я подозвала Диармеда и призналась, что полюбила его. Я стала просить
его убежать со мной прямо сейчас, со свадебного пира. Но Диармед, хоть
сердце его пылало так же сильно, как мое, не хотел предавать своего
родственника и господина. Душа его содрогалась при мысли о подобном
бесчестьи. И он хотел предпочесть долг любви.
Тогда я сказала:
-- Не думай, о Диармед, что ты так легко сможешь отвергнуть меня! А
что, если против одного долга я поставлю другой? Я накладываю на тебя гейс и
запрещаю когда-либо расставаться со мной!
И тогда Диармед смирился, ведь нарушить гейс -- еще большее бесчестье,
чем предать господина. Подумай сам, о Финн, мог ли твой племянник поступить
иначе? О, нет, все мы попали в сети судьбы.
В ту же ночь мы бежали. И хотя нас преследовали, словно оленей, мы были
счастливы своей любовью. Но иногда Диармед мрачнел. Как-то раз он сказал
мне:
-- Я ни о чем не жалею. Но сердце говорит мне, о Грайне, что недолгим
будет наше счастье, а месть Финна будет ужасна.
Я возразила:
-- Финн Мак Кумал не только доблестен, но и справедлив. Позже мы
повинимся ему, и он не сможет отказать нам в прощеньи. Ведь только любовь
была виною нашего проступка.
Так я думала тогда. Что ты скажешь на это, о Финн? Где была твоя
справедливость, когда ты обманом завлек своего племянника в западню и
погубил его? Неужели душа твоя не содрогнулась от такого вероломства?
Когда Диармед услышал твой рог, призывающий на помощь, он, позабыв все
распри, поспешил на твой зов. А я поспешила вслед за Диармедом, чтобы, если
понадобится, встретить с ним вместе и смерть, и бесчестье. Скажи мне, о
Финн, как случилось, что бесстрашный Диармед умер?
Ты молчишь. Разве месть так сладка, чтобы ради нее погубить родную
кровь? Ведь ты не любил меня, Финн, и я не успела еще стать твоей женой --
зачем же ты мстил? Ответь мне, ответь!
Ты плачешь! О, не плачь, не плачь! Прости меня, доблестный Финн, я не
хотела быть жестокой. Я знаю, ты не мог поступить иначе, как не могла и я.
Это наша судьба, злая судьба.
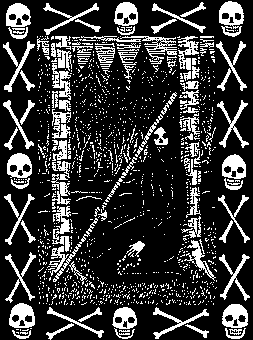 Имам Ахмед ибн Ибрагим аль-Гази, прозванный Левшой, огненным смерчем
прошелся по эфиопской земле. Стон и плач неслись отовсюду. Страна была
разорена и разграблена, почти все церкви и монастыри -- разрушены. Среди
того немногого, что еще уцелело, была драгоценнейшая жемчужина Эфиопии,
Лалибэла.
О, Лалибэла, восьмое чудо света! Никто и никогда не создавал ничего
подобного тебе! Огромные храмы, изваянные в скалах, уходят глубоко под
землю, как другие возносятся высоко в небо. В тяжелые времена родилась
Лалибэла. Построенные среди гор храмы-убежища несколько веков защищали
христианство от нападений разъяренных мусульман. Мудрость и богатство,
накопленные здесь, были неисчислимы. Но наступили времена, когда и Лалибэла
должна была пасть. Имам Ахмед неумолимо приближался к ней.
Накануне того, как войти в Лалибэлу и предать ее огню и мечу, имам
увидел страшный сон. Суровый голос, звенящий и пронзающий сердце, сказал
ему: "Если имам не спасет завтра женщину, он умрет!" Левша проснулся в
лихорадке, чувствуя тяжесть во всех членах. Страшные слова продолжали
звучать в его ушах и заставляли сердце болезненно сжиматься. Имам стал
искать женщину, которую он мог бы спасти, но ни одной женщины не осталось в
округе -- все они разбежались и попрятались, напуганные приближением его
войска. Полный недобрых предчувствий, имам Ахмед отправился осматривать
храмы Лалибэлы, о чудесах которых ходили легенды.
Сумрачной и жуткой показалась ему Лалибэла. Бесчисленные подземелья,
ведущие в самые недра земли, заманивали души в преисподнюю. Странные,
вытянутые лики святых смотрели со стен, кто с укором, кто с насмешкой. Ужас
все глубже проникал в душу Ахмеда. Ужас и ненависть к чернокожим монахам в
черных рясах.
Войдя в Бетэ Ымануэл, самый большой и богатый храм Лалибэлы, имам
приказал развести посреди храма костер и согнать к нему всех монахов.
Странное дело -- чем ярче разгорался костер, тем сильнее бил Левшу озноб. Он
поднял глаза и замер -- с потолка жутким взглядом, полным угрозы, на него
смотрели двенадцать апостолов. Ахмед зажмурился и попытался справиться с
собою. Тут согнанные в церковь монахи затянули заунывные псалмы. Отзвуки их
голосов разносились по подземелью, рождая странное эхо, полное вздохов и
всхлипов. "Зов шайтана!" -- ужаснулся имам.
-- В огонь! -- пронзительно закричал Левша. -- Всех монахов -- в огонь!
Не успели воины выполнить приказ имама, как невесть откуда в храме
появилась женщина в белоснежных одеждах. Стремительно подбежав к костру, она
прыгнула в огонь. Мусульмане застыли в растерянности, не зная что делать.
-- Назад! -- крикнул Ахмед, но голос его сорвался и перешел в хрип. --
Назад!
Языки пламени лизали белые одежды женщины, но она, казалось, не
замечала этого. Спокойно стоя посреди бушующего костра она заговорила, и
имам вздрогнул -- ее голос был голосом из его сна:
-- Я не сгорю в огне, если ты, собака, поклянешься не губить Лалибэлу!
-- Клянусь! -- воскликнул Ахмед и бросился в костер, желая спасти
женщину. Воины, пришедшие, наконец, в себя, поспешили на помощь имаму. У
него, к счастью, успела только обгореть одежда, женщина же была вся покрыта
ужасными ожогами.
Имам постепенно приходил в себя, к нему возвращалось всегдашнее
спокойствие. В последний раз оглядев сумрачный храм он приказал:
-- По коням! Не будем задерживаться в этой обители шайтана!
Через час войско Ахмеда было уже далеко.
Так женщина спасла Лалибэлу.
Она родилась зимой. Быть может, она бы не умерла, родись она летом.
Она родилась девочкой. Если б она родилась мальчиком, она могла
остаться жить.
Мы знали, что придется убить ее -- у нас не было иного выхода. Когда я
рожала ее, я уже знала об этом. Своей жизнью она могла причинить смерть нам
и другим нашим детям. Зима только началась, а мы уже голодали. Лишний рот
стал бы для нас смертным приговором. С нами такое случилось впервые, но
многие наши соседи уже не раз умервщляли детей, которых не могли прокормить.
В Исландии жизнь сурова.
Мое сердце обливалось кровью при мысли, что мое дитя ждет смерть на
самом пороге жизни. Как только я почувствовала приближение родов, я начала
молиться всем богам, и нашим исконным покровителям, и новому Спасителю,
весть о котором принесли люди с Юга. Я молилась, чтобы родился мальчик -- у
Сигурда не поднялась бы рука убить крепкого и здорового мальчика, будущего
воина и работника. У девочки не было никакой надежды на спасение.
Видно, боги не пожелали прислушаться к моим мольбам -- родилась
девочка. Едва очнувшись от родовых мук, я смотрела на Сигурда, мрачно
вглядывавшегося в ребенка при свете очага. Ребенок истошно кричал. Сигурд
сидел так очень долго.
-- Муж мой! -- взмолилась я. -- Она так мала! Много ли она съест?
Оставь ей жизнь!
Он ничего не отвечал, не смотрел в мою сторону, и только его сильные
руки то сжимались, то разжимались.
Наконец, он повернулся ко мне. Во взгляде его серых, как море, глаз
были непреклонность и боль.
-- Ты помнишь наш уговор. Что толку говорить об этом? Ты знаешь, что
этот маленький ротик может принести нам смерть. Подумай о других детях.
Взгляни на них!
И он указал на детей, жавшихся к теплу очага. Они с тревогой смотрели
на нас светлыми глазенками, не понимая смысла разговора, но чувствуя, что
пришла беда. Два сына и дочь.
-- Взгляни на них! -- повторил Сигурд. -- Они умрут, если оставить в
живых этот крохотный пищащий комочек, даже не похожий еще на человека. Мы
все решили. Ты должна смириться.
Я отвернулась от него, не в силах сдержать рыданий. Через несколько
мучительных мгновений я услышала, как за Сигурдом закрылась дверь.
Он вернулся через полчаса, уже без ребенка. Его плечи были опущены,
словно он нес непосильный груз, глаза избегали моего взгляда.
Дети, сидевшие до этого тихо, как мышки, вдруг все как один принялись
громко реветь. Их маленькие головки начали смутно постигать всю жестокость
этого мира.
Имам Ахмед ибн Ибрагим аль-Гази, прозванный Левшой, огненным смерчем
прошелся по эфиопской земле. Стон и плач неслись отовсюду. Страна была
разорена и разграблена, почти все церкви и монастыри -- разрушены. Среди
того немногого, что еще уцелело, была драгоценнейшая жемчужина Эфиопии,
Лалибэла.
О, Лалибэла, восьмое чудо света! Никто и никогда не создавал ничего
подобного тебе! Огромные храмы, изваянные в скалах, уходят глубоко под
землю, как другие возносятся высоко в небо. В тяжелые времена родилась
Лалибэла. Построенные среди гор храмы-убежища несколько веков защищали
христианство от нападений разъяренных мусульман. Мудрость и богатство,
накопленные здесь, были неисчислимы. Но наступили времена, когда и Лалибэла
должна была пасть. Имам Ахмед неумолимо приближался к ней.
Накануне того, как войти в Лалибэлу и предать ее огню и мечу, имам
увидел страшный сон. Суровый голос, звенящий и пронзающий сердце, сказал
ему: "Если имам не спасет завтра женщину, он умрет!" Левша проснулся в
лихорадке, чувствуя тяжесть во всех членах. Страшные слова продолжали
звучать в его ушах и заставляли сердце болезненно сжиматься. Имам стал
искать женщину, которую он мог бы спасти, но ни одной женщины не осталось в
округе -- все они разбежались и попрятались, напуганные приближением его
войска. Полный недобрых предчувствий, имам Ахмед отправился осматривать
храмы Лалибэлы, о чудесах которых ходили легенды.
Сумрачной и жуткой показалась ему Лалибэла. Бесчисленные подземелья,
ведущие в самые недра земли, заманивали души в преисподнюю. Странные,
вытянутые лики святых смотрели со стен, кто с укором, кто с насмешкой. Ужас
все глубже проникал в душу Ахмеда. Ужас и ненависть к чернокожим монахам в
черных рясах.
Войдя в Бетэ Ымануэл, самый большой и богатый храм Лалибэлы, имам
приказал развести посреди храма костер и согнать к нему всех монахов.
Странное дело -- чем ярче разгорался костер, тем сильнее бил Левшу озноб. Он
поднял глаза и замер -- с потолка жутким взглядом, полным угрозы, на него
смотрели двенадцать апостолов. Ахмед зажмурился и попытался справиться с
собою. Тут согнанные в церковь монахи затянули заунывные псалмы. Отзвуки их
голосов разносились по подземелью, рождая странное эхо, полное вздохов и
всхлипов. "Зов шайтана!" -- ужаснулся имам.
-- В огонь! -- пронзительно закричал Левша. -- Всех монахов -- в огонь!
Не успели воины выполнить приказ имама, как невесть откуда в храме
появилась женщина в белоснежных одеждах. Стремительно подбежав к костру, она
прыгнула в огонь. Мусульмане застыли в растерянности, не зная что делать.
-- Назад! -- крикнул Ахмед, но голос его сорвался и перешел в хрип. --
Назад!
Языки пламени лизали белые одежды женщины, но она, казалось, не
замечала этого. Спокойно стоя посреди бушующего костра она заговорила, и
имам вздрогнул -- ее голос был голосом из его сна:
-- Я не сгорю в огне, если ты, собака, поклянешься не губить Лалибэлу!
-- Клянусь! -- воскликнул Ахмед и бросился в костер, желая спасти
женщину. Воины, пришедшие, наконец, в себя, поспешили на помощь имаму. У
него, к счастью, успела только обгореть одежда, женщина же была вся покрыта
ужасными ожогами.
Имам постепенно приходил в себя, к нему возвращалось всегдашнее
спокойствие. В последний раз оглядев сумрачный храм он приказал:
-- По коням! Не будем задерживаться в этой обители шайтана!
Через час войско Ахмеда было уже далеко.
Так женщина спасла Лалибэлу.
Она родилась зимой. Быть может, она бы не умерла, родись она летом.
Она родилась девочкой. Если б она родилась мальчиком, она могла
остаться жить.
Мы знали, что придется убить ее -- у нас не было иного выхода. Когда я
рожала ее, я уже знала об этом. Своей жизнью она могла причинить смерть нам
и другим нашим детям. Зима только началась, а мы уже голодали. Лишний рот
стал бы для нас смертным приговором. С нами такое случилось впервые, но
многие наши соседи уже не раз умервщляли детей, которых не могли прокормить.
В Исландии жизнь сурова.
Мое сердце обливалось кровью при мысли, что мое дитя ждет смерть на
самом пороге жизни. Как только я почувствовала приближение родов, я начала
молиться всем богам, и нашим исконным покровителям, и новому Спасителю,
весть о котором принесли люди с Юга. Я молилась, чтобы родился мальчик -- у
Сигурда не поднялась бы рука убить крепкого и здорового мальчика, будущего
воина и работника. У девочки не было никакой надежды на спасение.
Видно, боги не пожелали прислушаться к моим мольбам -- родилась
девочка. Едва очнувшись от родовых мук, я смотрела на Сигурда, мрачно
вглядывавшегося в ребенка при свете очага. Ребенок истошно кричал. Сигурд
сидел так очень долго.
-- Муж мой! -- взмолилась я. -- Она так мала! Много ли она съест?
Оставь ей жизнь!
Он ничего не отвечал, не смотрел в мою сторону, и только его сильные
руки то сжимались, то разжимались.
Наконец, он повернулся ко мне. Во взгляде его серых, как море, глаз
были непреклонность и боль.
-- Ты помнишь наш уговор. Что толку говорить об этом? Ты знаешь, что
этот маленький ротик может принести нам смерть. Подумай о других детях.
Взгляни на них!
И он указал на детей, жавшихся к теплу очага. Они с тревогой смотрели
на нас светлыми глазенками, не понимая смысла разговора, но чувствуя, что
пришла беда. Два сына и дочь.
-- Взгляни на них! -- повторил Сигурд. -- Они умрут, если оставить в
живых этот крохотный пищащий комочек, даже не похожий еще на человека. Мы
все решили. Ты должна смириться.
Я отвернулась от него, не в силах сдержать рыданий. Через несколько
мучительных мгновений я услышала, как за Сигурдом закрылась дверь.
Он вернулся через полчаса, уже без ребенка. Его плечи были опущены,
словно он нес непосильный груз, глаза избегали моего взгляда.
Дети, сидевшие до этого тихо, как мышки, вдруг все как один принялись
громко реветь. Их маленькие головки начали смутно постигать всю жестокость
этого мира.
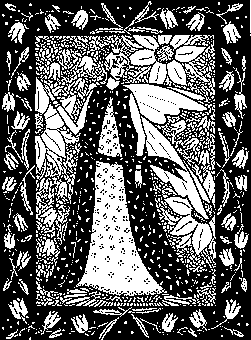 Ах, эта новая мода просто обворожительна! Особенно тем, что не успела
еще распространиться слишком широко.
Представьте себе, дорогая, нынче модно держать маленьких собачек, лучше
всего -- болонок. Ах, это так трогательно -- появиться в гостиной с этакой
малышкой на руках! Действует безотказно. К тому же, собачка совершенно
незаменима, если в разговоре вдруг возникает пауза. Ну, знаете, эти мерзкие
паузы, когда все вдруг понимают, что говорить-то им, в сущности, не о чем и
впадают в хандру. Теперь эта проблема решена -- вы просто начинаете ласково
болтать с собачкой, играть с ней, спрашивать у всех:"Ну разве не прелесть?"
и все такое прочее. Гости умиляются, улыбаются, ваш вечер спасен.
Но самое главное, что у этих милых собачек есть еще одно, тайное,
достоинство. Говорят, эта мода пришла из Азии. Вы берете чашку с молоком,
ложитесь, раздвигаете ноги и понемножку льете молоко на свои прелести.
Да-да, дорогая, прямо туда. А собачка начинает молоко подлизывать. Вот и
все. Говорят (сама я, конечно, не пробовала, нет-нет), что это ужасно
приятно, а главное, заниматься этим можно чуть не целый день.
Естественно, сперва собачку нужно немного выдрессировать. Я слышала,
были случаи -- кого-то покусали. Это, конечно, очень неприятно. Но зато
потом вам не понадобится даже молоко -- со временем собачка входит во вкус.
На всякий случай заведите двух -- вдруг одна устанет. Кстати, молоко можно
лить куда хотите.
Нет, конечно же, не все дамы, которые держат собачек, занимаются такими
вещами. Но многие. А самое смешное то, что мужчины даже не подозревают ни о
чем подобном. Один граф, говорят, подарил пару таких собачек своей дочери,
которая только что вернулась из монастырского пансиона. Ну и слава Богу, что
они не знают -- этот вандал, мой муж, выкинул бы Диди в окно, а я так к нему
привязалась! Ну, Диди, иди скорей к маме! Ну разве не прелесть?
Жизнь моя пуста и горька. Каждое утро, едва проснувшись, я призываю
смерть. Но она все не приходит. Если б я знала тогда то, что знаю сейчас, я
была бы давно мертва, и, может быть, счастлива.
Встаю и, совершив омовение, надеваю свое белое платье. Ненавижу его,
ненавижу! Ни одной краски нет на нем -- только мертвая белизна. Других у
меня не будет больше никогда. Украшений, красок для лица, благовоний --
всего этого у меня тоже нет и не будет. Вдове не подобает наряжаться. По
белому платью каждый издалека узнает ее и спешит свернуть в сторону, чтобы
не оскверниться.
Свекровь услышала, что я встала, и кричит из-за стенки, задает мне
работу на сегодня. В мою комнату она не войдет ни за что на свете -- после
этого ей придется совершать долгий ритуал очищения. Только сыновей не
оскверняет мое присутствие, и они могли бы безбоязненно общаться со мной. Но
у меня нет сыновей. Поэтому в моей комнате прорубили отдельный выход, и все
домашние меньше рискуют случайно встретить меня. Хотя выхожу я очень редко.
Все, что нужно для поддержания моего существования, оставляют у двери.
Не так уж много они там оставляют. Мне дают ровно столько, сколько
нужно, чтобы я не умерла с голоду. Почти вся пища для меня запретна. Даже
соль. Кроме того, примерно два раза в месяц свекровь по лунному календарю
определяет дни поста. В эти дни мне запрещено даже пить воду, а спать я
должна на голой земле. Так я искупаю свои грехи. Должно быть, у меня немало
грехов...
Говорят, это мои грехи причина смерти мужа, и я немногим лучше убийцы.
В этой жизни я просто не успела совершить грехов -- ведь я овдовела в
четырнадцать лет -- но могла нагрешить в прошлых рождениях. А в довершение
всего я совершила еще один гнусный поступок -- отказалась от сати. Сейчас,
вкусив вдовьей жизни досыта, я бы этого не сделала. Но в четырнадцать лет
так хочется жить...
Жить! Разве можно назвать это жизнью? Но нет никакой надежды, ничто не
изменится. Я никогда не выйду второй раз замуж -- это запрещено, да и кто
захочет жениться на женщине, которая одного мужа уже умертвила? Я обречена
жить так до самой смерти. Я -- вечная вдова.
Ах, эта новая мода просто обворожительна! Особенно тем, что не успела
еще распространиться слишком широко.
Представьте себе, дорогая, нынче модно держать маленьких собачек, лучше
всего -- болонок. Ах, это так трогательно -- появиться в гостиной с этакой
малышкой на руках! Действует безотказно. К тому же, собачка совершенно
незаменима, если в разговоре вдруг возникает пауза. Ну, знаете, эти мерзкие
паузы, когда все вдруг понимают, что говорить-то им, в сущности, не о чем и
впадают в хандру. Теперь эта проблема решена -- вы просто начинаете ласково
болтать с собачкой, играть с ней, спрашивать у всех:"Ну разве не прелесть?"
и все такое прочее. Гости умиляются, улыбаются, ваш вечер спасен.
Но самое главное, что у этих милых собачек есть еще одно, тайное,
достоинство. Говорят, эта мода пришла из Азии. Вы берете чашку с молоком,
ложитесь, раздвигаете ноги и понемножку льете молоко на свои прелести.
Да-да, дорогая, прямо туда. А собачка начинает молоко подлизывать. Вот и
все. Говорят (сама я, конечно, не пробовала, нет-нет), что это ужасно
приятно, а главное, заниматься этим можно чуть не целый день.
Естественно, сперва собачку нужно немного выдрессировать. Я слышала,
были случаи -- кого-то покусали. Это, конечно, очень неприятно. Но зато
потом вам не понадобится даже молоко -- со временем собачка входит во вкус.
На всякий случай заведите двух -- вдруг одна устанет. Кстати, молоко можно
лить куда хотите.
Нет, конечно же, не все дамы, которые держат собачек, занимаются такими
вещами. Но многие. А самое смешное то, что мужчины даже не подозревают ни о
чем подобном. Один граф, говорят, подарил пару таких собачек своей дочери,
которая только что вернулась из монастырского пансиона. Ну и слава Богу, что
они не знают -- этот вандал, мой муж, выкинул бы Диди в окно, а я так к нему
привязалась! Ну, Диди, иди скорей к маме! Ну разве не прелесть?
Жизнь моя пуста и горька. Каждое утро, едва проснувшись, я призываю
смерть. Но она все не приходит. Если б я знала тогда то, что знаю сейчас, я
была бы давно мертва, и, может быть, счастлива.
Встаю и, совершив омовение, надеваю свое белое платье. Ненавижу его,
ненавижу! Ни одной краски нет на нем -- только мертвая белизна. Других у
меня не будет больше никогда. Украшений, красок для лица, благовоний --
всего этого у меня тоже нет и не будет. Вдове не подобает наряжаться. По
белому платью каждый издалека узнает ее и спешит свернуть в сторону, чтобы
не оскверниться.
Свекровь услышала, что я встала, и кричит из-за стенки, задает мне
работу на сегодня. В мою комнату она не войдет ни за что на свете -- после
этого ей придется совершать долгий ритуал очищения. Только сыновей не
оскверняет мое присутствие, и они могли бы безбоязненно общаться со мной. Но
у меня нет сыновей. Поэтому в моей комнате прорубили отдельный выход, и все
домашние меньше рискуют случайно встретить меня. Хотя выхожу я очень редко.
Все, что нужно для поддержания моего существования, оставляют у двери.
Не так уж много они там оставляют. Мне дают ровно столько, сколько
нужно, чтобы я не умерла с голоду. Почти вся пища для меня запретна. Даже
соль. Кроме того, примерно два раза в месяц свекровь по лунному календарю
определяет дни поста. В эти дни мне запрещено даже пить воду, а спать я
должна на голой земле. Так я искупаю свои грехи. Должно быть, у меня немало
грехов...
Говорят, это мои грехи причина смерти мужа, и я немногим лучше убийцы.
В этой жизни я просто не успела совершить грехов -- ведь я овдовела в
четырнадцать лет -- но могла нагрешить в прошлых рождениях. А в довершение
всего я совершила еще один гнусный поступок -- отказалась от сати. Сейчас,
вкусив вдовьей жизни досыта, я бы этого не сделала. Но в четырнадцать лет
так хочется жить...
Жить! Разве можно назвать это жизнью? Но нет никакой надежды, ничто не
изменится. Я никогда не выйду второй раз замуж -- это запрещено, да и кто
захочет жениться на женщине, которая одного мужа уже умертвила? Я обречена
жить так до самой смерти. Я -- вечная вдова.
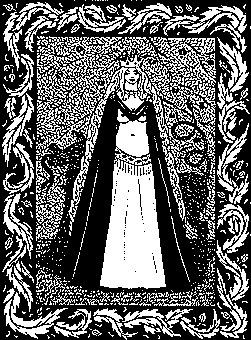 Мы ненавидим эту женщину. Но наша ненависть, как и многое другое,
ничего не значит для нее.
Город: беспорядочное и некрасивое скопление домов, зной и пыль.
Приезжие и события здесь одинаково редки. Всего здесь по одному: одна
церковь, одна почта, одна больница, одно питейное заведение. И один дом
терпимости, вотчина этой женщины.
Сложно сказать, сколько лет уже она его держит, но никак не меньше
десяти. Ей около сорока, и ее подопечные называют ее на французский манер
"мадам", настоящего же ее имени никто не знает. Говорят, она со своими
"девочками" на дружеской ноге, да и сама не отказывается обслужить клиента,
если тот проявляет желание.
Все свои дни она проводит одинаково. До полудня она отсыпается после
бессонной ночи. С часу дня и до полуночи ее можно неизменно видеть сидящей
перед дверьми своего заведения под выгоревшим полотняным навесом. Она сидит
в покойной, ленивой позе, с полузакрытыми глазами и совершенно без всякого
выражения на лице. Она сидит так час за часом, не двигаясь, словно языческий
идол. Мимо проходят люди, проезжают повозки, пробегают собаки -- она
остается такой же безразличной, ни на что не обращает внимания.
У этой женщины удивительное тело -- в любом платье она кажется голой,
любая ее поза кажется неприличной. Ее полнота только усиливает это
впечатление. Но тех, кто видит ее впервые, куда больше поражает ее лицо. Оно
некрасивое, но приятное -- большие темные глаза, полные губы -- и всегда,
при любых обстоятельствах, лишено какого-либо выражения. Так, наверное,
выглядела Ева до того, как познала добро и зло.
Мы ненавидим эту женщину. Она, как соринка в глазу, мешает и
раздражает. То, как невозмутимо она сидит целыми днями у дверей своего
позорного дома, приводит нас в бешенство. Мы склонны видеть в ее поведении
злой умысел, желание оскорбить и унизить нас. Но мы не смеем высказать наш
гнев: приличные женщины не должны даже замечать таких, как она. Каждая из
нас вынуждена по нескольку раз в день проходить мимо нее -- и не видеть.
Мужчины, напротив, считают, что эта женщина -- одна из главных
достопримечательностей нашего города. Всех гостей непременно водят
посмотреть на нее, и она имеет немалый успех. Те, кто не боятся
общественного мнения, порой даже останавливаются поболтать с ней. Она им
улыбается, но выражение ее лица от этого не меняется. Отвечает она
односложно, без выражения, явно с трудом подбирая слова. Единственная тема,
которая ее интересует -- ее заведение. Все остальное ей непонятно или не
трогает. Даже ее поклонники и защитники признают, что она непроходимо глупа.
Однажды она исчезла. Ни в два, ни в три часа дня ее все еще не было на
обычном месте. К четырем весть о ее отсутствии разнеслась по всему городу.
Небольшие группы людей стали собираться напротив ее дома, оживленно
обсуждая, куда могла деться "мадам", и высказывая самые невероятные
предположения. Кто-то даже сказал, что, возможно, она раскаялась в своих
грехах и удалилась в монастырь. Но фантазера дружно высмеяли -- все
прекрасно знали, что у этой женщины просто не хватит ума на такое сложное
предприятие.
Вдоволь наболтавшись, народ разошелся. Дом стоял тихий, грустный,
словно лишился жизни.
На следующий день "мадам" по-прежнему не было. Прохожие напрасно искали
глазами ее полную фигуру под полотняным навесом. Все чувствовали какую-то
пустоту, ведь мы привыкли видеть ее ежедневно. Казалось бы, мы должны были
обрадоваться ее исчезновению, некому стало колоть нам глаза, но, странное
дело, мы совсем не радовались.
На третий день мы, наконец, узнали где она. Доктор Алвариш рассказал
кому-то по-секрету, что "мадам" в больнице, куда он сам ее и поместил. По
его словам, ее жизнь была в большой опасности. Естественно, этот секрет
вскоре стал известен всему городу.
Эта женщина серьезно больна! Мы несказанно удивились -- нам почему-то
всегда казалось, что у нее железное здоровье. Чем же она больна? "Уж
наверное, какой-нибудь позорной болезнью" -- презрительно фыркали некоторые.
Но большинство, не слушая их, отправило депутацию к доктору Алваришу чтобы,
наконец, выяснить, что же происходит.
Доктор сначала пытался отделаться от депутации дам, делая вид, что не
понимает, о чем его спрашивают, но вскоре сдался. Он рассказал нам, что у
"мадам" опухоль мозга, и шансов на выздоровление почти никаких. Мало того,
оказалось, что ее странное поведение, речь и выражение лица -- тоже
следствия болезни. Еще маленькой девочкой она упала с лестницы и очень
сильно ударилась головой. С тех пор ее умственное развитие остановилось, а в
поведении появились странности.
Его слова словно окатили нас холодной водой. Значит, она вовсе не
хотела нам ничего плохого, а мы так ненавидели ее! Пристыженные и притихшие,
мы попрощались с доктором. Мы шли по улице молча, и сердце каждой из нас
жгло сознание собственной несправедливости и жестокости. Наконец, жена
аптекаря нарушила молчание.
-- Вы, конечно, можете осудить меня, -- сказала она, -- но я собираюсь
завтра навестить эту женщину в больнице и отнести ей немного фруктов.
Тут же и другие стали говорить, что они намереваются поступить точно
так же. Никто не посмел им возразить.
С тех пор больная "мадам" ежедневно получала больше гостинцев и
подарков, чем все остальные больные вместе взятые. К ее постели установилось
настоящее паломничество. Все дамы города в один голос утверждали, что
причиной нравственного падения этой женщины и ее позорной профессии была
только ее злосчастная болезнь. Мужчины не знали, что и подумать о таком
обороте дел, кое-кто даже пытался запретить своим женам навещать эту
женщину. Но мы стояли насмерть, и им пришлось сдаться. Мы самоотверженно
ухаживали за ней, впавшей в беспамятство и страшно исхудавшей. Мы
чувствовали, что только так можем искупить свою вину перед ней.
Как и предсказывал доктор Алвариш, через месяц она умерла. Мы
оплакивали ее, словно родную. У "мадам" не было наследников, и ее заведение
перешло в руки одной из ее "девочек". Эта негодница, молодая и неимоверно
наглая, заставила нас еще раз пожалеть о старых временах. Но когда она
попыталась восстановить обычай "мадам" и сама села под памятный навес у
дверей дома, толпа возмутилась и прогнала ее, закидав гнилыми овощами. Мы не
могли позволить ей оскорбить память этой женщины.
Сэр Лингхэм уезжал, и я ходила молчаливая и подавленная. Мои платья
сходились на мне все с большим трудом, и старая кормилица, помогавшая мне по
утрам одеваться, уже начала поглядывать на меня исподлобья, но пока молчала.
Еще немного -- и слуги начнут шушукаться за моей спиной.
У меня не было ни отца, ни брата, ни другого защитника, и я должна была
сама найти выход из западни, в которую попала. Мне было необходимо
поговорить с сэром Лингхэмом наедине, но все никак не представлялась
возможность. Я была очень робка. Каждый раз, когда его взгляд встречался с
моим, я пристально и умоляюще смотрела на него, надеясь, что он спросит о
причине. Но тщетно -- он, казалось, ничего не замечал, и лицо его оставалось
таким же спокойным и безучастным.
Наконец, в последний вечер его пребывания в замке, я смогла застать его
на крепостной стене одного, вдали от людей. Сэр Лингхэм стоял и молча
смотрел на закат -- багровое солнце и кровавые облака предвещали ненастье.
Когда я тихо подошла к нему, он обернулся и проговорил с учтивой улыбкой:
-- Ах, это Вы, милое дитя!
-- Сэр Лингхэм, -- пролепетала я, смущаясь и краснея, -- Сэр Лингхэм,
помните ли Вы вечер... несколько месяцев назад... когда мы... когда Вы...
изволили обратить на меня внимание?..
-- Помню ли я? Еще бы!
В одно мгновение человек превратился в зверя. Его глаза плотоядно
сверкнули, а рука обвилась вокруг моих бедер.
-- Ты что, пришла подарить мне немного ласки на прощанье?
Я в ужасе отпрыгнула от него и, подавив рыданье, нашла в себе силы
продолжать:
-- Сэр Лингхэм... я должна сказать Вам... наши труды в тот вечер не
остались бесплодными... я ношу Ваше дитя...
Он перестал пытаться обнять меня. Между его бровей появилась морщинка,
губы скривились в презрительную усмешку:
-- Мое? А чем ты мне докажешь, что в тот же вечер не переспала с псарем
или конюхом? А, красотка?
Кровь моих предков начала закипать во мне.
-- Сэр Лингхэм! Позвольте напомнить Вам, что я была девственна, а кроме
того -- что Вы говорите с девицей знатного рода! Потрудитесь быть вежливы!
Он засмеялся еще презрительней:
-- О, эти девицы высокого происхождения! Те же шлюхи, но им повезло
родиться прямиком в золотую колыбельку. И между ног у вас то же самое, и
стонете в постели вы точно так же. Разве нет, а, красотка? А о своей
девственности тебе надо было подумать чуть раньше... Ну, ладно. Допустим,
это мой ребенок. Чего же ты хочешь?
-- И Вы еще спрашиваете? Вы же не хуже меня знаете, что искупить этот
грех можно только одним средством -- законным браком.
Он посмотрел на меня удивленно, даже -- ошарашенно.
-- Что? Мне -- жениться на тебе?
И вдруг расхохотался. Весело, безудержно. Он хохотал так долго и так
громко, что вспугнул стаю ворон с крыши конюшни. Обиженно каркая, они
закружились над нами.
-- Ты шутишь? Мне -- к которому благоволит сама королева, не говоря уж
о придворных дамах -- жениться на сиротке захудалого рода, без денег и без
связей! Все, что у тебя есть -- это предки, но много ли в них проку? К тому
же, мне бы не хотелось, чтобы моя жена так резво раздвигала ножки для
первого встречного, как ты.
Кровь стучала в моих висках тысячей кузнечных молотов.
-- Так Вы отказываетесь жениться на мне?
-- Да, черт возьми, отказываюсь! Не понимаю, как у тебя хватило
наглости предложить мне это! Послушай, что я тебе скажу. У меня есть
надежная женщина, немая, как рыба. Ты поедешь к ней, а когда придет твой
срок -- она все сделает, во всем поможет. Ублюдка, я думаю, лучше сразу
утопить, но если хочешь -- я пристрою его куда-нибудь. И если ты сама не
станешь звонить об этой истории на весь мир -- никто ничего не узнает.
Согласна?
Весь мир стал багрово-алым перед моими глазами.
-- Сэр Лингхэм! Спрашиваю Вас в последний раз: женитесь ли Вы на мне?
Он снова захохотал, как безумный, и, хохоча, сказал:
-- А ты настырная! Да если б я женился на всех таких, как ты, у меня бы
в каждом замке было по жене! Клянусь, своим гаремом я посрамил бы самого...
Отточеная сталь мелькнула у его горла, и он захлебнулся последним
словом и собственной кровью. Он так и умер, смеясь, не успев даже понять,
что случилось. Только глаза у него стали невеселые.
И никто так никогда и не узнает, кого он мог бы посрамить своим
гаремом.
Они собрались в круглом дворе храма, обнесенном высокой стеной. Пришли
все -- от молоденьких девушек, лишь недавно получивших посвящение, до
сморщеных старух, которые покидали дома только ради величайших праздников.
Сотни женщин теснились вдоль стен, и тишина, неестественная в таком
скоплении людей, звенела в ушах.
В центре круга женщин сидела ясновидящая. Древняя, как море и холмы,
она пришла вчера с юга и принесла страшные вести. На ней была лишь узенькая
набедренная повязка, и ее желтая кожа висела складками, как у старой
слонихи. Ее маленькие и умные черные глазки снова и снова обегали толпу,
заставляя даже самых смелых отводить взгляд. Тишина становилась такой густой
и осязаемой, что ее можно было резать ножом.
Наконец, старуха решила, что пора начинать. Неожиданно легким и
красивым движением она поднялась на ноги, и тут же заговорила высоким
надтреснутым голосом:
-- Мир вам, сестры! Да отвратятся от вас все беды! Не прогневайтесь на
меня за дурные вести! Далеко на юге я служила день и ночь Рогатой Богине, и
она вознаградила меня, сделав далекое столь же ясным, как близкое, а будущее
-- столь же известным, как прошлое. И то, что я увидела в будущем, наполнило
сердце мое ужасом. Теперь я хожу из селенья в селенье, и рассказываю сестрам
о том, что узнала.
Пророчица перевела дух и продолжила с яростным пылом:
-- Заклинаю вас, сестры, берегитесь мужчин! Вы напрасно смеетесь, --
гневно бросила она тем, кто позволил себе недоверчивый смешок, -- да,
напрасно! Тех мужчин, которых вы знаете, мы приручали много столетий, потому
они не так страшны. Но и в них сохранилось еще немало от зверя, дикого
зверя, кровожадного зверя! И оттого им нет доступа на наши собрания и
таинства, видите -- каждый храм обнесен стеной, чтобы уберечься от их
нескромных глаз. А знаете ли вы, что многие из них тайно поклоняются
жестоким богам -- Леопарду, Волку и другим? Природа мужчины полна злобы,
желания мучить и подавлять. Но наши мужчины не так уж и плохи, по сравнению
с теми, которых мы вскоре увидим...
Старуха замолчала и закрыла глаза. Женщины замерли, ожидая продолжения.
Хоть они и ждали его, пронзительный вопль старухи заставил их содрогнуться.
-- Да, я вижу, я вижу их! Далеко на востоке собираются черные орды! Их
тысячи тысяч, они поднимают голову, и когда-нибудь они придут сюда! Этот
народ никогда не знал любви Рогатой Богини, жестокостью он превосходит все,
что только есть на земле! Их мужчины любят только войну и кровавые забавы, и
боги у них такие же. Питаются они одним мясом, и потому так свирепы. Они
приручили диковинных животных, похожих на антилоп, но с волосами, как у
женщин, и заставляют их тянуть за собой маленькие дома, поставленные на
странные круги из дерева. Эти животные быстры, как ветер, и рано или поздно
народ этот будет здесь!
-- А что же их женщины? О, сестры, глаза мои полны слез! Плачьте,
плачьте со мной! Эти мужчины обращаются со своими женщинами хуже, чем со
скотиной! Они бьют их, держат впроголодь, заставляют работать целый день.
Они думают, что женщина -- безмозглая тварь, созданная лишь для их
наслаждения и забавы. Когда женщина состарится и потеряет красоту, они
выгоняют ее из дому и берут новую, помоложе. Они бахвалятся друг перед
другом красотой своих жен и истребляют целые народы только для того, чтобы
захватить новых женщин. Поэтому женщины их -- жалкие, забитые создания,
потерявшие всякое достоинство и гордость.
-- Плачьте, плачьте, сестры! Я тоже не могу не плакать! Когда-нибудь
они придут сюда! Быть может, не при нас, и не при наших детях, но придут! Но
я не сказала вам главное!
Пророчица еще раз обвела толпу глазами. Бледные, испуганые женщины
смотрели на нее, как зачарованные.
-- Их много. Они очень сильны и беспощадны. Они придут, чтобы захватить
нашу землю. Нет никакой надежды, что мы сможем выстоять против них. И наши
женщины станут тем, чем уже стали их женщины! Не знаю, скоро ли, но так
будет! Мы тоже станем забитыми, бессловесными тварями, лижущими ноги своему
господину -- Мужчине!
Вопль ужаса и тоски был ей ответом.
Мы ненавидим эту женщину. Но наша ненависть, как и многое другое,
ничего не значит для нее.
Город: беспорядочное и некрасивое скопление домов, зной и пыль.
Приезжие и события здесь одинаково редки. Всего здесь по одному: одна
церковь, одна почта, одна больница, одно питейное заведение. И один дом
терпимости, вотчина этой женщины.
Сложно сказать, сколько лет уже она его держит, но никак не меньше
десяти. Ей около сорока, и ее подопечные называют ее на французский манер
"мадам", настоящего же ее имени никто не знает. Говорят, она со своими
"девочками" на дружеской ноге, да и сама не отказывается обслужить клиента,
если тот проявляет желание.
Все свои дни она проводит одинаково. До полудня она отсыпается после
бессонной ночи. С часу дня и до полуночи ее можно неизменно видеть сидящей
перед дверьми своего заведения под выгоревшим полотняным навесом. Она сидит
в покойной, ленивой позе, с полузакрытыми глазами и совершенно без всякого
выражения на лице. Она сидит так час за часом, не двигаясь, словно языческий
идол. Мимо проходят люди, проезжают повозки, пробегают собаки -- она
остается такой же безразличной, ни на что не обращает внимания.
У этой женщины удивительное тело -- в любом платье она кажется голой,
любая ее поза кажется неприличной. Ее полнота только усиливает это
впечатление. Но тех, кто видит ее впервые, куда больше поражает ее лицо. Оно
некрасивое, но приятное -- большие темные глаза, полные губы -- и всегда,
при любых обстоятельствах, лишено какого-либо выражения. Так, наверное,
выглядела Ева до того, как познала добро и зло.
Мы ненавидим эту женщину. Она, как соринка в глазу, мешает и
раздражает. То, как невозмутимо она сидит целыми днями у дверей своего
позорного дома, приводит нас в бешенство. Мы склонны видеть в ее поведении
злой умысел, желание оскорбить и унизить нас. Но мы не смеем высказать наш
гнев: приличные женщины не должны даже замечать таких, как она. Каждая из
нас вынуждена по нескольку раз в день проходить мимо нее -- и не видеть.
Мужчины, напротив, считают, что эта женщина -- одна из главных
достопримечательностей нашего города. Всех гостей непременно водят
посмотреть на нее, и она имеет немалый успех. Те, кто не боятся
общественного мнения, порой даже останавливаются поболтать с ней. Она им
улыбается, но выражение ее лица от этого не меняется. Отвечает она
односложно, без выражения, явно с трудом подбирая слова. Единственная тема,
которая ее интересует -- ее заведение. Все остальное ей непонятно или не
трогает. Даже ее поклонники и защитники признают, что она непроходимо глупа.
Однажды она исчезла. Ни в два, ни в три часа дня ее все еще не было на
обычном месте. К четырем весть о ее отсутствии разнеслась по всему городу.
Небольшие группы людей стали собираться напротив ее дома, оживленно
обсуждая, куда могла деться "мадам", и высказывая самые невероятные
предположения. Кто-то даже сказал, что, возможно, она раскаялась в своих
грехах и удалилась в монастырь. Но фантазера дружно высмеяли -- все
прекрасно знали, что у этой женщины просто не хватит ума на такое сложное
предприятие.
Вдоволь наболтавшись, народ разошелся. Дом стоял тихий, грустный,
словно лишился жизни.
На следующий день "мадам" по-прежнему не было. Прохожие напрасно искали
глазами ее полную фигуру под полотняным навесом. Все чувствовали какую-то
пустоту, ведь мы привыкли видеть ее ежедневно. Казалось бы, мы должны были
обрадоваться ее исчезновению, некому стало колоть нам глаза, но, странное
дело, мы совсем не радовались.
На третий день мы, наконец, узнали где она. Доктор Алвариш рассказал
кому-то по-секрету, что "мадам" в больнице, куда он сам ее и поместил. По
его словам, ее жизнь была в большой опасности. Естественно, этот секрет
вскоре стал известен всему городу.
Эта женщина серьезно больна! Мы несказанно удивились -- нам почему-то
всегда казалось, что у нее железное здоровье. Чем же она больна? "Уж
наверное, какой-нибудь позорной болезнью" -- презрительно фыркали некоторые.
Но большинство, не слушая их, отправило депутацию к доктору Алваришу чтобы,
наконец, выяснить, что же происходит.
Доктор сначала пытался отделаться от депутации дам, делая вид, что не
понимает, о чем его спрашивают, но вскоре сдался. Он рассказал нам, что у
"мадам" опухоль мозга, и шансов на выздоровление почти никаких. Мало того,
оказалось, что ее странное поведение, речь и выражение лица -- тоже
следствия болезни. Еще маленькой девочкой она упала с лестницы и очень
сильно ударилась головой. С тех пор ее умственное развитие остановилось, а в
поведении появились странности.
Его слова словно окатили нас холодной водой. Значит, она вовсе не
хотела нам ничего плохого, а мы так ненавидели ее! Пристыженные и притихшие,
мы попрощались с доктором. Мы шли по улице молча, и сердце каждой из нас
жгло сознание собственной несправедливости и жестокости. Наконец, жена
аптекаря нарушила молчание.
-- Вы, конечно, можете осудить меня, -- сказала она, -- но я собираюсь
завтра навестить эту женщину в больнице и отнести ей немного фруктов.
Тут же и другие стали говорить, что они намереваются поступить точно
так же. Никто не посмел им возразить.
С тех пор больная "мадам" ежедневно получала больше гостинцев и
подарков, чем все остальные больные вместе взятые. К ее постели установилось
настоящее паломничество. Все дамы города в один голос утверждали, что
причиной нравственного падения этой женщины и ее позорной профессии была
только ее злосчастная болезнь. Мужчины не знали, что и подумать о таком
обороте дел, кое-кто даже пытался запретить своим женам навещать эту
женщину. Но мы стояли насмерть, и им пришлось сдаться. Мы самоотверженно
ухаживали за ней, впавшей в беспамятство и страшно исхудавшей. Мы
чувствовали, что только так можем искупить свою вину перед ней.
Как и предсказывал доктор Алвариш, через месяц она умерла. Мы
оплакивали ее, словно родную. У "мадам" не было наследников, и ее заведение
перешло в руки одной из ее "девочек". Эта негодница, молодая и неимоверно
наглая, заставила нас еще раз пожалеть о старых временах. Но когда она
попыталась восстановить обычай "мадам" и сама села под памятный навес у
дверей дома, толпа возмутилась и прогнала ее, закидав гнилыми овощами. Мы не
могли позволить ей оскорбить память этой женщины.
Сэр Лингхэм уезжал, и я ходила молчаливая и подавленная. Мои платья
сходились на мне все с большим трудом, и старая кормилица, помогавшая мне по
утрам одеваться, уже начала поглядывать на меня исподлобья, но пока молчала.
Еще немного -- и слуги начнут шушукаться за моей спиной.
У меня не было ни отца, ни брата, ни другого защитника, и я должна была
сама найти выход из западни, в которую попала. Мне было необходимо
поговорить с сэром Лингхэмом наедине, но все никак не представлялась
возможность. Я была очень робка. Каждый раз, когда его взгляд встречался с
моим, я пристально и умоляюще смотрела на него, надеясь, что он спросит о
причине. Но тщетно -- он, казалось, ничего не замечал, и лицо его оставалось
таким же спокойным и безучастным.
Наконец, в последний вечер его пребывания в замке, я смогла застать его
на крепостной стене одного, вдали от людей. Сэр Лингхэм стоял и молча
смотрел на закат -- багровое солнце и кровавые облака предвещали ненастье.
Когда я тихо подошла к нему, он обернулся и проговорил с учтивой улыбкой:
-- Ах, это Вы, милое дитя!
-- Сэр Лингхэм, -- пролепетала я, смущаясь и краснея, -- Сэр Лингхэм,
помните ли Вы вечер... несколько месяцев назад... когда мы... когда Вы...
изволили обратить на меня внимание?..
-- Помню ли я? Еще бы!
В одно мгновение человек превратился в зверя. Его глаза плотоядно
сверкнули, а рука обвилась вокруг моих бедер.
-- Ты что, пришла подарить мне немного ласки на прощанье?
Я в ужасе отпрыгнула от него и, подавив рыданье, нашла в себе силы
продолжать:
-- Сэр Лингхэм... я должна сказать Вам... наши труды в тот вечер не
остались бесплодными... я ношу Ваше дитя...
Он перестал пытаться обнять меня. Между его бровей появилась морщинка,
губы скривились в презрительную усмешку:
-- Мое? А чем ты мне докажешь, что в тот же вечер не переспала с псарем
или конюхом? А, красотка?
Кровь моих предков начала закипать во мне.
-- Сэр Лингхэм! Позвольте напомнить Вам, что я была девственна, а кроме
того -- что Вы говорите с девицей знатного рода! Потрудитесь быть вежливы!
Он засмеялся еще презрительней:
-- О, эти девицы высокого происхождения! Те же шлюхи, но им повезло
родиться прямиком в золотую колыбельку. И между ног у вас то же самое, и
стонете в постели вы точно так же. Разве нет, а, красотка? А о своей
девственности тебе надо было подумать чуть раньше... Ну, ладно. Допустим,
это мой ребенок. Чего же ты хочешь?
-- И Вы еще спрашиваете? Вы же не хуже меня знаете, что искупить этот
грех можно только одним средством -- законным браком.
Он посмотрел на меня удивленно, даже -- ошарашенно.
-- Что? Мне -- жениться на тебе?
И вдруг расхохотался. Весело, безудержно. Он хохотал так долго и так
громко, что вспугнул стаю ворон с крыши конюшни. Обиженно каркая, они
закружились над нами.
-- Ты шутишь? Мне -- к которому благоволит сама королева, не говоря уж
о придворных дамах -- жениться на сиротке захудалого рода, без денег и без
связей! Все, что у тебя есть -- это предки, но много ли в них проку? К тому
же, мне бы не хотелось, чтобы моя жена так резво раздвигала ножки для
первого встречного, как ты.
Кровь стучала в моих висках тысячей кузнечных молотов.
-- Так Вы отказываетесь жениться на мне?
-- Да, черт возьми, отказываюсь! Не понимаю, как у тебя хватило
наглости предложить мне это! Послушай, что я тебе скажу. У меня есть
надежная женщина, немая, как рыба. Ты поедешь к ней, а когда придет твой
срок -- она все сделает, во всем поможет. Ублюдка, я думаю, лучше сразу
утопить, но если хочешь -- я пристрою его куда-нибудь. И если ты сама не
станешь звонить об этой истории на весь мир -- никто ничего не узнает.
Согласна?
Весь мир стал багрово-алым перед моими глазами.
-- Сэр Лингхэм! Спрашиваю Вас в последний раз: женитесь ли Вы на мне?
Он снова захохотал, как безумный, и, хохоча, сказал:
-- А ты настырная! Да если б я женился на всех таких, как ты, у меня бы
в каждом замке было по жене! Клянусь, своим гаремом я посрамил бы самого...
Отточеная сталь мелькнула у его горла, и он захлебнулся последним
словом и собственной кровью. Он так и умер, смеясь, не успев даже понять,
что случилось. Только глаза у него стали невеселые.
И никто так никогда и не узнает, кого он мог бы посрамить своим
гаремом.
Они собрались в круглом дворе храма, обнесенном высокой стеной. Пришли
все -- от молоденьких девушек, лишь недавно получивших посвящение, до
сморщеных старух, которые покидали дома только ради величайших праздников.
Сотни женщин теснились вдоль стен, и тишина, неестественная в таком
скоплении людей, звенела в ушах.
В центре круга женщин сидела ясновидящая. Древняя, как море и холмы,
она пришла вчера с юга и принесла страшные вести. На ней была лишь узенькая
набедренная повязка, и ее желтая кожа висела складками, как у старой
слонихи. Ее маленькие и умные черные глазки снова и снова обегали толпу,
заставляя даже самых смелых отводить взгляд. Тишина становилась такой густой
и осязаемой, что ее можно было резать ножом.
Наконец, старуха решила, что пора начинать. Неожиданно легким и
красивым движением она поднялась на ноги, и тут же заговорила высоким
надтреснутым голосом:
-- Мир вам, сестры! Да отвратятся от вас все беды! Не прогневайтесь на
меня за дурные вести! Далеко на юге я служила день и ночь Рогатой Богине, и
она вознаградила меня, сделав далекое столь же ясным, как близкое, а будущее
-- столь же известным, как прошлое. И то, что я увидела в будущем, наполнило
сердце мое ужасом. Теперь я хожу из селенья в селенье, и рассказываю сестрам
о том, что узнала.
Пророчица перевела дух и продолжила с яростным пылом:
-- Заклинаю вас, сестры, берегитесь мужчин! Вы напрасно смеетесь, --
гневно бросила она тем, кто позволил себе недоверчивый смешок, -- да,
напрасно! Тех мужчин, которых вы знаете, мы приручали много столетий, потому
они не так страшны. Но и в них сохранилось еще немало от зверя, дикого
зверя, кровожадного зверя! И оттого им нет доступа на наши собрания и
таинства, видите -- каждый храм обнесен стеной, чтобы уберечься от их
нескромных глаз. А знаете ли вы, что многие из них тайно поклоняются
жестоким богам -- Леопарду, Волку и другим? Природа мужчины полна злобы,
желания мучить и подавлять. Но наши мужчины не так уж и плохи, по сравнению
с теми, которых мы вскоре увидим...
Старуха замолчала и закрыла глаза. Женщины замерли, ожидая продолжения.
Хоть они и ждали его, пронзительный вопль старухи заставил их содрогнуться.
-- Да, я вижу, я вижу их! Далеко на востоке собираются черные орды! Их
тысячи тысяч, они поднимают голову, и когда-нибудь они придут сюда! Этот
народ никогда не знал любви Рогатой Богини, жестокостью он превосходит все,
что только есть на земле! Их мужчины любят только войну и кровавые забавы, и
боги у них такие же. Питаются они одним мясом, и потому так свирепы. Они
приручили диковинных животных, похожих на антилоп, но с волосами, как у
женщин, и заставляют их тянуть за собой маленькие дома, поставленные на
странные круги из дерева. Эти животные быстры, как ветер, и рано или поздно
народ этот будет здесь!
-- А что же их женщины? О, сестры, глаза мои полны слез! Плачьте,
плачьте со мной! Эти мужчины обращаются со своими женщинами хуже, чем со
скотиной! Они бьют их, держат впроголодь, заставляют работать целый день.
Они думают, что женщина -- безмозглая тварь, созданная лишь для их
наслаждения и забавы. Когда женщина состарится и потеряет красоту, они
выгоняют ее из дому и берут новую, помоложе. Они бахвалятся друг перед
другом красотой своих жен и истребляют целые народы только для того, чтобы
захватить новых женщин. Поэтому женщины их -- жалкие, забитые создания,
потерявшие всякое достоинство и гордость.
-- Плачьте, плачьте, сестры! Я тоже не могу не плакать! Когда-нибудь
они придут сюда! Быть может, не при нас, и не при наших детях, но придут! Но
я не сказала вам главное!
Пророчица еще раз обвела толпу глазами. Бледные, испуганые женщины
смотрели на нее, как зачарованные.
-- Их много. Они очень сильны и беспощадны. Они придут, чтобы захватить
нашу землю. Нет никакой надежды, что мы сможем выстоять против них. И наши
женщины станут тем, чем уже стали их женщины! Не знаю, скоро ли, но так
будет! Мы тоже станем забитыми, бессловесными тварями, лижущими ноги своему
господину -- Мужчине!
Вопль ужаса и тоски был ей ответом.
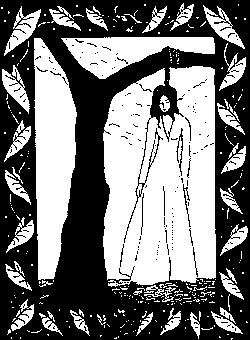 Госпожа Якимото совершенно скомпрометировала себя. Не знаю, как у нее
еще хватает нахальства после всего случившегося показываться при дворе. Куда
только смотрит ее муж! Представьте, она явилась на прием к принцу в платье,
где нижний слой переходил из салатового в травяной, средний -- из
изумрудного в небесно-синий, а верхний -- из персикового в цикламеновый.
Чтобы выбрать такое сочетание цветов надо быть либо слепой, либо не обладать
ни зернышком вкуса. Когда она вошла, разговоры смолкли, и все присутствующие
начали пялить на нее глаза -- конечно, это невежливо, но никто не смог
устоять. Даже принц прервал свой разговор с господином Судзуки и не меньше
минуты смотрел на нее. И что вы думаете? Госпожа Якимото, нимало не
смутившись, села неподалеку от принца и, приняв его взгляд за знак
восхищения, начала строить ему глазки. Принц подчеркнуто не обращал на нее
никакого внимания. Придворные стали шушукаться. Во всем ее облике была такая
вопиющая безвкусица, что это невольно привлекало всеобщее внимание. А она
считала, что все от нее в восторге.
Говорят, принц был так раздражен ее безобразным поведением, что
господина Якимото скоро сошлют в отдаленную провинцию. И все из-за
скандального, безвкусного платья. Право, мужчинам стоило бы обращать
побольше внимания на наряды своих жен.
Госпожа Якимото совершенно скомпрометировала себя. Не знаю, как у нее
еще хватает нахальства после всего случившегося показываться при дворе. Куда
только смотрит ее муж! Представьте, она явилась на прием к принцу в платье,
где нижний слой переходил из салатового в травяной, средний -- из
изумрудного в небесно-синий, а верхний -- из персикового в цикламеновый.
Чтобы выбрать такое сочетание цветов надо быть либо слепой, либо не обладать
ни зернышком вкуса. Когда она вошла, разговоры смолкли, и все присутствующие
начали пялить на нее глаза -- конечно, это невежливо, но никто не смог
устоять. Даже принц прервал свой разговор с господином Судзуки и не меньше
минуты смотрел на нее. И что вы думаете? Госпожа Якимото, нимало не
смутившись, села неподалеку от принца и, приняв его взгляд за знак
восхищения, начала строить ему глазки. Принц подчеркнуто не обращал на нее
никакого внимания. Придворные стали шушукаться. Во всем ее облике была такая
вопиющая безвкусица, что это невольно привлекало всеобщее внимание. А она
считала, что все от нее в восторге.
Говорят, принц был так раздражен ее безобразным поведением, что
господина Якимото скоро сошлют в отдаленную провинцию. И все из-за
скандального, безвкусного платья. Право, мужчинам стоило бы обращать
побольше внимания на наряды своих жен.
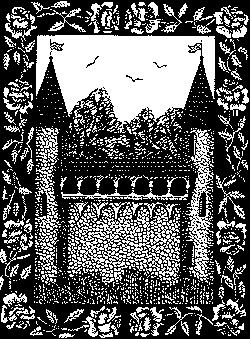 Нелегко служить Великой Богине. Подумай еще раз, прежде чем выбрать
этот путь. Он хорош для тех, что сильны духом и телом, а всем остальным
лучше держаться от него подальше. Оступиться легко, и тогда уже не
поднимешься. Великая Богиня не прощает ошибок и слабостей.
Начинают все в Нижнем Храме. Этот лик Богини обращен к простому люду.
Любой может прийти сюда и за гроши получить приглянувшуюся женщину. У тех,
кто проходит испытание в Нижнем Храме, нет ничего своего -- ни денег, ни
даже одежды. В любое время дня и ночи они должны отдаваться пожелавшему их
мужчине. Отказывать -- нельзя. И никто не знает, сколько ты проведешь там --
неделю, месяц, год... Это решают Высшие. По признакам, известным им одним,
они выбирают тех, кто готов к дальнейшему посвящению. Говорят, избираются те
женщины, которые хороши собой и способны всегда дарить любовь с радостью.
Все прочие остаются в Нижнем Храме навсегда.
Те, кто прошел Нижний Храм, обучаются в Высоком искусству любви и
смерти и становятся жрицами Богини. Нет ничего такого, чего жрицы не умеют в
любви. Цари -- и те мечтают о том, чтобы разделить с ними ложе. Но кроме
искусства любви жрицы владеют и искусством смерти. Им известны все яды и
противоядия, и они могут убить сильного воина одним ударом кинжала. Горе
тому, кто попробует насильно навязать свою любовь жрице Богини! Они вольны
сами избирать себе любовников и лишь часть заработанных денег отдают в Храм
-- на оставшиеся же покупают себе роскошные наряды и драгоценные украшения.
Этих жриц легко узнать -- в знак своей свободы и власти над мужчиной они
ходят без покрывала и охраны.
Те, за кем Высшие замечают склонность к наживе, дурной нрав, жестокость
или гордыню, в любой момент могут быть отправлены обратно в Нижний Храм на
всю оставшуюся жизнь. Другие -- и их немало -- вскоре становятся женами
царей и вельмож. Нужно только внести большой выкуп Храму. И лишь немногие
избранные принимают следующее посвящение. Чтобы удостоиться этой чести нужно
изжить страсти, а также иметь острый ум и желание познать тайны.
Те, в ком Высшие находят эти черты, попадают в Тайный Храм, и сами
становятся Высшими. Они обучаются всем наукам и познают тайны Богини. Высшим
подвластны Жизнь и Смерть, Радость и Горе. Звезды они читают как открытую
книгу. Для них нет ничего невозможного.
Высшие обязаны жить просто и небогато и не иметь секретов друг от
друга. Помыслы их должны быть чисты и направлены лишь на служение Богине. Те
из Высших, кто использует знания в низменных целях, а также те, кто
разглашает тайны Богини, предаются смерти. Их обучение длится до конца жизни
-- у Великой Богини немало тайн!
Говорят -- но никто не знает точно -- что есть еще одна ступень
посвящения, Тайна Тайн. Мудрейшие из Высших владеют ею, но кто из них, и что
это за Тайна -- неведомо никому, кроме их самих.
Корабль под полосатым парусом подошел к песчаной косе и причалил. Был
корабль невелик, но сработан ладно и красиво, на носу его возвышалась
раскрашенная голова дракона. Едва корабль пристал, как на берег стали
сходить один за другим мужчины. Все они были светловолосы, высоки ростом и
одеты в кольчуги и рогатые шлемы. Глаза воинов были сини, как море, лица
суровы. Часть из них осталась охранять корабль, остальные направились к
лесу.
Викинги готовились к путешествию на восток, к дому. Эта земля, до
которой они добирались столь долго и с большими потерями, была слишком
велика для такой горсточки людей. Побережье тянулось с севера на юг, и конца
ему все не было. Жили здесь многочисленные люди, стройные и темнокожие,
отличные воины. Пришельцев они встречали не то, чтобы враждебно, но и не
ласково. С одним кораблем нечего было и думать о войне с ними. Вот если они
сумеют вернуться и убедить других последовать за ними... Тогда этот берег
еще содрогнется при виде десятков и сотен кораблей под полосатыми
парусами...
Олаф в одиночестве брел по краю леса. Он любил одиночество, а в этот
день ему особенно захотелось побыть в лесной тиши, вдали от других. Он был
моложе всех на корабле, лицом -- пригож, нравом -- мягок. Раньше товарищи
порой насмехались над его "трусоватостью" -- люди в те времена плохо
отличали мягкость и доброту от трусости -- но Олаф таких шуток не терпел, и
обидчики вскоре уразумели, что ссориться с ним не стоит.
Олаф шагал неслышно, с интересом рассматривая незнакомые деревья и
размышляя, далеко ли на запад уходят эти неведомые земли. Внезапно он
почувствовал, что за ним кто-то наблюдает. Сразу подобравшись, как дикий
зверь, Олаф быстро огляделся и заметил блестящие, любопытные глаза среди
зелени кустов. Стремительный прыжок, пронзительный крик -- и неведомый
лазутчик забился в железных объятьях Олафа. Но, едва викинг разглядел, кого
же он поймал, как руки его сами собой разжались. Это была девушка,
тоненькая, как тростинка, и совсем молоденькая. Одета она была в мягкие,
хорошо выделанные шкуры, расшитые мелкими ракушками и бисером. Иссиня-черные
волосы рассыпались по плечам и миловидному смуглому личику, темные глаза,
сияющие, как драгоценные камни, смотрели на Олафа испуганно и умоляюще. Под
взглядом этих глаз Олафу почему-то стало не по себе. Едва девушка
почувствовала, что хватка Олафа ослабла, как она с кошачей ловкостью
вырвалась из его рук и отбежала на несколько шагов. Там она застыла, словно
вспугнутая лань, готовая каждую секунду спасаться бегством.
-- Подожди! -- воскликнул Олаф. -- Не убегай, я не причиню тебе зла!
Девушка, наклонив голову, прислушивалась к его словам, но было видно,
что она не понимает. В глазах ее ужас мешался с любопытством. Она сделала
робкий шажок вперед и тут же отпрыгнула обратно, напуганная собственной
смелостью. Олаф рассмеялся, глядя на нее:
-- Не бойся! Я друг! Друг!
Девушка удивленно смотрела на смеющегося белокурого великана, и страх
постепенно уходил с ее лица. Потом она улыбнулась в ответ и вопросительно
проговорила несколько слов на незнакомом языке, звучащем странно и
непривычно для Олафа.
-- Не понимаю! -- ответил он. -- Но я -- друг!
И он отшвырнул в сторону топор и кинжал, показывая ей, что теперь
безоружен. Девушка прекрасно поняла этот жест и, широко улыбнувшись еще раз,
подошла поближе.
Теперь они стояли, разделенные всего парой шагов, и с интересом
рассматривали друг друга, пытаясь удовлетворить извечное человеческое
любопытство. Дети разных миров стремились понять, что за странное,
незнакомое существо оказалось перед ними.
Девушка смотрела на Олафа с почтительным восхищением. Он казался ей
юным богом -- у кого еще могли быть такие сверкающие одежды, такие
невероятно синие глаза, а главное -- такие золотые волосы? Несмело,
осторожно она протянула руку и дотронулась до них, а потом восторженно
вскрикнула -- настоящие!
Олаф тоже смотрел на девушку, и она казалась ему все прекраснее. Она
была непохожа на женщин его земли -- о, совсем непохожа! -- но эта, новая
для него, красота, нравилась ему ничуть не меньше. И Олафу захотелось
сказать ей об этом.
-- Ты красивая, -- прошептал он тихо, -- очень красивая.
Удивительно, но эти его слова она поняла очень хорошо. Она взглянула
Олафу прямо в глаза, а потом слегка покраснела и потупилась. Олаф, чувствуя,
что в нем мучительно рождается что-то новое, чудесное, не мог отвести от нее
глаз. Она же, напротив, была не в силах взглянуть на него.
Они сами не поняли как, но их руки встретились и переплелись. Потом,
наконец, встретились и их взгляды, и каждый прочитал в глазах другого то,
что они не сумели бы сказать, даже если бы говорили на одном языке. Так в
первый день человеческой истории Адам смотрел на Еву в Эдемском саду.
Они стояли, тихо обнявшись, переполненные друг другом. Покой леса
обволакивал их, солнечные лучи, пробившиеся сквозь листву, озаряли их души.
Казалось, эта гармония будет длиться вечно, но внезапно Олаф вздрогнул и
выпустил девушку из объятий. Он услышал голоса своих товарищей на берегу;
они громко звали его, готовясь отплыть домой.
Олаф взволнованно посмотрел на девушку, потом в сторону моря. И снова
на девушку. Реальность жестоко напомнила о себе: его мир звал его, а она не
поймет его слов, даже если он сможет объяснить. Он не может остаться здесь с
ней, но и оставить ее он не в силах!
Девушка смотрела на него вопросительно и настороженно. Она чувствовала,
что чудесный мир, который она нашла в его объятьях, грозит разрушиться.
Олаф, взяв ее за руку, сказал, вкладывая в слова всю силу мольбы:
-- Пойдем со мной! Пойдем! -- и показал в сторону моря.
Она непонимающе улыбнулась, а потом проговорила что-то на своем языке и
указала в сторону леса. Там был ее дом, и она звала его туда.
-- Нет! -- сказал Олаф, мотая головой и хмуря брови. -- Не туда! К
морю!
Девушка снова вопросительно посмотрела на него, а потом улыбнулась и
кивнула. Олаф, обрадованный ее понятливостью и просветлевший, заторопился к
кораблю, не выпускаяя ее руки. Девушка покорно, хотя и несколько недоуменно,
шла за ним.
Но, увидев корабль, она остановилась, как вкопанная. На корабле уже
поднимали парус, нос его был развернут в открытое море. Олаф снова стал
уговаривать ее:
-- Ну пойдем же, пойдем!
Он тянул девушку за руку, указывая на корабль, но она только сейчас
поняла, чего он от нее хочет, и застыла на месте. Она обвела глазами лес,
море, прибрежный песок и отчаянно замотала головой. Снова указав на лес, она
тихо и умоляюще звала его с собой.
-- Но я не могу! -- в отчаяньи воскликнул Олаф. -- Я не могу пойти с
тобой! Меня ждут на корабле!
И он еще раз попытался потянуть ее за руку, но она вырвалась и,
нахмурившись, проговорила что-то резкое. Тогда Олаф сдался.
-- Ну, что же, -- проговорил он огорченно, -- оставайся! Я не хочу
принуждать тебя. Мне очень жаль покидать тебя, но остаться с тобой я не
могу. Прощай!
И он отвернулся от девушки и пошел к кораблю. Когда на корабле заметили
его, оттуда понеслась крепкая ругань. Олаф, не отвечая на вопросы, где он
пропадал, взошел на борт и встал на корме, не отводя глаз от той, которую
должен был потерять навсегда, едва встретив.
Девушка стояла на том же месте и, не отрываясь, смотрела на корабль.
Лицо ее застыло, в глазах были боль, тоска и недоумение существа, которое
обидели, а оно никак не может понять -- почему? Когда она увидела, что на
корабле подняли парус, и он начал медленно, плавно отходить от берега, из
горла ее вырвался хриплый крик. Она снова взглянула назад, на родной лес --
там была ее семья, ее народ, весь ее мир! Но потом лицо девушки
преобразилось, словно освещенное заревом любви и боли. Она стремительно
побежала к берегу, бросилась в море и поплыла к кораблю.
Корабль не успел еще отойти далеко. Олаф пронзительно закричал, умоляя
остановиться, и изумленные викинги подчинились. Олаф, из глаз которого,
несмотря на все усилия сдержаться, градом катились слезы, помог своей
возлюбленной взобраться на борт, и корабль вновь поплыл на восток, навстречу
неведомой судьбе.
Сердце женщины умеет сделать правильный выбор.
Нелегко служить Великой Богине. Подумай еще раз, прежде чем выбрать
этот путь. Он хорош для тех, что сильны духом и телом, а всем остальным
лучше держаться от него подальше. Оступиться легко, и тогда уже не
поднимешься. Великая Богиня не прощает ошибок и слабостей.
Начинают все в Нижнем Храме. Этот лик Богини обращен к простому люду.
Любой может прийти сюда и за гроши получить приглянувшуюся женщину. У тех,
кто проходит испытание в Нижнем Храме, нет ничего своего -- ни денег, ни
даже одежды. В любое время дня и ночи они должны отдаваться пожелавшему их
мужчине. Отказывать -- нельзя. И никто не знает, сколько ты проведешь там --
неделю, месяц, год... Это решают Высшие. По признакам, известным им одним,
они выбирают тех, кто готов к дальнейшему посвящению. Говорят, избираются те
женщины, которые хороши собой и способны всегда дарить любовь с радостью.
Все прочие остаются в Нижнем Храме навсегда.
Те, кто прошел Нижний Храм, обучаются в Высоком искусству любви и
смерти и становятся жрицами Богини. Нет ничего такого, чего жрицы не умеют в
любви. Цари -- и те мечтают о том, чтобы разделить с ними ложе. Но кроме
искусства любви жрицы владеют и искусством смерти. Им известны все яды и
противоядия, и они могут убить сильного воина одним ударом кинжала. Горе
тому, кто попробует насильно навязать свою любовь жрице Богини! Они вольны
сами избирать себе любовников и лишь часть заработанных денег отдают в Храм
-- на оставшиеся же покупают себе роскошные наряды и драгоценные украшения.
Этих жриц легко узнать -- в знак своей свободы и власти над мужчиной они
ходят без покрывала и охраны.
Те, за кем Высшие замечают склонность к наживе, дурной нрав, жестокость
или гордыню, в любой момент могут быть отправлены обратно в Нижний Храм на
всю оставшуюся жизнь. Другие -- и их немало -- вскоре становятся женами
царей и вельмож. Нужно только внести большой выкуп Храму. И лишь немногие
избранные принимают следующее посвящение. Чтобы удостоиться этой чести нужно
изжить страсти, а также иметь острый ум и желание познать тайны.
Те, в ком Высшие находят эти черты, попадают в Тайный Храм, и сами
становятся Высшими. Они обучаются всем наукам и познают тайны Богини. Высшим
подвластны Жизнь и Смерть, Радость и Горе. Звезды они читают как открытую
книгу. Для них нет ничего невозможного.
Высшие обязаны жить просто и небогато и не иметь секретов друг от
друга. Помыслы их должны быть чисты и направлены лишь на служение Богине. Те
из Высших, кто использует знания в низменных целях, а также те, кто
разглашает тайны Богини, предаются смерти. Их обучение длится до конца жизни
-- у Великой Богини немало тайн!
Говорят -- но никто не знает точно -- что есть еще одна ступень
посвящения, Тайна Тайн. Мудрейшие из Высших владеют ею, но кто из них, и что
это за Тайна -- неведомо никому, кроме их самих.
Корабль под полосатым парусом подошел к песчаной косе и причалил. Был
корабль невелик, но сработан ладно и красиво, на носу его возвышалась
раскрашенная голова дракона. Едва корабль пристал, как на берег стали
сходить один за другим мужчины. Все они были светловолосы, высоки ростом и
одеты в кольчуги и рогатые шлемы. Глаза воинов были сини, как море, лица
суровы. Часть из них осталась охранять корабль, остальные направились к
лесу.
Викинги готовились к путешествию на восток, к дому. Эта земля, до
которой они добирались столь долго и с большими потерями, была слишком
велика для такой горсточки людей. Побережье тянулось с севера на юг, и конца
ему все не было. Жили здесь многочисленные люди, стройные и темнокожие,
отличные воины. Пришельцев они встречали не то, чтобы враждебно, но и не
ласково. С одним кораблем нечего было и думать о войне с ними. Вот если они
сумеют вернуться и убедить других последовать за ними... Тогда этот берег
еще содрогнется при виде десятков и сотен кораблей под полосатыми
парусами...
Олаф в одиночестве брел по краю леса. Он любил одиночество, а в этот
день ему особенно захотелось побыть в лесной тиши, вдали от других. Он был
моложе всех на корабле, лицом -- пригож, нравом -- мягок. Раньше товарищи
порой насмехались над его "трусоватостью" -- люди в те времена плохо
отличали мягкость и доброту от трусости -- но Олаф таких шуток не терпел, и
обидчики вскоре уразумели, что ссориться с ним не стоит.
Олаф шагал неслышно, с интересом рассматривая незнакомые деревья и
размышляя, далеко ли на запад уходят эти неведомые земли. Внезапно он
почувствовал, что за ним кто-то наблюдает. Сразу подобравшись, как дикий
зверь, Олаф быстро огляделся и заметил блестящие, любопытные глаза среди
зелени кустов. Стремительный прыжок, пронзительный крик -- и неведомый
лазутчик забился в железных объятьях Олафа. Но, едва викинг разглядел, кого
же он поймал, как руки его сами собой разжались. Это была девушка,
тоненькая, как тростинка, и совсем молоденькая. Одета она была в мягкие,
хорошо выделанные шкуры, расшитые мелкими ракушками и бисером. Иссиня-черные
волосы рассыпались по плечам и миловидному смуглому личику, темные глаза,
сияющие, как драгоценные камни, смотрели на Олафа испуганно и умоляюще. Под
взглядом этих глаз Олафу почему-то стало не по себе. Едва девушка
почувствовала, что хватка Олафа ослабла, как она с кошачей ловкостью
вырвалась из его рук и отбежала на несколько шагов. Там она застыла, словно
вспугнутая лань, готовая каждую секунду спасаться бегством.
-- Подожди! -- воскликнул Олаф. -- Не убегай, я не причиню тебе зла!
Девушка, наклонив голову, прислушивалась к его словам, но было видно,
что она не понимает. В глазах ее ужас мешался с любопытством. Она сделала
робкий шажок вперед и тут же отпрыгнула обратно, напуганная собственной
смелостью. Олаф рассмеялся, глядя на нее:
-- Не бойся! Я друг! Друг!
Девушка удивленно смотрела на смеющегося белокурого великана, и страх
постепенно уходил с ее лица. Потом она улыбнулась в ответ и вопросительно
проговорила несколько слов на незнакомом языке, звучащем странно и
непривычно для Олафа.
-- Не понимаю! -- ответил он. -- Но я -- друг!
И он отшвырнул в сторону топор и кинжал, показывая ей, что теперь
безоружен. Девушка прекрасно поняла этот жест и, широко улыбнувшись еще раз,
подошла поближе.
Теперь они стояли, разделенные всего парой шагов, и с интересом
рассматривали друг друга, пытаясь удовлетворить извечное человеческое
любопытство. Дети разных миров стремились понять, что за странное,
незнакомое существо оказалось перед ними.
Девушка смотрела на Олафа с почтительным восхищением. Он казался ей
юным богом -- у кого еще могли быть такие сверкающие одежды, такие
невероятно синие глаза, а главное -- такие золотые волосы? Несмело,
осторожно она протянула руку и дотронулась до них, а потом восторженно
вскрикнула -- настоящие!
Олаф тоже смотрел на девушку, и она казалась ему все прекраснее. Она
была непохожа на женщин его земли -- о, совсем непохожа! -- но эта, новая
для него, красота, нравилась ему ничуть не меньше. И Олафу захотелось
сказать ей об этом.
-- Ты красивая, -- прошептал он тихо, -- очень красивая.
Удивительно, но эти его слова она поняла очень хорошо. Она взглянула
Олафу прямо в глаза, а потом слегка покраснела и потупилась. Олаф, чувствуя,
что в нем мучительно рождается что-то новое, чудесное, не мог отвести от нее
глаз. Она же, напротив, была не в силах взглянуть на него.
Они сами не поняли как, но их руки встретились и переплелись. Потом,
наконец, встретились и их взгляды, и каждый прочитал в глазах другого то,
что они не сумели бы сказать, даже если бы говорили на одном языке. Так в
первый день человеческой истории Адам смотрел на Еву в Эдемском саду.
Они стояли, тихо обнявшись, переполненные друг другом. Покой леса
обволакивал их, солнечные лучи, пробившиеся сквозь листву, озаряли их души.
Казалось, эта гармония будет длиться вечно, но внезапно Олаф вздрогнул и
выпустил девушку из объятий. Он услышал голоса своих товарищей на берегу;
они громко звали его, готовясь отплыть домой.
Олаф взволнованно посмотрел на девушку, потом в сторону моря. И снова
на девушку. Реальность жестоко напомнила о себе: его мир звал его, а она не
поймет его слов, даже если он сможет объяснить. Он не может остаться здесь с
ней, но и оставить ее он не в силах!
Девушка смотрела на него вопросительно и настороженно. Она чувствовала,
что чудесный мир, который она нашла в его объятьях, грозит разрушиться.
Олаф, взяв ее за руку, сказал, вкладывая в слова всю силу мольбы:
-- Пойдем со мной! Пойдем! -- и показал в сторону моря.
Она непонимающе улыбнулась, а потом проговорила что-то на своем языке и
указала в сторону леса. Там был ее дом, и она звала его туда.
-- Нет! -- сказал Олаф, мотая головой и хмуря брови. -- Не туда! К
морю!
Девушка снова вопросительно посмотрела на него, а потом улыбнулась и
кивнула. Олаф, обрадованный ее понятливостью и просветлевший, заторопился к
кораблю, не выпускаяя ее руки. Девушка покорно, хотя и несколько недоуменно,
шла за ним.
Но, увидев корабль, она остановилась, как вкопанная. На корабле уже
поднимали парус, нос его был развернут в открытое море. Олаф снова стал
уговаривать ее:
-- Ну пойдем же, пойдем!
Он тянул девушку за руку, указывая на корабль, но она только сейчас
поняла, чего он от нее хочет, и застыла на месте. Она обвела глазами лес,
море, прибрежный песок и отчаянно замотала головой. Снова указав на лес, она
тихо и умоляюще звала его с собой.
-- Но я не могу! -- в отчаяньи воскликнул Олаф. -- Я не могу пойти с
тобой! Меня ждут на корабле!
И он еще раз попытался потянуть ее за руку, но она вырвалась и,
нахмурившись, проговорила что-то резкое. Тогда Олаф сдался.
-- Ну, что же, -- проговорил он огорченно, -- оставайся! Я не хочу
принуждать тебя. Мне очень жаль покидать тебя, но остаться с тобой я не
могу. Прощай!
И он отвернулся от девушки и пошел к кораблю. Когда на корабле заметили
его, оттуда понеслась крепкая ругань. Олаф, не отвечая на вопросы, где он
пропадал, взошел на борт и встал на корме, не отводя глаз от той, которую
должен был потерять навсегда, едва встретив.
Девушка стояла на том же месте и, не отрываясь, смотрела на корабль.
Лицо ее застыло, в глазах были боль, тоска и недоумение существа, которое
обидели, а оно никак не может понять -- почему? Когда она увидела, что на
корабле подняли парус, и он начал медленно, плавно отходить от берега, из
горла ее вырвался хриплый крик. Она снова взглянула назад, на родной лес --
там была ее семья, ее народ, весь ее мир! Но потом лицо девушки
преобразилось, словно освещенное заревом любви и боли. Она стремительно
побежала к берегу, бросилась в море и поплыла к кораблю.
Корабль не успел еще отойти далеко. Олаф пронзительно закричал, умоляя
остановиться, и изумленные викинги подчинились. Олаф, из глаз которого,
несмотря на все усилия сдержаться, градом катились слезы, помог своей
возлюбленной взобраться на борт, и корабль вновь поплыл на восток, навстречу
неведомой судьбе.
Сердце женщины умеет сделать правильный выбор.
Блудница и добрый человек
Нет, я никогда не привыкну к этому народу. Эти мужчины с
постно-благочестивым выражением лица, как они меняются, когда оказываются в
твоей постели! Ебутся грубо, как животные, требуют от тебя исполнения своих
самых грязных желаний, и все так мерзко, по-скотски! А если встретишь его на
следующий день на улице -- отшатнется, как от прокаженной. Ты -- грешница,
сосуд скудельный, на тебя даже смотреть мерзко, не то что прикасаться. Кто
бы мог подумать, что еще вчера он с завидным упорством наяривал меня сзади!
А женщины! Их здесь две разновидности: пугливые безмозглые овечки и
злобные ядовитые твари. Первые боятся поднять на тебя глаза -- они понять не
могут, как земля тебя еще носит. Скотства своих мужчин они не замечают,
привыкли, наверное, а может, совсем разучились думать. К таким женщинам
нельзя испытывать ничего, кроме презрительной жалости. А вот другие... Эти
ненавидят тебя настолько, что не задумываясь разорвали бы на части, если б
им только позволили. Ненавидят за то, что ты красивее, умнее, что к тебе
идут их мужчины, пропади они пропадом. На улице сверлят тебя горящими злыми
глазами, так, что становится страшно.
У меня на родине, на Севере, совсем не так. Там любят сильно и
неистово, любовь считают даром небес. Красивую женщину провожают
восхищенными взглядами. Там бы никто не назвал меня "блудницей". Нет, эта
страна совершенно невыносима: ее нищета, ее лицемерное ханжество, а главное
-- ее люди. Будь проклят тот час, когда меня сюда занесло! Как только наберу
достаточно денег, чтобы уехать -- только меня здесь и видели.
Что это за толпа собирается вокруг? Их становится все больше и
больше... О чем они говорят на своем противном тягучем наречии?
-- Видите ли вы эту женщину, эту мерзкую блудницу (ну вот, опять!), что
стоит здесь, оскорбляя своим видом ваших нежных дочерей и верных жен? (где
это он таких увидел?) Посмотрите на этот сосуд похоти, на эту приманку
дьявола! (ну-ну, и что дальше?) Посмотрите на ее бесстыдные глаза -- в
каждом сидит по бесу; посмотрите на эти пышные волосы -- сам дьявол заплетал
ей косы; посмотрите на ее белые груди, рвущие платье -- столько в них
дьявольского соблазна (это у них такая манера говорить -- он еще долго будет
разжевывать все по порядку)... на ее ноги -- даже ее следы в пыли полны
порока. Долго ли мы будем терпеть ее среди нас, позволять ей совращать мужей
с пути истинного и гнусным примером растлевать жен? (ого! дело, кажется,
оборачивается серьезно...) Или мы, по примеру наших благочестивых предков,
изгоним ее камнями (камнями?!) из нашего города, или ее тлетворное дыхание
отравит и загрязнит все вокруг!
Что мне делать? Они, кажется, всерьез намерены побить меня камнями.
Толпа беснуется, их глаза полны восторженной ненависти, они предвкушают
кровавую забаву. Особенно неистовствуют женщины, эти фурии, гарпии!
Наконец-то они смогут выместить на мне свою безудержную злобу! Мужчины тоже
оживились. Те из них, кто еще не успел переспать со мной, немного жалеют об
упущеной возможности, но в глубине души понимают, что предстоящее зрелище
куда интересней любого разврата. Остальным тем более наплевать. Никто не
поможет мне. Никто не заступится. Никто не спасет.
Многие уже начали подбирать камни. Но никто не решается начать первым
-- все словно ждут приказа. Самые робкие женщины закрывают лицо. Но что это?
Какой-то человек пробирается сквозь толпу. Еще один горлопан-обвинитель? А,
знаю -- это местный святой, ходит и проповедует любовь к ближнему. Его здесь
уважают. Однажды я подала ему милостыню. Какой еще грязью он собирается
облить меня?
Он встает рядом со мной и поднимает руку. Толпа смолкает -- все ждут,
что он скажет. Что он скажет?
-- Кто из вас без греха -- пусть первый бросит в нее камень!
 Студент Би Гунь был сиротой и очень беден. Хотя он отличался умом и
прилежанием, ему не везло на экзаменах. После того, как Би не прошел в
третий раз, он так огорчился, что забросил ученье и начал пить. Каждую ночь
пропадал у приятелей на шумных пирушках. Вскоре и то немногое, что имел,
утопил в винной чаше.
Все вокруг от него отвернулись с презрением. Но я видела, что беды Би
-- лишь временны, и что его ждет большое будущее. Мы жили по соседству, дома
наши разделял лишь маленький садик, и я часто видела, как Би занимается или
гуляет. В то время я уже овдовела, но было мне не больше двадцати с чем-то
лет.
Как-то вечером я прокралась к его дому, заглянула в окно и увидела, что
Би сидит подперев голову рукой и плачет. Так мне его стало жалко, что я
вошла к нему и сказала:
-- Господин Гунь, перестаньте терзаться! Ваша ученость столь велика и
блестяща, что рано или поздно будет оценена по заслугам. Имейте терпенье!
Он смотрел на меня, вытаращив глаза, думая, верно, что я дух или лиса.
Я же представилась, объяснила, кто я такая и продолжала:
-- Есть у меня немного денег, и, чтобы помочь вам, вот что хочу
предложить. Возьмите меня служанкой при совке и метелке, и все, что я имею,
станет вашим. Оба мы свободны, родни у нас нет, так почему бы нам не помочь
друг другу? Мне с вами будет не так одиноко.
Стал он думать, посмотрел на меня -- видит, я не красавица, но и не
урод, выгляжу чисто и прилично. Подумал, подумал и согласился. В тот же день
переехал ко мне, и мы соединились на ложе.
Первое время его тянуло на старое -- на пирушки с друзьями. Хотелось
похвастаться им, что вот, снова у него завелсь деньги. Но я сказала:
-- Господин Гунь, я не для того предложила вам все свое состояние, чтоб
вы его спустили с приятелями. Не денег мне жалко -- больно видеть, как вы
сами себе вредите. Отдайте лучше друзьям долги, а время свое посвятите
подготовке к экзаменам.
Он согласился со мной, попросил прощения, и с тех пор с утра до ночи
прилежно занимался. Я же вела хозяйство и старалась, чтобы он ни в чем не
терпел нужды. И что же? На этот раз труд Би был не напрасен -- на ближайших
экзаменах он прошел в числе первых.
С этого дня он быстро пошел в гору, получая одну почетную должность за
другой. Дом наш с каждым годом становился все богаче, а Би пользовался все
большим уважением. И детки у нас родились хорошие, девочка и мальчик. Верно
говорят -- если уж счастье приходит, то во всем.
Прожили мы так больше десяти лет, как вдруг на Би что-то нашло. Ходит
задумчивый, мрачный, словно околдован. Я его спрашиваю: "Что за горе?" -- он
молчит. Опять спрашиваю -- опять молчит. Наконец, открылся:
-- На последнем весеннем празднике встретил я деву, прекрасную, как
драгоценная яшма. Рассмеялась она -- и словно сердце у меня вынула. Стал
разузнавать, кто такая -- оказалось, дочь судьи Чжоу. Хорошо его знаю,
достойный человек. Пришел я к нему с разговором о дочери, а он ответил, что
о лучшем зяте и не мечтал, но дочь его должна быть только первой женой,
никак не наложницей. А у меня есть уже жена и, значит, это невозможно. Вот я
и хожу, тоскую по красавице. Делать нечего, придется, верно, забыть ее.
И вздохнул так горько, что сердце сжалось. Я ответила:
-- Эх, господин Би Гунь, неужели вы так плохо знаете свою недостойную
супругу? Для меня ведь нет ничего важнее вашего счастья. Да и какая, право,
разница, первой я буду женой или второй? Я же знаю, вы человек достойный, ни
меня, ни моих детей не обидите. Так что засылайте сватов -- я согласна
поменяться местами с вашей драгоценной яшмой.
Радость Би была беспредельна. Похвалив меня, как совершеннейшую из жен,
он тут же побежал готовиться к свадьбе. Вскоре определили день, и красавица
Вторая Чжоу явилась в наш дом в наряде феникса. Посмотрела я на нее: сущее
дитя, только недавно начала делать прическу. И красоты несравненной, а
взгляд кроткий и немного испуганный.
-- Не волнуйтесь, госпожа, -- успокоила я ее, -- это ваш дом, и все
здесь рады служить вам. Во мне вы никогда не найдете соперницу, я рада хоть
немного помочь вашему счастью с Би.
Смотрю -- красавица совсем смутилась, зарделась, словно пион. Тогда я
отвела ее в брачный покой и там оставила, еще раз пожелав счастья.
Вскоре я поняла, что Чжоу в самом деле еще ребенок. Сначала я, как
полагается, передала все дела в ее руки. Но в хозяйстве она ничего не
понимала, да и не пыталась понимать, зато целыми днями веселилась и играла.
Смех у нее был такой звонкий и приятный, что в доме нашем словно потеплело.
А мои дети полюбили ее больше всех и всегда участвовали в ее проказах. Да
вот только через месяц такой жизни дом и владения наши пришли в беспорядок.
То того не хватает, то другого, слуги обнаглели, разжирели, а сколько всего
наворовали -- и не сосчитать. Би делал вид, что ничего не замечает, но ходил
недовольный. Решила я тогда с Чжоу поговорить. Только завела речь о
хозяйстве, как вдруг красавица наша возьми да расплачься:
-- Ох, -- говорит, -- знаю я, что хозяйка из меня никудышная! Вот если
бы вы согласились мне помочь, а еще лучше -- вести все хозяйство сами, как
прежде! Прошу вас!
Ну, это легко было уладить. Успокоила я ее, и с тех пор занималась всем
сама. Ах, как повеселела наша птичка! Теперь ее звонкий смех стал звучать
еще чаще, а я не могла нарадоваться ее счастью.
Чуть погодя я уладила и еще одно дело. Лет мне было уже немало, и
красота моя совсем поблекла. Но первое время Би иногда приходил ко мне по
ночам, больше по привычке и не желая меня обижать. А я подумала: к чему мне
разлучать мужа с его драгоценной яшмой? Была и я когда-то молодой, успела
порадоваться на ложе, а что теперь для меня все эти наслаждения? Стала
закрывать на ночь свою дверь, а если Би приходил -- говорила, что устала.
Ну, он не слишком настаивал -- скоро перестал приходить.
Некоторые начинают меня жалеть, что, вот, мол, муж взял молоденькую, да
еще сделал меня второй женой. Ничего-то они не понимают. Я в своем доме
окружена почетом и любовью, как мало кто из первых жен, а как я называюсь --
разве в том дело?
Студент Би Гунь был сиротой и очень беден. Хотя он отличался умом и
прилежанием, ему не везло на экзаменах. После того, как Би не прошел в
третий раз, он так огорчился, что забросил ученье и начал пить. Каждую ночь
пропадал у приятелей на шумных пирушках. Вскоре и то немногое, что имел,
утопил в винной чаше.
Все вокруг от него отвернулись с презрением. Но я видела, что беды Би
-- лишь временны, и что его ждет большое будущее. Мы жили по соседству, дома
наши разделял лишь маленький садик, и я часто видела, как Би занимается или
гуляет. В то время я уже овдовела, но было мне не больше двадцати с чем-то
лет.
Как-то вечером я прокралась к его дому, заглянула в окно и увидела, что
Би сидит подперев голову рукой и плачет. Так мне его стало жалко, что я
вошла к нему и сказала:
-- Господин Гунь, перестаньте терзаться! Ваша ученость столь велика и
блестяща, что рано или поздно будет оценена по заслугам. Имейте терпенье!
Он смотрел на меня, вытаращив глаза, думая, верно, что я дух или лиса.
Я же представилась, объяснила, кто я такая и продолжала:
-- Есть у меня немного денег, и, чтобы помочь вам, вот что хочу
предложить. Возьмите меня служанкой при совке и метелке, и все, что я имею,
станет вашим. Оба мы свободны, родни у нас нет, так почему бы нам не помочь
друг другу? Мне с вами будет не так одиноко.
Стал он думать, посмотрел на меня -- видит, я не красавица, но и не
урод, выгляжу чисто и прилично. Подумал, подумал и согласился. В тот же день
переехал ко мне, и мы соединились на ложе.
Первое время его тянуло на старое -- на пирушки с друзьями. Хотелось
похвастаться им, что вот, снова у него завелсь деньги. Но я сказала:
-- Господин Гунь, я не для того предложила вам все свое состояние, чтоб
вы его спустили с приятелями. Не денег мне жалко -- больно видеть, как вы
сами себе вредите. Отдайте лучше друзьям долги, а время свое посвятите
подготовке к экзаменам.
Он согласился со мной, попросил прощения, и с тех пор с утра до ночи
прилежно занимался. Я же вела хозяйство и старалась, чтобы он ни в чем не
терпел нужды. И что же? На этот раз труд Би был не напрасен -- на ближайших
экзаменах он прошел в числе первых.
С этого дня он быстро пошел в гору, получая одну почетную должность за
другой. Дом наш с каждым годом становился все богаче, а Би пользовался все
большим уважением. И детки у нас родились хорошие, девочка и мальчик. Верно
говорят -- если уж счастье приходит, то во всем.
Прожили мы так больше десяти лет, как вдруг на Би что-то нашло. Ходит
задумчивый, мрачный, словно околдован. Я его спрашиваю: "Что за горе?" -- он
молчит. Опять спрашиваю -- опять молчит. Наконец, открылся:
-- На последнем весеннем празднике встретил я деву, прекрасную, как
драгоценная яшма. Рассмеялась она -- и словно сердце у меня вынула. Стал
разузнавать, кто такая -- оказалось, дочь судьи Чжоу. Хорошо его знаю,
достойный человек. Пришел я к нему с разговором о дочери, а он ответил, что
о лучшем зяте и не мечтал, но дочь его должна быть только первой женой,
никак не наложницей. А у меня есть уже жена и, значит, это невозможно. Вот я
и хожу, тоскую по красавице. Делать нечего, придется, верно, забыть ее.
И вздохнул так горько, что сердце сжалось. Я ответила:
-- Эх, господин Би Гунь, неужели вы так плохо знаете свою недостойную
супругу? Для меня ведь нет ничего важнее вашего счастья. Да и какая, право,
разница, первой я буду женой или второй? Я же знаю, вы человек достойный, ни
меня, ни моих детей не обидите. Так что засылайте сватов -- я согласна
поменяться местами с вашей драгоценной яшмой.
Радость Би была беспредельна. Похвалив меня, как совершеннейшую из жен,
он тут же побежал готовиться к свадьбе. Вскоре определили день, и красавица
Вторая Чжоу явилась в наш дом в наряде феникса. Посмотрела я на нее: сущее
дитя, только недавно начала делать прическу. И красоты несравненной, а
взгляд кроткий и немного испуганный.
-- Не волнуйтесь, госпожа, -- успокоила я ее, -- это ваш дом, и все
здесь рады служить вам. Во мне вы никогда не найдете соперницу, я рада хоть
немного помочь вашему счастью с Би.
Смотрю -- красавица совсем смутилась, зарделась, словно пион. Тогда я
отвела ее в брачный покой и там оставила, еще раз пожелав счастья.
Вскоре я поняла, что Чжоу в самом деле еще ребенок. Сначала я, как
полагается, передала все дела в ее руки. Но в хозяйстве она ничего не
понимала, да и не пыталась понимать, зато целыми днями веселилась и играла.
Смех у нее был такой звонкий и приятный, что в доме нашем словно потеплело.
А мои дети полюбили ее больше всех и всегда участвовали в ее проказах. Да
вот только через месяц такой жизни дом и владения наши пришли в беспорядок.
То того не хватает, то другого, слуги обнаглели, разжирели, а сколько всего
наворовали -- и не сосчитать. Би делал вид, что ничего не замечает, но ходил
недовольный. Решила я тогда с Чжоу поговорить. Только завела речь о
хозяйстве, как вдруг красавица наша возьми да расплачься:
-- Ох, -- говорит, -- знаю я, что хозяйка из меня никудышная! Вот если
бы вы согласились мне помочь, а еще лучше -- вести все хозяйство сами, как
прежде! Прошу вас!
Ну, это легко было уладить. Успокоила я ее, и с тех пор занималась всем
сама. Ах, как повеселела наша птичка! Теперь ее звонкий смех стал звучать
еще чаще, а я не могла нарадоваться ее счастью.
Чуть погодя я уладила и еще одно дело. Лет мне было уже немало, и
красота моя совсем поблекла. Но первое время Би иногда приходил ко мне по
ночам, больше по привычке и не желая меня обижать. А я подумала: к чему мне
разлучать мужа с его драгоценной яшмой? Была и я когда-то молодой, успела
порадоваться на ложе, а что теперь для меня все эти наслаждения? Стала
закрывать на ночь свою дверь, а если Би приходил -- говорила, что устала.
Ну, он не слишком настаивал -- скоро перестал приходить.
Некоторые начинают меня жалеть, что, вот, мол, муж взял молоденькую, да
еще сделал меня второй женой. Ничего-то они не понимают. Я в своем доме
окружена почетом и любовью, как мало кто из первых жен, а как я называюсь --
разве в том дело?
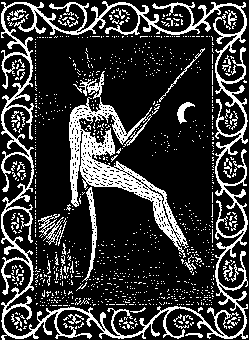 Конечно, вы ненавидите его. Еще бы! Вы -- всего лишь бледные
благовоспитанные тени, копающиеся в позавчерашнем дерьме. Он среди вас --
как взрыв, он разносит все в клочья. И этим он мне нравится больше всего.
Для этого он мне и нужен -- разнести все в клочья.
Вас шокирует и бесит его грубость. Меня она возбуждает. Вот и
прекрасно, что у него грязные руки, и он, конечно, не читал Мильтона. Как я
веселилась когда привела его на это чинное чаепитие! Было так смешно
смотреть на вашу бессильную ярость -- ведь уничтожающие ледяные взгляды и
оскорбительные намеки до него просто не доходили! О, он вел себя как
настоящий варвар! Оглушительно хохотал, пихался локтями, сожрал подчистую
все, что было на столе. Под конец в ваших глазах явственно читался ужас. А я
сидела с самым скромным и невозмутимым видом, помешивала ложечкой чай и
ликовала. Когда, в качестве заключительного аккорда, он чуть не подрался с
папочкой, я почувствовала, что возбуждение разрывает меня на части. Мы
сбежали, но недалеко -- в ближайшую подворотню. Там он с огромным смаком
трахнул меня. Это был лучший день моей жизни.
Мне нравится, что он сильный, грубый зверь. Он даже пахнет зверем.
Мужчина. Неутомимый и жестокий самец. О, это совсем не похоже на ваше
малахольное вошканье под одеялом! Он может трахаться сколько угодно, когда
угодно и где угодно. Я кричу от восторга, когда его грязные руки безжалостно
тискают мое изнеженое тело -- я чувствую, оно оживает. Я ведь тоже из вашей
проклятой породы бледных теней, а он -- сама жизнь. Грубая, грязная,
жестокая -- но настоящая!
Ну уж нет, конечно, я не люблю его! Таких как он вообще нельзя любить.
Он же не прекрасный и галантный рыцарь, поющий под окном серенады, а
омерзительная помесь орангутанга со свиньей. О, я знаю ему цену. Он хорош в
постели (точнее, в подворотне), еще лучше он тем, что приводит вас в
бешенство. Он -- моя огнеопасная игрушка, мой динамит, которым я хотела бы
разнести всех вас и вашу паскудную жизнь. Вдребезги, в клочья!
Но самое ужасное -- во мне течет ваша отравленная кровь. Зараза
гнездится внутри меня. Я смотрю на жизнь вашими мертвыми глазами, и сердце
мое так же оледенело. Я одна из вас и ничего не могу с этим поделать, а все
мои игры -- только игры!
Конечно, вы ненавидите его. Еще бы! Вы -- всего лишь бледные
благовоспитанные тени, копающиеся в позавчерашнем дерьме. Он среди вас --
как взрыв, он разносит все в клочья. И этим он мне нравится больше всего.
Для этого он мне и нужен -- разнести все в клочья.
Вас шокирует и бесит его грубость. Меня она возбуждает. Вот и
прекрасно, что у него грязные руки, и он, конечно, не читал Мильтона. Как я
веселилась когда привела его на это чинное чаепитие! Было так смешно
смотреть на вашу бессильную ярость -- ведь уничтожающие ледяные взгляды и
оскорбительные намеки до него просто не доходили! О, он вел себя как
настоящий варвар! Оглушительно хохотал, пихался локтями, сожрал подчистую
все, что было на столе. Под конец в ваших глазах явственно читался ужас. А я
сидела с самым скромным и невозмутимым видом, помешивала ложечкой чай и
ликовала. Когда, в качестве заключительного аккорда, он чуть не подрался с
папочкой, я почувствовала, что возбуждение разрывает меня на части. Мы
сбежали, но недалеко -- в ближайшую подворотню. Там он с огромным смаком
трахнул меня. Это был лучший день моей жизни.
Мне нравится, что он сильный, грубый зверь. Он даже пахнет зверем.
Мужчина. Неутомимый и жестокий самец. О, это совсем не похоже на ваше
малахольное вошканье под одеялом! Он может трахаться сколько угодно, когда
угодно и где угодно. Я кричу от восторга, когда его грязные руки безжалостно
тискают мое изнеженое тело -- я чувствую, оно оживает. Я ведь тоже из вашей
проклятой породы бледных теней, а он -- сама жизнь. Грубая, грязная,
жестокая -- но настоящая!
Ну уж нет, конечно, я не люблю его! Таких как он вообще нельзя любить.
Он же не прекрасный и галантный рыцарь, поющий под окном серенады, а
омерзительная помесь орангутанга со свиньей. О, я знаю ему цену. Он хорош в
постели (точнее, в подворотне), еще лучше он тем, что приводит вас в
бешенство. Он -- моя огнеопасная игрушка, мой динамит, которым я хотела бы
разнести всех вас и вашу паскудную жизнь. Вдребезги, в клочья!
Но самое ужасное -- во мне течет ваша отравленная кровь. Зараза
гнездится внутри меня. Я смотрю на жизнь вашими мертвыми глазами, и сердце
мое так же оледенело. Я одна из вас и ничего не могу с этим поделать, а все
мои игры -- только игры!
Императорское благочестие
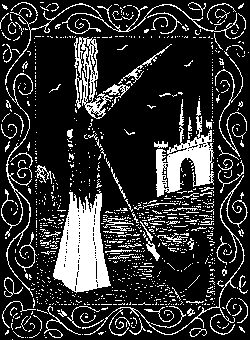 Когда император Василий женил своего сына Льва, все славили и
превозносили до небес его выбор. Феофана была совершенством красоты и
благочестия. А ее нрав, гордый и холодный, быть может, мало подходил жене,
зато был хорош для будущей императрицы.
Сам Лев, однако, не был в восторге от жены. Его раздражала безудержная
набожность Феофаны, а еще больше -- ее холодность, и по своей воле он
никогда бы на ней не женился. Но Василий не терпел, чтобы ему перечили, и
Лев из страха подчинился.
Вскоре после свадьбы оправдались его худшие ожидания. Набожность
Феофаны превосходила все разумные пределы и была совершенно неподабающа для
императрицы. Вся ее жизнь была посвящена Богу, и она не собиралась
отказываться от этого ради мужа. Ночью, едва уходили прислужники и
приближенные, Феофана покидала свое золоченое ложе и шла на соломенный тюфяк
и власяницы, разостланные на холодном полу. Всю ночь она проводила в
молитве, простирая руки к небу, воздавая хвалу Господу и моля о спасении
души. Естественно, об исполнении супружеских обязанностей в такие ночи не
могло быть и речи, а ночей таких становилось все больше и больше.
Императрица вела себя как монахиня, и с надеждой на рождение наследника
можно было проститься.
Вряд ли кого-то удивит, что в скором времени у Льва появилась другая
женщина. Зоя, дочь одного из придворных, выделялась красотой и отличалась
тем, чего недоставало Феофане -- мягкостью и живостью нрава. Но Феофана была
из тех женщин, которые хоть и не ценят мужчину, и мало в нем нуждаются, но
по доброй воле никому его не отдадут. Измена Льва оскорбила ее до глубины
души. Она пожаловалась свекру, хотя и знала, чем это может грозить ее мужу.
Василий славился крутостью нрава. Льва он всегда недолюбливал,
подозревая, что тот родился не от него. Однажды он едва не ослепил сына,
поверив клеветникам, доносившим, что Лев замышляет отцеубийство. И только
отсутствие других наследников удержало его руку. Узнав, как мало сын ценит
выбранную им жену, Василий впал в бешенство. Он вызвал Льва и тут же, не
слушая никаких оправданий и просьб, оттаскал его за волосы, а потом, бросив
наземь, избивал и топтал ногами, пока тот не стал обливаться кровью. Зою же
приказал против воли выдать замуж за первого попавшегося человека.
Так Феофана отстояла свои права на мужа и престол. Но вскоре ее
защитник Василий умер, и Лев стал единовластным господином Византии. Первым
его желанием было избавиться от ненавистной жены. Однако выяснилось, что это
не так просто. Народ был в восторге от Феофаны и ее благочестия, и, отправь
Лев жену в монастырь (где ей и было место с самого начала), мог случиться
бунт. К тому же ее поддерживали могущественные церковные патриархи, да и
повод для развода найти было нелегко. Смирившись и положившись на волю Божию
Лев прожил с нелюбимой женой еще десять лет.
Все кончилось так, как и должно было кончиться. Феофана умерла и
немедленно была причислена к лику святых. Лев вскоре после ее смерти женился
на Зое, которая к тому времени тоже овдовела. Неизвестно, Бог ли склонился к
мольбам Льва, или эти две столь долгожданные смерти произошли по
человеческой воле.
Я помню дни юности мира. Я шла за мужчиной и несла его оружие --
обточеные камни. Гортанным криком я предупредила его, что среди яда зелени
леса скрывается Враг. Если бы Враг победил, он бы взял меня силой,
безжалостно истерзав мое тело, а потом я стала бы рабыней его косоглазых и
скуластых жен. Поэтому я несла камни моего мужчины, который кормил меня
мясом и избивал не чаще раза в неделю. Как чиста была наша первобытная
любовь! С каким восторгом я смотрела, как камень моего мужчины (который я
несла для него!) свистит в воздухе и ударяет Врага прямо в висок! И когда он
рухнул, а его черный дух, стеная, отправился к предкам, мы, смеясь и танцуя,
словно дети, повесили его тело на дереве. Пусть скелет Врага, очищеный от
плоти птицами и омытый дождями, станет памятником нашей любви!
Месть -- это все, что есть в моей жизни. Единственное, что осталось.
Эти псы отняли у меня жизнь, и то, что в ней было. Родину -- я никогда
уж не почувствую на своем лице солнце Валенсии. Близких -- они, верно,
оплакивают меня как умершую и не знают, что судьба моя позорна и страшнее
смерти. Любовь -- стройный юноша с жгучими глазами, где ты? Помнишь ли?..
Хотя нет, лучше не вспоминай... И я не стану -- я все вычеркнула из сердца.
Мне не повезло -- я была молода и хороша собой. У меня была одна дорога
-- в гарем. Многие мои подруги по плену, зная, что их ждет, наложили на себя
руки. "Господь простит нас!" -- говорили мне они, но я верила, что пока есть
жизнь -- есть и надежда. Теперь я понимаю, как они были правы.
В ту ночь, когда эмир Б-ский вошел ко мне, чтоб насладиться моей
юностью и чистотой, я упала ему в ноги, умоляя пощадить и назначить любой
выкуп. Но этот пухленький, жизнерадостный человечек лишь посмеялся надо
мной. "К чему мне деньги?" -- сказал он. -- "Денег у меня и так больше, чем
достаточно. А такие свежие цветы, как ты, встречаются нечасто".
После той ночи позора я впала в беспросветное отчаянье. Не знаю, почему
я не убила себя. Душа моя умирала, и именно в те дни ею завладел демон
мести. Он подчинил себе мою душу и за это дал мне силы выжить. Но то, что
выжило, уже не было мною.
Теперь я была одержима одной мыслью -- месть, месть любой ценой! Ради
мести я стала готова на все -- годами ждать, бесконечно унижаться и
ненавидеть, лгать и пользоваться любой слабостью врага. Вскоре я поняла, что
в этой проклятой Богом и людьми стране для женщины есть лишь один способ
возвыситься -- родить сына. Эти нечестивые язычники ни во что не ставят
своих жен и дочерей, но матери подчиняются беспрекословно. К тому же, мать
сына эмира -- не то, что простая наложница.
Когда я узнала, что беременна, то почувствовала злобное торжество.
Когда родился мальчик, я ликовала. Испытывать к ребенку материнскую любовь я
не могла -- нет, этот плод постыдной, ненавистной любви был для меня всего
лишь орудием мести. Он до смешного походил на отца, что вызывало у эмира
восторг, а у меня отвращение. Но я тщательно скрывала свои истинные чувства
и внешне казалась прекрасной матерью. Говорят, что дети чувствуют, кто их
любит, а кто нет -- так вот, это ложь. По крайней мере, Юсуф очень
привязался ко мне. Видимо, он был слишком глуп. Если б он знал, какие мысли
я храню в глубине сердца, он бежал бы меня, как чумы.
Сердце ребенка легко завоевать -- нужно просто позволять ему абсолютно
все и ругать при нем тех, кто не позволяет. К семи годам Юсуф был невероятно
избалован -- и предан мне душой и телом. Стоило кому-нибудь "обидеть" его,
неважно как и чем, и он бежал ко мне жаловаться. Поэтому, когда эмир начал
воспитывать мальчика по-мужски, Юсуф малейшую строгость воспринимал как
оскорбление и постепенно (при моей помощи) стал ненавидеть отца.
Я питала эту ненависть всеми способами. "Как жаль,-- говорила я сыну,--
что тебе никогда не стать эмиром! А какой прекрасный правитель мог бы из
тебя выйти! Но у эмира есть сыновья от законных жен, и сыну наложницы
никогда не стать его наследником. К тому же, ты сам говоришь, отец не любит
тебя!" Эту отраву я по капле вливала в его уши много лет, и к восемнадцати
годам Юсуф мечтал об одном: убить отца и занять его место.
Когда я увидела, что плод созрел, я позвала Юсуфа и сказала ему: "Сын
мой! Я знаю тайное желание, которое сушит твое сердце. Ведь ты хочешь стать
эмиром, не так ли?" Он вздрогнул, но я поспешила его успокоить: "О, не
бойся, я не выдам твою тайну! Я хочу помочь моему возлюбленному сыну. Твое
желание вполне исполнимо. Эмир скуповат, и многие могущественные люди
считают, что их обошли. Если ты обещаешь им исправить ошибки отца, они
помогут тебе занять его место. Доверься мне, и ты станешь эмиром меньше, чем
через месяц."
Конечно, он проглотил приманку. А так как он за всю жизнь палец о палец
не ударил, он с радостью согласился, когда я сказала, что посею заговор
сама, а его предупрежу в решающий момент, чтобы он пришел и пожал победу. На
самом деле я и не собиралась ничего предпринимать -- не это мне было нужно.
Примерно через месяц я снова позвала его и сказала, что все готово.
"Люди предупреждены и ждут только смерти эмира. А вот это поможет ему
умереть вовремя!" И я дала Юсуфу кольцо, в котором был спрятан яд:
"Действует мгновенно! При первой возможности подсыпь ему в питье!" Это моему
мальчику не понравилось -- он мечтал ворваться во дворец на коне и снести
отцу голову мечом. Ему казалось, что использовать яд недостойно мужчины. Но
я сумела убедить его, что это единственный путь, и он взял кольцо и обещал
все сделать.
Через пару дней пронесся слух, что эмир внезапно тяжко занемог. Яд,
который я дала Юсуфу, причиняет человеку ужасные страдания не меньше недели,
и только потом сводит в могилу. Я не хотела, чтобы ненавистный эмир умер
слишком быстро. Узнав о его болезни, я написала письмо, в котором обвиняла
Юсуфа как отравителя, и позаботилась, чтобы оно попало к эмиру. Вскоре я
услышала, что Юсуфа схватили и повели на пытку. Как я и думала, меньше чем
через час пришли за мной -- мальчишка был слишком изнежен, чтобы молчать под
пыткой.
Когда меня привели в мрачный, полутемный подвал, я увидела бледного,
измученного Юсуфа на дыбе, а рядом -- эмира, который лежал на носилках,
раздувшийся, как бурдюк, и изо всех пор его кожи сочились кровь и гной.
Срывающимся от злости и страха перед смертью голосом эмир начал допрашивать
меня о других участниках заговора.
Я расхохоталась ему в лицо и сказала, что никакого заговора нет, а есть
только глупый мальчишка, орудие моей мести. Юсуф удивленно поднял голову и
вытаращился на меня, не в силах понять, а эмир еще сильнее раздулся и
приказал рассказывать.
Он мог бы и не приказывать! Единственное, чего я хотела -- это
рассказать ему все и сполна насладиться сладостью моей мести. Я напомнила
эмиру, как я валялась у него в ногах, умоляя пощадить мою невинность, и что
он ответил мне. Я рассказала ему о своем отчаяньи и о том, как я решила
отомстить. Шаг за шагом, я раскрыла перед ним весь свой замысел -- воспитать
из его сына убийцу и натравить его на отца. В конце я не забыла добавить,
что от яда, которым Юсуф накормил эмира, нет никакого противоядия.
Когда я закончила, Юсуф рыдал, как баба, а эмир, казалось, вот-вот
потеряет сознание. "Чудовище! -- все, что он смог пробормотать, --
Чудовище!"
Скоро меня казнят. Но это не пугает меня -- месть опустошила мою душу,
и теперь, когда все кончено, я даже хочу умереть. Те двое тоже умрут. Все
справедливо.
Когда император Василий женил своего сына Льва, все славили и
превозносили до небес его выбор. Феофана была совершенством красоты и
благочестия. А ее нрав, гордый и холодный, быть может, мало подходил жене,
зато был хорош для будущей императрицы.
Сам Лев, однако, не был в восторге от жены. Его раздражала безудержная
набожность Феофаны, а еще больше -- ее холодность, и по своей воле он
никогда бы на ней не женился. Но Василий не терпел, чтобы ему перечили, и
Лев из страха подчинился.
Вскоре после свадьбы оправдались его худшие ожидания. Набожность
Феофаны превосходила все разумные пределы и была совершенно неподабающа для
императрицы. Вся ее жизнь была посвящена Богу, и она не собиралась
отказываться от этого ради мужа. Ночью, едва уходили прислужники и
приближенные, Феофана покидала свое золоченое ложе и шла на соломенный тюфяк
и власяницы, разостланные на холодном полу. Всю ночь она проводила в
молитве, простирая руки к небу, воздавая хвалу Господу и моля о спасении
души. Естественно, об исполнении супружеских обязанностей в такие ночи не
могло быть и речи, а ночей таких становилось все больше и больше.
Императрица вела себя как монахиня, и с надеждой на рождение наследника
можно было проститься.
Вряд ли кого-то удивит, что в скором времени у Льва появилась другая
женщина. Зоя, дочь одного из придворных, выделялась красотой и отличалась
тем, чего недоставало Феофане -- мягкостью и живостью нрава. Но Феофана была
из тех женщин, которые хоть и не ценят мужчину, и мало в нем нуждаются, но
по доброй воле никому его не отдадут. Измена Льва оскорбила ее до глубины
души. Она пожаловалась свекру, хотя и знала, чем это может грозить ее мужу.
Василий славился крутостью нрава. Льва он всегда недолюбливал,
подозревая, что тот родился не от него. Однажды он едва не ослепил сына,
поверив клеветникам, доносившим, что Лев замышляет отцеубийство. И только
отсутствие других наследников удержало его руку. Узнав, как мало сын ценит
выбранную им жену, Василий впал в бешенство. Он вызвал Льва и тут же, не
слушая никаких оправданий и просьб, оттаскал его за волосы, а потом, бросив
наземь, избивал и топтал ногами, пока тот не стал обливаться кровью. Зою же
приказал против воли выдать замуж за первого попавшегося человека.
Так Феофана отстояла свои права на мужа и престол. Но вскоре ее
защитник Василий умер, и Лев стал единовластным господином Византии. Первым
его желанием было избавиться от ненавистной жены. Однако выяснилось, что это
не так просто. Народ был в восторге от Феофаны и ее благочестия, и, отправь
Лев жену в монастырь (где ей и было место с самого начала), мог случиться
бунт. К тому же ее поддерживали могущественные церковные патриархи, да и
повод для развода найти было нелегко. Смирившись и положившись на волю Божию
Лев прожил с нелюбимой женой еще десять лет.
Все кончилось так, как и должно было кончиться. Феофана умерла и
немедленно была причислена к лику святых. Лев вскоре после ее смерти женился
на Зое, которая к тому времени тоже овдовела. Неизвестно, Бог ли склонился к
мольбам Льва, или эти две столь долгожданные смерти произошли по
человеческой воле.
Я помню дни юности мира. Я шла за мужчиной и несла его оружие --
обточеные камни. Гортанным криком я предупредила его, что среди яда зелени
леса скрывается Враг. Если бы Враг победил, он бы взял меня силой,
безжалостно истерзав мое тело, а потом я стала бы рабыней его косоглазых и
скуластых жен. Поэтому я несла камни моего мужчины, который кормил меня
мясом и избивал не чаще раза в неделю. Как чиста была наша первобытная
любовь! С каким восторгом я смотрела, как камень моего мужчины (который я
несла для него!) свистит в воздухе и ударяет Врага прямо в висок! И когда он
рухнул, а его черный дух, стеная, отправился к предкам, мы, смеясь и танцуя,
словно дети, повесили его тело на дереве. Пусть скелет Врага, очищеный от
плоти птицами и омытый дождями, станет памятником нашей любви!
Месть -- это все, что есть в моей жизни. Единственное, что осталось.
Эти псы отняли у меня жизнь, и то, что в ней было. Родину -- я никогда
уж не почувствую на своем лице солнце Валенсии. Близких -- они, верно,
оплакивают меня как умершую и не знают, что судьба моя позорна и страшнее
смерти. Любовь -- стройный юноша с жгучими глазами, где ты? Помнишь ли?..
Хотя нет, лучше не вспоминай... И я не стану -- я все вычеркнула из сердца.
Мне не повезло -- я была молода и хороша собой. У меня была одна дорога
-- в гарем. Многие мои подруги по плену, зная, что их ждет, наложили на себя
руки. "Господь простит нас!" -- говорили мне они, но я верила, что пока есть
жизнь -- есть и надежда. Теперь я понимаю, как они были правы.
В ту ночь, когда эмир Б-ский вошел ко мне, чтоб насладиться моей
юностью и чистотой, я упала ему в ноги, умоляя пощадить и назначить любой
выкуп. Но этот пухленький, жизнерадостный человечек лишь посмеялся надо
мной. "К чему мне деньги?" -- сказал он. -- "Денег у меня и так больше, чем
достаточно. А такие свежие цветы, как ты, встречаются нечасто".
После той ночи позора я впала в беспросветное отчаянье. Не знаю, почему
я не убила себя. Душа моя умирала, и именно в те дни ею завладел демон
мести. Он подчинил себе мою душу и за это дал мне силы выжить. Но то, что
выжило, уже не было мною.
Теперь я была одержима одной мыслью -- месть, месть любой ценой! Ради
мести я стала готова на все -- годами ждать, бесконечно унижаться и
ненавидеть, лгать и пользоваться любой слабостью врага. Вскоре я поняла, что
в этой проклятой Богом и людьми стране для женщины есть лишь один способ
возвыситься -- родить сына. Эти нечестивые язычники ни во что не ставят
своих жен и дочерей, но матери подчиняются беспрекословно. К тому же, мать
сына эмира -- не то, что простая наложница.
Когда я узнала, что беременна, то почувствовала злобное торжество.
Когда родился мальчик, я ликовала. Испытывать к ребенку материнскую любовь я
не могла -- нет, этот плод постыдной, ненавистной любви был для меня всего
лишь орудием мести. Он до смешного походил на отца, что вызывало у эмира
восторг, а у меня отвращение. Но я тщательно скрывала свои истинные чувства
и внешне казалась прекрасной матерью. Говорят, что дети чувствуют, кто их
любит, а кто нет -- так вот, это ложь. По крайней мере, Юсуф очень
привязался ко мне. Видимо, он был слишком глуп. Если б он знал, какие мысли
я храню в глубине сердца, он бежал бы меня, как чумы.
Сердце ребенка легко завоевать -- нужно просто позволять ему абсолютно
все и ругать при нем тех, кто не позволяет. К семи годам Юсуф был невероятно
избалован -- и предан мне душой и телом. Стоило кому-нибудь "обидеть" его,
неважно как и чем, и он бежал ко мне жаловаться. Поэтому, когда эмир начал
воспитывать мальчика по-мужски, Юсуф малейшую строгость воспринимал как
оскорбление и постепенно (при моей помощи) стал ненавидеть отца.
Я питала эту ненависть всеми способами. "Как жаль,-- говорила я сыну,--
что тебе никогда не стать эмиром! А какой прекрасный правитель мог бы из
тебя выйти! Но у эмира есть сыновья от законных жен, и сыну наложницы
никогда не стать его наследником. К тому же, ты сам говоришь, отец не любит
тебя!" Эту отраву я по капле вливала в его уши много лет, и к восемнадцати
годам Юсуф мечтал об одном: убить отца и занять его место.
Когда я увидела, что плод созрел, я позвала Юсуфа и сказала ему: "Сын
мой! Я знаю тайное желание, которое сушит твое сердце. Ведь ты хочешь стать
эмиром, не так ли?" Он вздрогнул, но я поспешила его успокоить: "О, не
бойся, я не выдам твою тайну! Я хочу помочь моему возлюбленному сыну. Твое
желание вполне исполнимо. Эмир скуповат, и многие могущественные люди
считают, что их обошли. Если ты обещаешь им исправить ошибки отца, они
помогут тебе занять его место. Доверься мне, и ты станешь эмиром меньше, чем
через месяц."
Конечно, он проглотил приманку. А так как он за всю жизнь палец о палец
не ударил, он с радостью согласился, когда я сказала, что посею заговор
сама, а его предупрежу в решающий момент, чтобы он пришел и пожал победу. На
самом деле я и не собиралась ничего предпринимать -- не это мне было нужно.
Примерно через месяц я снова позвала его и сказала, что все готово.
"Люди предупреждены и ждут только смерти эмира. А вот это поможет ему
умереть вовремя!" И я дала Юсуфу кольцо, в котором был спрятан яд:
"Действует мгновенно! При первой возможности подсыпь ему в питье!" Это моему
мальчику не понравилось -- он мечтал ворваться во дворец на коне и снести
отцу голову мечом. Ему казалось, что использовать яд недостойно мужчины. Но
я сумела убедить его, что это единственный путь, и он взял кольцо и обещал
все сделать.
Через пару дней пронесся слух, что эмир внезапно тяжко занемог. Яд,
который я дала Юсуфу, причиняет человеку ужасные страдания не меньше недели,
и только потом сводит в могилу. Я не хотела, чтобы ненавистный эмир умер
слишком быстро. Узнав о его болезни, я написала письмо, в котором обвиняла
Юсуфа как отравителя, и позаботилась, чтобы оно попало к эмиру. Вскоре я
услышала, что Юсуфа схватили и повели на пытку. Как я и думала, меньше чем
через час пришли за мной -- мальчишка был слишком изнежен, чтобы молчать под
пыткой.
Когда меня привели в мрачный, полутемный подвал, я увидела бледного,
измученного Юсуфа на дыбе, а рядом -- эмира, который лежал на носилках,
раздувшийся, как бурдюк, и изо всех пор его кожи сочились кровь и гной.
Срывающимся от злости и страха перед смертью голосом эмир начал допрашивать
меня о других участниках заговора.
Я расхохоталась ему в лицо и сказала, что никакого заговора нет, а есть
только глупый мальчишка, орудие моей мести. Юсуф удивленно поднял голову и
вытаращился на меня, не в силах понять, а эмир еще сильнее раздулся и
приказал рассказывать.
Он мог бы и не приказывать! Единственное, чего я хотела -- это
рассказать ему все и сполна насладиться сладостью моей мести. Я напомнила
эмиру, как я валялась у него в ногах, умоляя пощадить мою невинность, и что
он ответил мне. Я рассказала ему о своем отчаяньи и о том, как я решила
отомстить. Шаг за шагом, я раскрыла перед ним весь свой замысел -- воспитать
из его сына убийцу и натравить его на отца. В конце я не забыла добавить,
что от яда, которым Юсуф накормил эмира, нет никакого противоядия.
Когда я закончила, Юсуф рыдал, как баба, а эмир, казалось, вот-вот
потеряет сознание. "Чудовище! -- все, что он смог пробормотать, --
Чудовище!"
Скоро меня казнят. Но это не пугает меня -- месть опустошила мою душу,
и теперь, когда все кончено, я даже хочу умереть. Те двое тоже умрут. Все
справедливо.
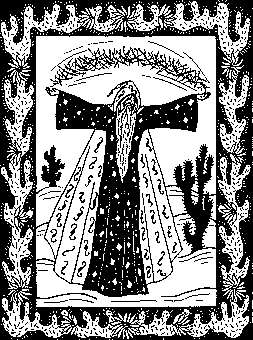 Ты спрашиваешь, отец, почему я оставила монастырь, не приняв постриг,
которого так желала? Мне бы не хотелось говорить об этом. Но если ты
требуешь, чтобы я рассказала -- я подчиняюсь.
Ты знаешь, что с самых юных лет все мои помыслы были обращены только к
Богу. Служить Ему в меру своих скудных сил было моим единственным желанием.
И я благодарна тебе за то, что ты не противился Божьей воле. Когда я приняла
решение удалиться от мира в тихую обитель, ты благословил меня и добился,
чтобы меня взяли на послушание в монастырь Св. Н., один из лучших и
знаменитейших монастырей во всем христианском мире. И вот теперь твоя дочь
возвращается с поникшей головой, не желая и слышать о дальнейшем пребывании
в этой обители. Конечно, ты вправе спросить -- почему?
Когда я приехала туда, мне показалось, что я найду здесь истинный рай
земной. Вокруг монастыря, стоящего на пологом холме, раскинулись цветущие
сады и тучные нивы. Сам монастырь, выстроенный из белоснежного камня,
выглядит прекрасно и строго, как и подобает дому Божьему. Сестры встретили
меня приветливо, и даже сама аббатисса ласково улыбнулась и выразила
надежду, что я окажусь достойна высокого жребия, который меня ожидает.
Келья, в которой меня поместили, была невелика и бедно обставлена, но сияла
чистотой, а на стене висело чудесное серебряное распятие самой тонкой
работы. Оставшись одна, я горячо возблагодарила Господа за все его милости к
недостойной рабе своей.
Несколько дней прошли, словно в чудесном сне, среди тишины и молитв. За
это время я немного сблизилась с сестрой Агнессой, которая была примерно
моих лет. Молодая девушка из хорошей семьи, она выглядела кроткой и
богобоязненной. Меня немного удивило, что она так худа и изможденна, а
вокруг ее ярко-горящих глаз залегли глубокие тени. Еще больше я удивилось,
когда заметила, что и лица многих других сестер несут подобные следы
лишений. Жизнь в монастыре спокойна и нетороплива, еда -- вполне достаточна,
и мне было непонятно, что могло наложить такой отпечаток на лица монахинь.
Любопытство побудило меня спросить об этом сестру Агнессу.
-- О, Вы заметили! -- воскликнула она, и ее худое личико озарилось. --
Это отсвет небесного блаженства, да еще бессонные ночи. Наша плоть, увы,
слабее духа -- близость духовного сжигает ее, словно очистительный огонь. Но
я удивляюсь, как Вы не догадались? Наша патронесса -- Святая Н., и многих из
сестер Господь сподобил идти по ее стопам.
И она рассказала мне, что многие сестры обители имеют чудный дар: по
ночам им являются в видениях святые и великомученики, а аббатиссе -- даже
сам Спаситель. Ей самой, например, является Святой Реми. Он приходит
сияющий, принося благоухание райских садов, и его приближение наполняет ее
нестерпимым блаженством. Когда Агнесса рассказывала все это, ее глаза начали
гореть еще ярче, все ее тоненькое тело тряслось, а на лице появилось
странное, смутно мне знакомое выражение наслаждения пополам с мучением. Она
хотела было рассказать что-то еще, но тут я прервала ее вопросом, неожиданно
пришедшим мне на ум:
-- А Вы уверены, дорогая Агнесса, что эти видения имеют божественное
происхождение? Ведь всем известно, что лукавый может принимать самые
прекрасные и соблазнительные обличья чтобы искушать людей. Я слышала даже,
что Жанне Д'Арк, которую церковный суд признал колдуньей, являлись бесы в
образах Богоматери и архангела Михаила. А вдруг что-то подобное происходит и
с Вами?
О, как она взвилась, с какой горячностью и яростью (вовсе не подобающей
монахине) начала опровергать мои слова! Неужели я думаю, что вся обитель
совращена нечистым? Об этих видениях известно самому папе, благословившему
сестер. И сомневаться, подобно мне -- греховно! Быть может, я и видения
Святой Н. припишу дьяволу?! Агнесса то кричала, яростно размахивая руками,
то вдруг начинала шипеть, словно змея, а во взгляде ее ясно читалась
ненависть. Я же сидела, боясь пошевельнуться, и мне казалось, что еще
немного, и она набросится на меня. И вдруг я вспомнила -- да, вспомнила! --
где я видела это странное выражение, наполовину наслаждение, наполовину
страдание. Ты помнишь, отец, нашу служанку Жюли? Как-то раз, пару лет назад,
я искала ее по всему дому, чтобы послать с поручением, и нигде не могла
найти. Тогда я решила посмотреть, не в своей ли она комнате. Тихонько
постучав, я приоткрыла дверь и остолбенела: Жюли лежала на постели с
каким-то мужчиной! Чем они занимались ты догадаешься сам, и они были так
увлечены этим делом, что даже не заметили моего появления. Я же была так
поражена, что просто приросла к земле, и с полминуты не могла сообразить,
что мне нужно немедленно закрыть дверь и уйти. И вот тогда я и увидела это
непонятное выражение на лице Жюли! Помню, оно-то и поразило меня больше
всего в этой сцене. Наконец, я опомнилась и незаметно ушла, а вскоре под
каким-то предлогом прогнала эту бесстыжую Жюли.
Агнесса продолжала бушевать, а я смотрела на нее и не могла поверить.
Так вот какие видения у монахинь этой обители! И ведь все они из лучших
семей, а слава монастыря Святой Н. гремит на всю Францию! Что же тогда
творится в других монастырях, не таких знаменитых? Страшно даже подумать об
этом. Не может быть и речи о том, чтобы остаться здесь хоть на одну лишнюю
минуту!
Приняв такое решение, я, как могла, успокоила Агнессу и извинилась
перед ней за свои сомнения. Не знаю, поверила она мне или нет, но сделала
вид, что поверила. Приближалось время вечерней трапезы, и мы с ней
расстались. Во время ужина я с огромным трудом заставляла себя сидеть рядом
с сестрами, которые еще вчера казались мне воплощением всех добродетелей.
Ночь я провела без сна, благодаря Господа за то, что он вовремя предостерег
и спас меня.
На следующее утро я, грустная и заплаканная, пришла к аббатиссе и
сказала, что получила известие о болезни своего отца, и мне необходимо
немедленно ехать к нему. Надеюсь, Господь простит мне эту ложь ради
спасения. Аббатисса выслушала меня с пониманием и дала разрешение на отъезд.
Час спустя я уже выезжала за ворота монастыря. Белый монастырь на холме
казался таким же мирным и прекрасным, как недавно, но теперь я знала, что
это лишь видимость, что на самом деле он напоминает прекрасный плод, внутри
которого гнездятся черви. О, я была так счастлива вырваться из этой обители
порока!
И вот я здесь. О, дорогой отец, простишь ли ты меня? Моя мечта о
служении Господу в тихой обители повержена в прах. Я никогда, никогда больше
по своей воле не переступлю порог ни одного монастыря. А что до моего
будущего -- решай сам, отец. У меня нет теперь ни сил, ни права что-либо
требовать от тебя. Я даже думаю, что самое лучшее для меня -- поскорее выйти
замуж.
Ты спрашиваешь, отец, почему я оставила монастырь, не приняв постриг,
которого так желала? Мне бы не хотелось говорить об этом. Но если ты
требуешь, чтобы я рассказала -- я подчиняюсь.
Ты знаешь, что с самых юных лет все мои помыслы были обращены только к
Богу. Служить Ему в меру своих скудных сил было моим единственным желанием.
И я благодарна тебе за то, что ты не противился Божьей воле. Когда я приняла
решение удалиться от мира в тихую обитель, ты благословил меня и добился,
чтобы меня взяли на послушание в монастырь Св. Н., один из лучших и
знаменитейших монастырей во всем христианском мире. И вот теперь твоя дочь
возвращается с поникшей головой, не желая и слышать о дальнейшем пребывании
в этой обители. Конечно, ты вправе спросить -- почему?
Когда я приехала туда, мне показалось, что я найду здесь истинный рай
земной. Вокруг монастыря, стоящего на пологом холме, раскинулись цветущие
сады и тучные нивы. Сам монастырь, выстроенный из белоснежного камня,
выглядит прекрасно и строго, как и подобает дому Божьему. Сестры встретили
меня приветливо, и даже сама аббатисса ласково улыбнулась и выразила
надежду, что я окажусь достойна высокого жребия, который меня ожидает.
Келья, в которой меня поместили, была невелика и бедно обставлена, но сияла
чистотой, а на стене висело чудесное серебряное распятие самой тонкой
работы. Оставшись одна, я горячо возблагодарила Господа за все его милости к
недостойной рабе своей.
Несколько дней прошли, словно в чудесном сне, среди тишины и молитв. За
это время я немного сблизилась с сестрой Агнессой, которая была примерно
моих лет. Молодая девушка из хорошей семьи, она выглядела кроткой и
богобоязненной. Меня немного удивило, что она так худа и изможденна, а
вокруг ее ярко-горящих глаз залегли глубокие тени. Еще больше я удивилось,
когда заметила, что и лица многих других сестер несут подобные следы
лишений. Жизнь в монастыре спокойна и нетороплива, еда -- вполне достаточна,
и мне было непонятно, что могло наложить такой отпечаток на лица монахинь.
Любопытство побудило меня спросить об этом сестру Агнессу.
-- О, Вы заметили! -- воскликнула она, и ее худое личико озарилось. --
Это отсвет небесного блаженства, да еще бессонные ночи. Наша плоть, увы,
слабее духа -- близость духовного сжигает ее, словно очистительный огонь. Но
я удивляюсь, как Вы не догадались? Наша патронесса -- Святая Н., и многих из
сестер Господь сподобил идти по ее стопам.
И она рассказала мне, что многие сестры обители имеют чудный дар: по
ночам им являются в видениях святые и великомученики, а аббатиссе -- даже
сам Спаситель. Ей самой, например, является Святой Реми. Он приходит
сияющий, принося благоухание райских садов, и его приближение наполняет ее
нестерпимым блаженством. Когда Агнесса рассказывала все это, ее глаза начали
гореть еще ярче, все ее тоненькое тело тряслось, а на лице появилось
странное, смутно мне знакомое выражение наслаждения пополам с мучением. Она
хотела было рассказать что-то еще, но тут я прервала ее вопросом, неожиданно
пришедшим мне на ум:
-- А Вы уверены, дорогая Агнесса, что эти видения имеют божественное
происхождение? Ведь всем известно, что лукавый может принимать самые
прекрасные и соблазнительные обличья чтобы искушать людей. Я слышала даже,
что Жанне Д'Арк, которую церковный суд признал колдуньей, являлись бесы в
образах Богоматери и архангела Михаила. А вдруг что-то подобное происходит и
с Вами?
О, как она взвилась, с какой горячностью и яростью (вовсе не подобающей
монахине) начала опровергать мои слова! Неужели я думаю, что вся обитель
совращена нечистым? Об этих видениях известно самому папе, благословившему
сестер. И сомневаться, подобно мне -- греховно! Быть может, я и видения
Святой Н. припишу дьяволу?! Агнесса то кричала, яростно размахивая руками,
то вдруг начинала шипеть, словно змея, а во взгляде ее ясно читалась
ненависть. Я же сидела, боясь пошевельнуться, и мне казалось, что еще
немного, и она набросится на меня. И вдруг я вспомнила -- да, вспомнила! --
где я видела это странное выражение, наполовину наслаждение, наполовину
страдание. Ты помнишь, отец, нашу служанку Жюли? Как-то раз, пару лет назад,
я искала ее по всему дому, чтобы послать с поручением, и нигде не могла
найти. Тогда я решила посмотреть, не в своей ли она комнате. Тихонько
постучав, я приоткрыла дверь и остолбенела: Жюли лежала на постели с
каким-то мужчиной! Чем они занимались ты догадаешься сам, и они были так
увлечены этим делом, что даже не заметили моего появления. Я же была так
поражена, что просто приросла к земле, и с полминуты не могла сообразить,
что мне нужно немедленно закрыть дверь и уйти. И вот тогда я и увидела это
непонятное выражение на лице Жюли! Помню, оно-то и поразило меня больше
всего в этой сцене. Наконец, я опомнилась и незаметно ушла, а вскоре под
каким-то предлогом прогнала эту бесстыжую Жюли.
Агнесса продолжала бушевать, а я смотрела на нее и не могла поверить.
Так вот какие видения у монахинь этой обители! И ведь все они из лучших
семей, а слава монастыря Святой Н. гремит на всю Францию! Что же тогда
творится в других монастырях, не таких знаменитых? Страшно даже подумать об
этом. Не может быть и речи о том, чтобы остаться здесь хоть на одну лишнюю
минуту!
Приняв такое решение, я, как могла, успокоила Агнессу и извинилась
перед ней за свои сомнения. Не знаю, поверила она мне или нет, но сделала
вид, что поверила. Приближалось время вечерней трапезы, и мы с ней
расстались. Во время ужина я с огромным трудом заставляла себя сидеть рядом
с сестрами, которые еще вчера казались мне воплощением всех добродетелей.
Ночь я провела без сна, благодаря Господа за то, что он вовремя предостерег
и спас меня.
На следующее утро я, грустная и заплаканная, пришла к аббатиссе и
сказала, что получила известие о болезни своего отца, и мне необходимо
немедленно ехать к нему. Надеюсь, Господь простит мне эту ложь ради
спасения. Аббатисса выслушала меня с пониманием и дала разрешение на отъезд.
Час спустя я уже выезжала за ворота монастыря. Белый монастырь на холме
казался таким же мирным и прекрасным, как недавно, но теперь я знала, что
это лишь видимость, что на самом деле он напоминает прекрасный плод, внутри
которого гнездятся черви. О, я была так счастлива вырваться из этой обители
порока!
И вот я здесь. О, дорогой отец, простишь ли ты меня? Моя мечта о
служении Господу в тихой обители повержена в прах. Я никогда, никогда больше
по своей воле не переступлю порог ни одного монастыря. А что до моего
будущего -- решай сам, отец. У меня нет теперь ни сил, ни права что-либо
требовать от тебя. Я даже думаю, что самое лучшее для меня -- поскорее выйти
замуж.
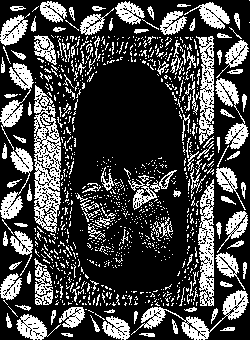 Ох, проповедник, шел бы ты своей дорогой, пока я не взялась за вилы! И
никакая я тебе не сестра! Я вас всяких навидалась: пресвитериан, якобинцев,
ковенантеров, баптистов, квакеров... Были и другие разные: камеронцы,
макмилланиты, русселиты, гамильтонцы, гарлеиты, эрастиане -- всех и не
упомнишь! Ты-то кто из них? Гоуденит? Про таких, слава Богу, пока не
слыхивала.
Нет, не надо мне толковать об истине. Истина в том, что все вы
перегрызлись, как бешеные псы, решая чья вера правильней. И из-за вашей
грызни вся страна теперь истекает кровью, а сосед ненавидит соседа. Вон
недавно Дэйв Сэдлтри чуть не убил Джона Харди и отказался выдать дочь за его
сына -- не сошлись, вишь ты, в богословском вопросе! А у девчонки уже и
приданое было готово. Вы ведь и простых людей, что вам доверились, втянули в
свои дрязги. Будь уверен, на Страшном Суде Господь вам припомнит, как из-за
вашей богословской чепухи лилась кровь.
Нет, спасибо, не надо меня ничему учить -- и так ученая. У меня два
сына погибло из-за таких болтунов. Пришел пуританский проповедник,
доказывал, что их вера самая истинная, плакался на притеснения и гонения.
Мои молодцы ему и поверили. "Мы пойдем, -- говорят, -- мама, отстаивать
истинную веру!" Я тогда глупее была, потому ответила: "Ну, что ж, идите, с
Богом!" А надо было не пускать, хоть по рукам и ногам связать, но не
пускать! Тогда я не осталась бы на старости лет одна, а сыночки мои не
сгинули бы у Босуэл-бриджа.
Хочешь я скажу тебе, где настоящая истина? Я ведь немало пожила на
свете и повидала немало -- что-то да начала понимать, хоть и не ученая.
Истина в том, чтобы жить честно и трудиться на своей земле, а если придут
умники и болтуны -- гнать их взашей! Ну что, сам уйдешь, или сходить за
вилами?
Ох, проповедник, шел бы ты своей дорогой, пока я не взялась за вилы! И
никакая я тебе не сестра! Я вас всяких навидалась: пресвитериан, якобинцев,
ковенантеров, баптистов, квакеров... Были и другие разные: камеронцы,
макмилланиты, русселиты, гамильтонцы, гарлеиты, эрастиане -- всех и не
упомнишь! Ты-то кто из них? Гоуденит? Про таких, слава Богу, пока не
слыхивала.
Нет, не надо мне толковать об истине. Истина в том, что все вы
перегрызлись, как бешеные псы, решая чья вера правильней. И из-за вашей
грызни вся страна теперь истекает кровью, а сосед ненавидит соседа. Вон
недавно Дэйв Сэдлтри чуть не убил Джона Харди и отказался выдать дочь за его
сына -- не сошлись, вишь ты, в богословском вопросе! А у девчонки уже и
приданое было готово. Вы ведь и простых людей, что вам доверились, втянули в
свои дрязги. Будь уверен, на Страшном Суде Господь вам припомнит, как из-за
вашей богословской чепухи лилась кровь.
Нет, спасибо, не надо меня ничему учить -- и так ученая. У меня два
сына погибло из-за таких болтунов. Пришел пуританский проповедник,
доказывал, что их вера самая истинная, плакался на притеснения и гонения.
Мои молодцы ему и поверили. "Мы пойдем, -- говорят, -- мама, отстаивать
истинную веру!" Я тогда глупее была, потому ответила: "Ну, что ж, идите, с
Богом!" А надо было не пускать, хоть по рукам и ногам связать, но не
пускать! Тогда я не осталась бы на старости лет одна, а сыночки мои не
сгинули бы у Босуэл-бриджа.
Хочешь я скажу тебе, где настоящая истина? Я ведь немало пожила на
свете и повидала немало -- что-то да начала понимать, хоть и не ученая.
Истина в том, чтобы жить честно и трудиться на своей земле, а если придут
умники и болтуны -- гнать их взашей! Ну что, сам уйдешь, или сходить за
вилами?
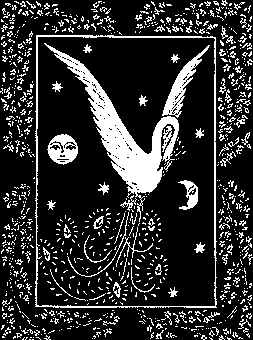 Угрюмая крепость Тордесильяс, принадлежащая испанской короне. По
мрачной комнате, освещенной лишь несколькими тусклыми факелами, мечется
странный призрак. Бледная, увядшая старая женщина, глаза полны тоски и боли.
Ее седые волосы давно не чесаны, черное платье обтрепалось. Ломая руки, она
кругами бродит по комнате и безостановочно что-то бормочет.
"Да, это я -- королева Испании, я, я! Карл не может быть королем, он
всего лишь принц, а истинная королева -- я, и только я! Они все боялись меня
-- Фердинанд, Филипп и Карл -- боялись и не любили -- почему, за что? Ну да,
они сами хотели править Испанией, а от меня избавились, предали. Фердинанд,
Филипп и Карл -- отец, муж и сын -- все они виновны в предательстве. А я их
так любила!
Говорят, я безумна. Это ложь! По крайней мере, было ложью, когда меня
здесь заточили. Сейчас, наверно, это стало правдой. Но кто бы смог провести
в заключении сорок лет, бесконечные сорок лет, и не повредиться умом? Если я
и сошла с ума, то по их вине.
Первый -- Филипп, мой муж, эрцгерцог Бургундский, белокурый молодой
красавец. Он всегда был первым в моем сердце, и он же первый предал меня.
Меня выдали за него шестнадцатилетней девчонкой, и я была влюблена без
памяти. Увы! У красавца Филиппа был один недостаток -- у него не было
сердца. Смыслом его жизни были хорошенькие женщины. Поэтому вскоре после
нашей свадьбы он оставил меня в Испании, а сам уехал во Фландрию, где
окружил себя целым сонмом прелестниц. А в это время я страдала, тосковала по
нему, не могла ни спать, ни есть. Когда же, наконец, я смогла приехать к
нему, он и не подумал изменить свое поведение. Его фаворитки постоянно
мозолили мне глаза. Они думали, испанская принцесса станет терпеть такое!
Однажды я заметила, как одна из этих девок прячет за корсаж записочку от
моего мужа. Я попыталась отнять ее, но нахалка оказалась проворнее --
выхватила записку из моих рук и проглотила. Не помня себя от ярости и
унижения, я схватила ножницы и принялась кромсать ее локоны. Эта гадина
осмелилась защищаться -- тогда я пырнула ее прямо в бесстыжее лицо! Потом я
приказала обрить ее наголо, чтоб другим было неповадно. Филипп был разъярен.
Он и не подумал посочувствовать мне, наоборот! Сраженная его жестокостью, я
слегла в постель с горячкой. Тогда и поползли первые подлые слухи о том, что
я лишилась рассудка. Теперь-то я понимаю, что распускал их сам Филипп...
Вскоре после этого умерла моя мать Изабелла, завещав мне, своей
единственной наследнице, корону Кастилии. Тут на сцене появился второй --
мой отец, Фердинанд Арагонский. Невозможно передать словами все те уважение
и любовь, которые я к нему испытывала. Но для него испанская корона была
дороже человеческих чувств. В завещании моей матери был пункт, по которому
власть переходила к Фердинанду, если я "окажусь неспособна править" -- им-то
он и воспользовался. Объявив, что я слишком слаба здоровьем и повреждена
умом, чтобы быть королевой, он собрался занять мое место. Но тут Филипп
вспомнил, что он мой муж и тоже имеет права на корону. Он был не против
того, что я сумасшедшая, но выводы сделал совсем другие. Король Кастилии --
по праву он, Филипп. И два бесчестных властолюбца сцепились насмерть.
Два года они не могли решить, кто же из них король. Я, настоящая
королева, была для них пустым местом. Все это так ранило меня, что я
совершенно растерялась и не знала, что и предпринять. Поддержать отца? Или
мужа? Но ведь ни один из них не поддерживал меня! Бороться самой за власть?
Против отца и мужа? Не знаю, можно ли было тут что-то решить. Я не смогла.
Вся эта безобразная история могла длиться еще много лет, если б судьба
не пошла навстречу Фердинанду. Неожиданно Филипп заболел оспой и умер. Я
продолжала любить мужа, несмотря ни на что, и его смерть сразила меня. Не
успела я похоронить супруга, как мой отец прибыл ко мне. О, не для того,
чтобы меня утешить. Воспользовавшись моим горем и растерянностью, он обманом
завлек меня в крепость Тордесильяс, где и оставил пленницей. Господи, помоги
мне...
Когда я поняла, какое страшное предательство совершил мой отец,
отчаянье мое не имело границ. Я перестала есть, спать, следить за своей
внешностью. Мои враги использовали все это как лишнее доказательство моего
безумия. Что бы я ни сказала, что бы я ни сделала -- все истолковывалось
так, и только так.
Бог покарал Фердинанда, лишив его наследников, и ему пришлось оставить
королевство моему сыну, Карлу. Кому угодно, лишь бы не мне!
Муж и отец отплатили за мою любовь черным предательством. Теперь настал
черед предательства сына. Карл, заполучивший трон, не собирался
восстанавливать мои права. Не собирался он и освобождать меня из заточения.
За все эти бесконечные годы он всего лишь раз удосужился навестить меня. Я
никогда не забуду его взгляд, полный отвращения и презрения. Да, я отощала и
подурнела от беспрерывных душевных мук, и платье на мне было старое, но я
была его мать! Кто бы мог предугадать такую черствость в том милом мальчике,
каким я его помнила...
Быть может, Карл освободил бы меня, если б я отказалась от своих прав
на корону. Но я повторяла, повторяю и буду повторять до самой смерти:
королева Испании -- я! Пусть я сошла с ума, но им не удалось сломить меня.
Фердинанд, Филипп и Карл. Три проклятых имени, три гнусных предателя.
Отец, муж и сын. Господи, позволено ли мне призывать проклятие на их
головы?!"
Весна, вечерний воздух нежен, как прикосновение материнской руки.
Пахнет медом. Цветы соревнуются друг с другом в красе и пышности. Весь мир
кажется живым и теплым. В такие дни люди вспоминают о богах не ради
исполнения своих просьб, а просто из благодарности.
Маленький белый храм стоит на вершине холма. Кажется, он был здесь
всегда -- так совершенно гармонируют его формы с природой. Стройный ряд
колонн с ионическими рожками -- издалека их вертикальный рисунок похож на
складки девичьего хитона. Легкий, словно облачко, портик. Простота и
изящество храма Афродиты Урании поражают каждого.
Внутри храм еще меньше, чем казался снаружи. Он пуст: прекрасные жрицы
веселой стайкой отправились собирать цветы для завтрашнего праздника. В
центре храма -- алтарь богини, заполненный подношениями: цветочными венками,
клетками с белыми голубями, амфорами с вином. За алтарем, на небольшом
возвышении, установлена статуя Афродиты. Богиня, изваянная в человеческий
рост из теплого, розоватого мрамора, полна жизни. Ее руки простерты вперед,
словно она желает обнять любимого, взгляд нежен и радостен. Красота
обнаженной богини совершенна, и была бы невыносима, как невыносимо для
смертных все слишком прекрасное, если бы не мягкое выражение ее лица и
легкость позы. Нежная и любящая, Афродита пробуждает восхищение и любовь.
Раздаются негромкие шаги, и в храм входит молодая женщина. Судя по
виду, это простая крестьянка. Красивой ее не назовешь -- грубоватое лицо
обветренно и покрыто кирпично-красным загаром, тело невольно заставляет
вспомнить ломовую лошадь. Серая домотканная одежда кажется неуместной среди
драгоценного мрамора и росписей. В руках она сжимает свой скромный дар
богине -- веночек из лесных цветов. Она озирается, пораженная и испуганная
окружающим ее великолепием, затем делает несколько несмелых шагов к алтарю.
И встречается взглядом с богиней.
Прекрасная Афродита рада встрече с темной, некрасивой женщиной точно
так же, как была бы рада принять в своем храме царицу Елену. Крестьянка
замирает, ее грудь трепещет, глаза прикованы к чудесной статуе. Несколько
минут она стоит недвижно, не в силах опомниться и перевести дыхание. Она
поражена красотой в самое сердце. Наконец, она тихо вздыхает, и на ее лице
смешиваются изумление, восторг и восхищение. В невольном порыве она
простирает к богине руки, скромный венок падает на мраморный пол.
В этот миг некрасивая женщина преображается. Ее лицо, одухотворенное и
восторженное, становится прекрасным. Распрямившееся тело страстным движеньем
устремлено вперед, его линии стали стройны и чисты. Исчез груз тяжелых
трудов и унижений, пригибавший ее к земле. Она словно омылась в купели с
живой водой, смыв все земное.
Две Афродиты приветствуют друг друга.
Угрюмая крепость Тордесильяс, принадлежащая испанской короне. По
мрачной комнате, освещенной лишь несколькими тусклыми факелами, мечется
странный призрак. Бледная, увядшая старая женщина, глаза полны тоски и боли.
Ее седые волосы давно не чесаны, черное платье обтрепалось. Ломая руки, она
кругами бродит по комнате и безостановочно что-то бормочет.
"Да, это я -- королева Испании, я, я! Карл не может быть королем, он
всего лишь принц, а истинная королева -- я, и только я! Они все боялись меня
-- Фердинанд, Филипп и Карл -- боялись и не любили -- почему, за что? Ну да,
они сами хотели править Испанией, а от меня избавились, предали. Фердинанд,
Филипп и Карл -- отец, муж и сын -- все они виновны в предательстве. А я их
так любила!
Говорят, я безумна. Это ложь! По крайней мере, было ложью, когда меня
здесь заточили. Сейчас, наверно, это стало правдой. Но кто бы смог провести
в заключении сорок лет, бесконечные сорок лет, и не повредиться умом? Если я
и сошла с ума, то по их вине.
Первый -- Филипп, мой муж, эрцгерцог Бургундский, белокурый молодой
красавец. Он всегда был первым в моем сердце, и он же первый предал меня.
Меня выдали за него шестнадцатилетней девчонкой, и я была влюблена без
памяти. Увы! У красавца Филиппа был один недостаток -- у него не было
сердца. Смыслом его жизни были хорошенькие женщины. Поэтому вскоре после
нашей свадьбы он оставил меня в Испании, а сам уехал во Фландрию, где
окружил себя целым сонмом прелестниц. А в это время я страдала, тосковала по
нему, не могла ни спать, ни есть. Когда же, наконец, я смогла приехать к
нему, он и не подумал изменить свое поведение. Его фаворитки постоянно
мозолили мне глаза. Они думали, испанская принцесса станет терпеть такое!
Однажды я заметила, как одна из этих девок прячет за корсаж записочку от
моего мужа. Я попыталась отнять ее, но нахалка оказалась проворнее --
выхватила записку из моих рук и проглотила. Не помня себя от ярости и
унижения, я схватила ножницы и принялась кромсать ее локоны. Эта гадина
осмелилась защищаться -- тогда я пырнула ее прямо в бесстыжее лицо! Потом я
приказала обрить ее наголо, чтоб другим было неповадно. Филипп был разъярен.
Он и не подумал посочувствовать мне, наоборот! Сраженная его жестокостью, я
слегла в постель с горячкой. Тогда и поползли первые подлые слухи о том, что
я лишилась рассудка. Теперь-то я понимаю, что распускал их сам Филипп...
Вскоре после этого умерла моя мать Изабелла, завещав мне, своей
единственной наследнице, корону Кастилии. Тут на сцене появился второй --
мой отец, Фердинанд Арагонский. Невозможно передать словами все те уважение
и любовь, которые я к нему испытывала. Но для него испанская корона была
дороже человеческих чувств. В завещании моей матери был пункт, по которому
власть переходила к Фердинанду, если я "окажусь неспособна править" -- им-то
он и воспользовался. Объявив, что я слишком слаба здоровьем и повреждена
умом, чтобы быть королевой, он собрался занять мое место. Но тут Филипп
вспомнил, что он мой муж и тоже имеет права на корону. Он был не против
того, что я сумасшедшая, но выводы сделал совсем другие. Король Кастилии --
по праву он, Филипп. И два бесчестных властолюбца сцепились насмерть.
Два года они не могли решить, кто же из них король. Я, настоящая
королева, была для них пустым местом. Все это так ранило меня, что я
совершенно растерялась и не знала, что и предпринять. Поддержать отца? Или
мужа? Но ведь ни один из них не поддерживал меня! Бороться самой за власть?
Против отца и мужа? Не знаю, можно ли было тут что-то решить. Я не смогла.
Вся эта безобразная история могла длиться еще много лет, если б судьба
не пошла навстречу Фердинанду. Неожиданно Филипп заболел оспой и умер. Я
продолжала любить мужа, несмотря ни на что, и его смерть сразила меня. Не
успела я похоронить супруга, как мой отец прибыл ко мне. О, не для того,
чтобы меня утешить. Воспользовавшись моим горем и растерянностью, он обманом
завлек меня в крепость Тордесильяс, где и оставил пленницей. Господи, помоги
мне...
Когда я поняла, какое страшное предательство совершил мой отец,
отчаянье мое не имело границ. Я перестала есть, спать, следить за своей
внешностью. Мои враги использовали все это как лишнее доказательство моего
безумия. Что бы я ни сказала, что бы я ни сделала -- все истолковывалось
так, и только так.
Бог покарал Фердинанда, лишив его наследников, и ему пришлось оставить
королевство моему сыну, Карлу. Кому угодно, лишь бы не мне!
Муж и отец отплатили за мою любовь черным предательством. Теперь настал
черед предательства сына. Карл, заполучивший трон, не собирался
восстанавливать мои права. Не собирался он и освобождать меня из заточения.
За все эти бесконечные годы он всего лишь раз удосужился навестить меня. Я
никогда не забуду его взгляд, полный отвращения и презрения. Да, я отощала и
подурнела от беспрерывных душевных мук, и платье на мне было старое, но я
была его мать! Кто бы мог предугадать такую черствость в том милом мальчике,
каким я его помнила...
Быть может, Карл освободил бы меня, если б я отказалась от своих прав
на корону. Но я повторяла, повторяю и буду повторять до самой смерти:
королева Испании -- я! Пусть я сошла с ума, но им не удалось сломить меня.
Фердинанд, Филипп и Карл. Три проклятых имени, три гнусных предателя.
Отец, муж и сын. Господи, позволено ли мне призывать проклятие на их
головы?!"
Весна, вечерний воздух нежен, как прикосновение материнской руки.
Пахнет медом. Цветы соревнуются друг с другом в красе и пышности. Весь мир
кажется живым и теплым. В такие дни люди вспоминают о богах не ради
исполнения своих просьб, а просто из благодарности.
Маленький белый храм стоит на вершине холма. Кажется, он был здесь
всегда -- так совершенно гармонируют его формы с природой. Стройный ряд
колонн с ионическими рожками -- издалека их вертикальный рисунок похож на
складки девичьего хитона. Легкий, словно облачко, портик. Простота и
изящество храма Афродиты Урании поражают каждого.
Внутри храм еще меньше, чем казался снаружи. Он пуст: прекрасные жрицы
веселой стайкой отправились собирать цветы для завтрашнего праздника. В
центре храма -- алтарь богини, заполненный подношениями: цветочными венками,
клетками с белыми голубями, амфорами с вином. За алтарем, на небольшом
возвышении, установлена статуя Афродиты. Богиня, изваянная в человеческий
рост из теплого, розоватого мрамора, полна жизни. Ее руки простерты вперед,
словно она желает обнять любимого, взгляд нежен и радостен. Красота
обнаженной богини совершенна, и была бы невыносима, как невыносимо для
смертных все слишком прекрасное, если бы не мягкое выражение ее лица и
легкость позы. Нежная и любящая, Афродита пробуждает восхищение и любовь.
Раздаются негромкие шаги, и в храм входит молодая женщина. Судя по
виду, это простая крестьянка. Красивой ее не назовешь -- грубоватое лицо
обветренно и покрыто кирпично-красным загаром, тело невольно заставляет
вспомнить ломовую лошадь. Серая домотканная одежда кажется неуместной среди
драгоценного мрамора и росписей. В руках она сжимает свой скромный дар
богине -- веночек из лесных цветов. Она озирается, пораженная и испуганная
окружающим ее великолепием, затем делает несколько несмелых шагов к алтарю.
И встречается взглядом с богиней.
Прекрасная Афродита рада встрече с темной, некрасивой женщиной точно
так же, как была бы рада принять в своем храме царицу Елену. Крестьянка
замирает, ее грудь трепещет, глаза прикованы к чудесной статуе. Несколько
минут она стоит недвижно, не в силах опомниться и перевести дыхание. Она
поражена красотой в самое сердце. Наконец, она тихо вздыхает, и на ее лице
смешиваются изумление, восторг и восхищение. В невольном порыве она
простирает к богине руки, скромный венок падает на мраморный пол.
В этот миг некрасивая женщина преображается. Ее лицо, одухотворенное и
восторженное, становится прекрасным. Распрямившееся тело страстным движеньем
устремлено вперед, его линии стали стройны и чисты. Исчез груз тяжелых
трудов и унижений, пригибавший ее к земле. Она словно омылась в купели с
живой водой, смыв все земное.
Две Афродиты приветствуют друг друга.
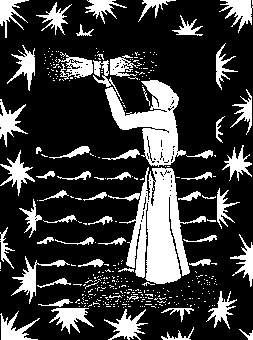 "Что, епископ, ты так смотришь на меня? Ну да, я -- ведьма. Мало, что
ли, ты их видел? Ведь ты, говорят, жег их целыми тысячами. И все равно, хоть
вид у тебя презрительный, я вижу, что ты боишься меня.
Почему должна я стыдиться своего господина? Да, Сатана -- это зло, но
что поделать, не всем же быть добрыми. Добро нуждается во зле, иначе с чем
бы оно боролось? Вот ты, епископ, думаешь, что воюешь на стороне добра, а
что бы ты делал без таких, как я?
Нет, я не пустое болтаю, дай мне договорить, а уж потом допрашивай
сколько влезет. Ты никогда не замечал, что в этом мире добро очень часто
смахивает на зло, а зло на добро? Порой и не поймешь, где что. Вот я,
например, хоть и ведьма, а причиняла очень мало зла. Все больше лечила людей
да скотину, ну, иногда давала женщинам приворотное зелье. А ты, епископ,
ради добра погубил тысячи людей, из которых -- уж поверь мне -- половина
были невинны. Я все сказала.
Да, я буду отвечать правду, потому что раз уж вы до меня добрались --
никакая ложь не поможет. Я вижу, у тебя в руках список обвинений: просто
поставь "да" возле каждого, и мы сбережем много времени. Отправь меня на
костер поскорее -- в вашей тюрьме уж больно скверный воздух. Нет, я не хочу
оправдываться -- ведь это бесполезно, и ты знаешь это не хуже меня. Считай,
что я во всем призналась, но ни в чем не раскаялась.
Я нарушаю судебный порядок? Да нет, я просто хочу разделаться со всем
этим побыстрее. И не грози мне пытками -- у меня слабое сердце. Палач только
начнет меня пытать, и все, я мертва. Повезло мне, правда? Не веришь --
проверь.
Да что ты так сердишься? Ну хорошо, я бывала на шабашах. Да, я
поклонялась Вельзевулу. Да, и в зад его целовала. И с демонами
совокуплялась. Как я это делала? Ого! Да ты, я смотрю, забавник! Тебе как
рассказать -- со всеми подробностями? Так вот, елдак у демонов -- громадный,
и как он воткнет его -- аж глаза на лоб выскакивают. А потом он его
туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда... Эй, не надо меня пытать, я же говорю все
как есть!
А вот имена я тебе называть не стану. Не хватало еще возводить на людей
напраслину. Или давай так: вот те, кто обвинил меня в колдовстве, меня в
него и вовлекли! А еще наш деревенский староста, управляющий и трактирщик --
это такие скоты, что им сюда попасть в самый раз!
Ну что ж, зови палача, зови... Очень занятно было поболтать с тобой,
епископ."
Епископ дал знак палачу и отвернулся.
Донеслось несколько истошных воплей, потом все смолкло. К епископу
подошел смущенный палач:
-- Она правду говорила. Только мы начали, а она возьми да испусти дух.
Епископ отпустил его и сказал своему секретарю, сокрушенно покачивая
головой:
-- Подумать только, какая закоснелость во грехе! Ну ладно, ведите
следующую.
Ничего нет лучше, чем лежать здесь, в теньке, и смотреть, как работают
молодые. Я тоже немало работала, когда была молодая. Сейчас я стала слишком
стара, жирна и ленива, к тому же у меня немало дочерей и невесток -- вот
пусть они и занимаются домашними делами. Я лучше полежу, пожую что-нибудь
вкусненькое, понаблюдаю за тем, как они трудятся.
Иногда они принимаются дразнить меня. "Туша, жирная туша!" -- кричат
мне проказливые девчонки и хохочут. Я смеюсь вместе с ними -- да уж, туша из
меня что надо. Я знаю, они не хотят обидеть меня -- они меня любят, ведь я
никогда не придираюсь к ним, не вмешиваюсь с дурацкими советами как и что
надо делать. Молодые любят делать все по своему, и старые туши, вроде меня,
не должны приставать. По правде говоря, мне совершенно все равно, что они
там делают, и правильно ли. Мне куда важнее мой покой. Я всем довольна, пока
они не мешают мне нежиться в тени пальмы и бездельничать.
Внучка принесла мне вкусной жареной свинины. Спасибо, детка, и скажи
спасибо маме. Да, я обязательно расскажу вечером, что было дальше с
озорником Мауи. А теперь беги, поиграй.
Никого не раздражает, что я ленива -- вокруг столько работы, что всю не
переделаешь, а на меня приятно смотреть, так я довольна жизнью и сама собой.
Невестки не жалеют для меня лучших кусков. Пальму, под которой я лежу с утра
до вечера, все так и называют -- "тетушкина пальма". Порой, когда собираются
делать что-то важное, ко мне приходят за советом, но больше из вежливости --
я редко вмешиваюсь во что бы то ни было. Зато каждый вечер возле меня
собираются ребятишки со всей деревни -- рассказывать сказки мне никогда не
лень.
Иногда с моря начинает дуть легкий ветерок, принося запах соли и
водорослей. Моя пальма шепчет что-то на своем языке, ей вторят другие. Я
знаю, о чем они шепчутся. Голоса птиц, гомонящих неподалеку, мне тоже
понятны. Когда человек целыми днями бездельничает, у него появляется время
понимать вещи, на которые он раньше не обращал внимания. Ласковое солнце,
ветерок, шорох листвы, даже эти смешливые девчонки -- все добры ко мне, все
меня любят. И я им благодарна.
"Что, епископ, ты так смотришь на меня? Ну да, я -- ведьма. Мало, что
ли, ты их видел? Ведь ты, говорят, жег их целыми тысячами. И все равно, хоть
вид у тебя презрительный, я вижу, что ты боишься меня.
Почему должна я стыдиться своего господина? Да, Сатана -- это зло, но
что поделать, не всем же быть добрыми. Добро нуждается во зле, иначе с чем
бы оно боролось? Вот ты, епископ, думаешь, что воюешь на стороне добра, а
что бы ты делал без таких, как я?
Нет, я не пустое болтаю, дай мне договорить, а уж потом допрашивай
сколько влезет. Ты никогда не замечал, что в этом мире добро очень часто
смахивает на зло, а зло на добро? Порой и не поймешь, где что. Вот я,
например, хоть и ведьма, а причиняла очень мало зла. Все больше лечила людей
да скотину, ну, иногда давала женщинам приворотное зелье. А ты, епископ,
ради добра погубил тысячи людей, из которых -- уж поверь мне -- половина
были невинны. Я все сказала.
Да, я буду отвечать правду, потому что раз уж вы до меня добрались --
никакая ложь не поможет. Я вижу, у тебя в руках список обвинений: просто
поставь "да" возле каждого, и мы сбережем много времени. Отправь меня на
костер поскорее -- в вашей тюрьме уж больно скверный воздух. Нет, я не хочу
оправдываться -- ведь это бесполезно, и ты знаешь это не хуже меня. Считай,
что я во всем призналась, но ни в чем не раскаялась.
Я нарушаю судебный порядок? Да нет, я просто хочу разделаться со всем
этим побыстрее. И не грози мне пытками -- у меня слабое сердце. Палач только
начнет меня пытать, и все, я мертва. Повезло мне, правда? Не веришь --
проверь.
Да что ты так сердишься? Ну хорошо, я бывала на шабашах. Да, я
поклонялась Вельзевулу. Да, и в зад его целовала. И с демонами
совокуплялась. Как я это делала? Ого! Да ты, я смотрю, забавник! Тебе как
рассказать -- со всеми подробностями? Так вот, елдак у демонов -- громадный,
и как он воткнет его -- аж глаза на лоб выскакивают. А потом он его
туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда... Эй, не надо меня пытать, я же говорю все
как есть!
А вот имена я тебе называть не стану. Не хватало еще возводить на людей
напраслину. Или давай так: вот те, кто обвинил меня в колдовстве, меня в
него и вовлекли! А еще наш деревенский староста, управляющий и трактирщик --
это такие скоты, что им сюда попасть в самый раз!
Ну что ж, зови палача, зови... Очень занятно было поболтать с тобой,
епископ."
Епископ дал знак палачу и отвернулся.
Донеслось несколько истошных воплей, потом все смолкло. К епископу
подошел смущенный палач:
-- Она правду говорила. Только мы начали, а она возьми да испусти дух.
Епископ отпустил его и сказал своему секретарю, сокрушенно покачивая
головой:
-- Подумать только, какая закоснелость во грехе! Ну ладно, ведите
следующую.
Ничего нет лучше, чем лежать здесь, в теньке, и смотреть, как работают
молодые. Я тоже немало работала, когда была молодая. Сейчас я стала слишком
стара, жирна и ленива, к тому же у меня немало дочерей и невесток -- вот
пусть они и занимаются домашними делами. Я лучше полежу, пожую что-нибудь
вкусненькое, понаблюдаю за тем, как они трудятся.
Иногда они принимаются дразнить меня. "Туша, жирная туша!" -- кричат
мне проказливые девчонки и хохочут. Я смеюсь вместе с ними -- да уж, туша из
меня что надо. Я знаю, они не хотят обидеть меня -- они меня любят, ведь я
никогда не придираюсь к ним, не вмешиваюсь с дурацкими советами как и что
надо делать. Молодые любят делать все по своему, и старые туши, вроде меня,
не должны приставать. По правде говоря, мне совершенно все равно, что они
там делают, и правильно ли. Мне куда важнее мой покой. Я всем довольна, пока
они не мешают мне нежиться в тени пальмы и бездельничать.
Внучка принесла мне вкусной жареной свинины. Спасибо, детка, и скажи
спасибо маме. Да, я обязательно расскажу вечером, что было дальше с
озорником Мауи. А теперь беги, поиграй.
Никого не раздражает, что я ленива -- вокруг столько работы, что всю не
переделаешь, а на меня приятно смотреть, так я довольна жизнью и сама собой.
Невестки не жалеют для меня лучших кусков. Пальму, под которой я лежу с утра
до вечера, все так и называют -- "тетушкина пальма". Порой, когда собираются
делать что-то важное, ко мне приходят за советом, но больше из вежливости --
я редко вмешиваюсь во что бы то ни было. Зато каждый вечер возле меня
собираются ребятишки со всей деревни -- рассказывать сказки мне никогда не
лень.
Иногда с моря начинает дуть легкий ветерок, принося запах соли и
водорослей. Моя пальма шепчет что-то на своем языке, ей вторят другие. Я
знаю, о чем они шепчутся. Голоса птиц, гомонящих неподалеку, мне тоже
понятны. Когда человек целыми днями бездельничает, у него появляется время
понимать вещи, на которые он раньше не обращал внимания. Ласковое солнце,
ветерок, шорох листвы, даже эти смешливые девчонки -- все добры ко мне, все
меня любят. И я им благодарна.
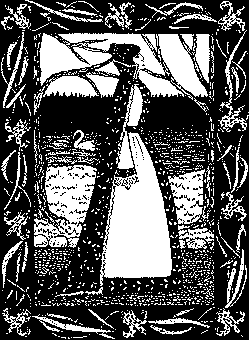 Вчера они убили мою дочь. Мне говорят, что память ее благословенна, что
она -- драгоценный нефрит, принесенный в жертву великому Юм-Кашу. Я стара и
не понимаю красивых слов. Я знаю одно: моей дочери нет больше со мной. Но
она ушла от меня не тогда, когда умерла.
Мои старые глаза уже давно разучились плакать. Немало горя повидала я
на своем веку. Те мои дети, что не умерли во младенчестве, погибли в
бесконечных войнах. Она одна осталась, чтобы согревать мои дни. Она была
задумчива и кротка, глаза ее сияли, как теплые звезды. Ей уже исполнилось
шестнадцать лет.
Мы славно жили вдвоем в нашем маленьком домике. Мы были небогаты, но
нужды не терпели. Единственное, что меня порой беспокоило -- то, как она
смотрела иногда, словно в никуда. Я чувствовала, что она мечтает о чем-то,
но не могла понять -- о чем. О замужестве она не хотела и слышать.
А потом пришла эта засуха. Маис засох, едва успев прорасти. Его
посадили во второй раз, но он даже не проклюнулся. Земля растрескалась, в
воздухе постоянно стояла пыль. Жрецы испробовали все способы умилостивить
Юм-Каша, Владыку Дождей, но дождь так и не пошел. Вначале они бросали в его
колодец золото, потом -- бесценный нефрит, а когда и это не помогло --
объявили, что Владыка Дождей требует себе невесту. Пока в колодец не бросят
девушку, чтобы она стала его женой, дождя не будет.
Жрецы испросили три дня на то, чтобы выбрать невесту Юм-Кашу согласно
обычаю. Ею могла стать любая девушка. Людьми овладело тоскливое, испуганное
ожидание. Те, у кого были молодые дочери, боялись даже думать о возможном
выборе. Я сама, узнав обо всем, поспешила домой и рассказала новости своей
девочке. Меня удивило, как она приняла это известие -- не испугалась, не
заплакала, а словно погрузилась глубоко-глубоко в себя и задумалась о
чем-то, понятном ей одной. А потом глаза ее засияли еще ярче, она улыбнулась
и сказала:
-- Нет нужды искать Юм-Кашу невесту -- она перед тобой!
Я подумала, что ослышалась. Но она повторила то же самое еще раз, и в
голосе ее была радость. Я решила, что она сошла с ума. Тогда она стала
объяснять:
-- Помнишь, ты допытывалась, о чем я мечтаю, а я не отвечала тебе?
Сегодня отвечу. Ты не знаешь, мама, и никто не знает, что еще в детстве мне
явился Владыка Дождей и обещал, что когда-нибудь я стану его женой. И любовь
к нему родилась в моем сердце -- ни один мужчина с тех пор не привлекал
моего взгляда. А теперь, я вижу, срок настал. Юм-Каш требует, чтобы я пришла
к нему -- и это наполняет меня радостью!
Что я могла ответить ей на это? Я хотела было прикрикнуть на нее,
пригрозить, но почувствовала, что ее решимость тверже камня. Я могла бы
упасть ей в ноги и умолять, но и это ничего бы не дало. Она ушла от меня, и
не было больше у меня власти просить и приказывать.
Тем временем моя дочь начала одеваться в лучшие одежды. Я спросила ее,
что она хочет делать, и она ответила:
-- Пойду к жрецам и принесу им радостную весть, что невеста найдена.
Тогда я выбежала из дома и, так быстро, как только могла, побежала к
жрецам сама. Они заперлись и гадали, чтобы Владыка Дождей указал им приметы
своей невесты. Сначала меня не хотели пускать, но, сжалившись над моей
старостью и горем, прислужник пошел и доложил жрецам. Вскоре они вышли ко
мне.
Я сказала им, что моя дочь сошла с ума и вообразила себя невестой
Юм-Каша. Что я не смогла удержать ее, и она скоро придет к ним, просить
чести быть сброшеной в колодец. Жрецы недоуменно переглянулись. Тут я
увидела свою дочь, приближавшуюся к нам, и закричала:
-- Вот она! Не верьте ей -- она безумна, совершенно безумна!
Моя дочь посмотрела на меня с презрительным состраданием, а потом
повернулась к жрецам и заговорила. Тут же все мои надежды рухнули. Она
подробно рассказывала жрецам о своем обещании стать женой бога, и о своей
решимости выполнить это обещание. Она была спокойна, полна достоинства и
уверенности, и никто никогда не принял бы ее за сумасшедшую. Жрецы слушали,
кивали, задавали вопросы. Было видно, что они удивлены, но постепенно она
убеждала их в своей правоте.
В конце концов жрецы, посовещавшись между собой, велели ей идти с ними,
чтобы подготовиться к церемонии, которая состоится завтра на рассвете. Мне
же сказали, что горевать грешно -- ведь моя дочь станет женой самого
Юм-Каша! Что может быть почетней?
Дочь подошла ко мне, чтобы утешить:
-- Не плачь, мама! Завтра будет самый счастливый день моей жизни,
исполнится мое заветное желание. Я попрошу Юм-Каша, чтобы тебя призвали
поскорее, и тогда мы всегда будем вместе у его ног!
Я только тоскливо посмотрела на нее и ничего не сказала. Она ушла от
меня -- что было толку говорить с ней?
Мне говорили, что она была необычайно прекрасна на следующее утро, и
что она сама сделала шаг в бездну. Я не пошла смотреть на это. Она ушла от
меня, и я бы не вынесла -- увидеть, как она уходит еще раз.
Какой взгляд у этой девчонки! Кто там она -- нубийка, ливийка, эфиопка?
Черная, тощая, гибкая, как пантера, а глаза так и полыхают недобрым зеленым
огнем. Торговец, у которого я ее купила, предупреждал меня, что она
строптивого нрава. Если она и дальше будет так смотреть на меня -- отведает
розог. Нужно будет обратить на нее внимание...
Что-то сегодня ванна особенно разнеживает меня. Ну и пусть -- гости
придут часа через два, не раньше. Можно полежать еще немного, как следует
насладиться этим ощущением тепла и легкого возбуждения, обволакивающим все
тело.
Да, девчонка хороша -- конечно, для тех, кто знает толк. Когда она
проходит мимо, двигаясь со змеиной грацией, и бросает на меня косой, полный
ненависти взгляд исподлобья... Право, я начинаю думать, что сама обломаю ее
-- оно того стоит...
Теперь нужно как следует заняться своим телом. Эти патриции богаты, и
должны убедиться, что, хоть я и приближаюсь к тридцати, но за мое тело стоит
платить. Кир уже ждет меня. Смешно видеть выражение собачьей покорности
(напускной, конечно!) на лице этого могучего атлета с железными мускулами.
Негодяй безумно хочет меня с того самого момента, как увидел, и именно
поэтому я сделала его своим массажистом. Каждый день он чуть не по часу
трогает и мнет мое тело, зная при этом: один неверный жест, проявляющий его
истинные чувства, и его в лучшем случае оскопят, а в худшем -- забьют
насмерть. Это придает особую чувственность его прикосновениям.
Не заняться ли мне девчонкой прямо сейчас?.. До прихода гостей еще
достаточно времени, а я давно не развлекалась. Решено!
Все, Кир, достаточно на сегодня. Нет, я пока не буду одеваться. Можешь
идти, и позови эту, черную, новенькую. И скажи всем -- ни под каким
предлогом не беспокоить меня! Если придут гости -- пусть подождут немного, я
скоро выйду.
Самое главное -- сразу дать ей понять, кто здесь хозяин, чтобы ей и в
голову не пришло сопротивляться. И хотя я всегда держу под рукой кнут, мне
очень редко приходилось им пользоваться в таких случаях. Они и так боятся
меня.
Вот она входит, опустив голову. Ей, конечно, успели кое-что рассказать
о моих привычках. Закрывает дверь. Останавливается у двери с самым
почтительным видом.
-- Подойди ближе!
Подходит, останавливается в нескольких шагах. Глаз на меня не
поднимает.
-- Еще ближе!
Делает два неуверенных шага и снова останавливается.
-- Ближе!
Еще пара шагов. Теперь она на расстоянии вытянутой руки от моего ложа,
где я раскинулась, обнаженная, среди пестрых шкур. В руках у меня кнут.
Несколько минут молча рассматриваю ее. Она смотрит в пол, внешне
спокойная, но я знаю -- внутри у нее все трепещет.
Внезапно я резко встаю. Она делает такое движение, словно собирается
убежать, но овладевает собой и остается на месте. Мы стоим вплотную, едва не
соприкасаясь, и я чувствую жар ее тела. Так же резко я беру ее за
подбородок, поднимаю ее голову и смотрю прямо в глаза долгим, изучающим
взглядом. Там -- ненависть и страх, которые она уже не в силах скрывать.
Кнутом -- по щеке, несильно, но с оттяжкой:
-- Я отучу тебя так смотреть на меня!
Она замирает. Я снова ложусь, устраиваюсь поудобней и приказываю:
-- Раздевайся!
Забавно смотреть как она, такая черная, бледнеет. Медленно-медленно ее
руки тянутся к застежкам на плечах, которые скрепляют тунику.
-- Поживей, не то снова отведаешь кнута!
Белая ткань падает к ее ногам. Она стоит передо мной во всей своей
дикой красе. У нее плоский живот и очень много черных, курчавых волос на
лобке. Острые маленькие грудки едва заметно колышутся. Кожа мягко блестит,
словно полированное черное дерево.
Приятно ласкать женщину, которая ненавидит тебя. Приятно чувствовать,
как она дрожит от отвращения, смешанного с удовольствием, и ненавидит тебя
еще сильнее за удовольствие, которое ты ей доставляешь против ее воли.
Можно позволить себе все. Укусить ее за эти дерзкие соски -- она даже
не посмеет вскрикнуть. Мять кожу до синяков и царапин. И упиваться полнотой
своей власти над этим жалким человеческим существом.
-- Раздвинь ноги!
Ее "тайная жемчужина" прекрасна -- словно вырезана из ярко-алого
коралла. О! Торговец не солгал -- она действительно девственна! Ну что ж,
рукоять моего кнута прекрасно заменит ей первого мужчину.
Кажется, эта строптивица укрощена. В глазах не осталось ненависти --
только слезы боли и унижения. Так-то лучше!
Достаточно развлечений на сегодня. Нельзя заставлять гостей ждать
слишком долго.
-- Надеюсь, ты хорошо усвоила урок? Иди, и скажи, что я желаю
одеваться.
Делаю вид, что не смотрю на нее. Встает, пошатываясь, и уходит, словно
скорбная тень. Но у самых дверей на миг останавливается и бросает в меня
прежний, огненно-ненавидящий взгляд дикой кошки.
Проклятье! Девчонка неисправима! Придется, все-таки, ее высечь!
-- Мария!
Господи, как же я устала. Хоть бы он перестал звать меня, словно собаку
или служанку. Повелительно-капризные нотки в его голосе выводят меня из себя
куда больше, чем я хотела бы. Успокойся, терпи, не забывай -- он больной
человек.
-- Мария!
Сегодня он раздражительней, чем обычно. И невыносимей. Ты сама этого
добивалась -- теперь выноси. Никто не заставлял тебя ехать с ним в Италию.
Конечно, никто не знал, что будет вот так, но это ничего не меняет.
-- Мария!!!
-- Уже иду, милый!
Он сидит в кресле на веранде, и в лучах весеннего солнца кажется еще
бледней и изможденней, его резкий профиль заострился, как у покойника. В
Петербурге он уже давно и стал бы покойником. Здесь он может протянуть еще
год или два. Хватит ли у меня терпения?
-- Почему ты не шла?
-- Извини, дорогой, я задумалась. Зачем ты звал меня?
-- Просто хотел убедиться, что ты рядом. Посиди здесь, со мной.
Сажусь. Смотрю на него. Оказывается, любовь тоже изнашивается. Когда
полтора года назад мы приехали сюда, все казалось чудесным сном. Наконец-то
не нужно прятаться, выгадывать часы для случайных свиданий, только
растравляющих душу своей мимолетностью. Вокруг нас -- страна вечного солнца
и улыбчивых людей, которым совершенно безразличны наши отношения. Мы можем
быть вместе столько, сколько пожелаем. И вот как все обернулось...
Он сам во всем виноват. Пусть он болен, но зачем было постоянно
изматывать меня раздражительностью и мелочными придирками? Не так выглядишь,
не то сказала, не туда села -- кто сможет выдерживать все это постоянно? Он
и раньше считал, что ему, как великому поэту, позволено многое, больше, чем
простым смертным. Теперь же он совсем перестал сдерживаться.
Я должна быть при нем постоянно. Должна носить его носовые платки,
капли, лекарства и давать их ему по первому требованию. Должна читать ему на
ночь. Должна утешать его, если ему приснится кошмар. Должна выполнять все
его желания -- быстро и с нежной улыбкой. Я давно уже не любовница его --
просто сиделка.
А главное -- эти бесконечные, постоянно меняющиеся лица женщин вокруг.
Его узнают, с ним мечтают познакомиться, девушки стремятся к нему, словно
пчелы к цветку. Или мухи к падали. Еще бы -- у каждой под подушкой спрятан
томик его стихов. Ему эти изъявления восторга и преданности доставляют
огромное удовольствие. Он, как увядший павлин, расправляет свои поблекшие
перышки и начинает флиртовать. Он впитывает женскую красоту глазами, всеми
порами, упивается ею. Я знаю, он не в состоянии мне изменять, но от этого
становится еще противнее.
-- Мария, разве не пора еще принимать капли?
-- Да, дорогой.
Вот так -- среди капель, придирок и слащаво улыбающихся женщин -- и
проходит моя жизнь. Проходит мимо. Как давно я не танцевала... Как давно
меня не целовали и не признавались в любви... Здесь есть несколько приятных
молодых людей, но я стараюсь даже не думать о них. Во-первых, у меня просто
нет времени на развлечения. Во-вторых, я нужна ему. Он действительно великий
поэт и очень больной человек. Скоро он умрет. И я хочу скрасить его
последние дни теплом и заботой, если, конечно, у меня хватит терпения.
Если у меня хватит терпения.
Я проснулась, как всегда, раньше всех. Один любимый мужчина лежал
рядом, на постели, другой -- чуть подальше, на раскладушке. Он сам туда
удалился вчера, сказав, что у него завтра тяжелый день, и он хочет
выспаться. Не знаю, зачем он это сделал -- из благородства, из вредности,
или действительно хотел выспаться. Ну и бог с ним. Мне было все равно, кто
из них меня трахнет.
Но все оказалось гораздо хуже. Тот любимый мужчина, который спал со
мной, наотрез отказался заниматься любовью. Сказал, что он так не может. Не
знаю, почему -- из благородства, из вредности, или этот тоже хотел
выспаться. Результат оказался плачевным -- меня так никто и не трахнул.
Наверное, из-за этого мне всю ночь снились дикие сны.
Какая замечательная живая иллюстрация к поговорке про двух зайцев!
Утро выдалось серенькое, невнятное. Количество пустых бутылок под
столом после вчерашнего вечера заметно увеличилось. Эти два ангела спят
сладко-сладко и слегка пахнут перегаром. Им по боку мои проблемы. Интересно,
когда же меня кто-нибудь трахнет?
Нет, я больше не могу видеть это сонное царство!
-- Эй, господа, пора вставать! Будем жить дальше.
Завершая свой труд, Автор хотел бы, во избежание возможных
недоразумений, объяснить свои цели и намерения. Считая литературных (да и
всех прочих) критиков стаей гнусных вампиров, сосущих из искусства кровь,
Автор не может отказать себе в удовольствии оставить их с носом, не позволив
с умным видом порассуждать "что же он хотел сказать". Все, что нужно, Автор
скажет сам.
Автор ни в коем случае не претендовал на создание исторического
произведения, хотя и старался (в меру своих сил) соблюдать в новеллах
историческую достоверность. Не стоит также всегда воспринимать содержание
новелл всерьез -- Автору нравится подсмеиваться как над своими героями, так
и над самим собой. Стиль новелл также нередко является пародией, на что --
пусть искушенный читатель догадывается сам. Автор категорически возражает
против идентификации себя с героинями новелл, хотя и понимает, что избежать
этого ему вряд ли удастся...
Главная цель произведения -- попытаться взглянуть на жизнь другими
глазами, глазами женщины. Казалось бы, женщинам уделялось немало внимания в
литературе всех эпох и народов, но, за редкими исключениями, это был взгляд
снаружи, а не изнутри. Внутренний мир женщины передается большинством
писателей безжизненно и схематично. Из произведения в произведение кочуют
однотипные героини, а появление феномена т.н. "женского романа",
возникновением которого мы "обязаны" Жорж Санд и ей подобным, окончательно
довершило литературное убийство женской индивидуальности. Поэтому Автор
собрал отовсюду своих героинь и дал им возможность высказаться. Каждая
героиня персонифицирует определенные черты, присущие многим женщинам, в их
разнообразии и многоликости -- единственная возможность увидеть женщину
целиком, такой, какова она есть.
В заключение Автор заявляет, что считает совершенно оправданными
откровенные эротические подробности и ненормативную лексику в некоторых
новеллах. Секс играет в жизни женщины исключительно важную роль, и было бы
глупо делать вид, что это не так.
С совершенным почтением к терпеливому читателю,
Автор.
декабрь 1999 года.
Вчера они убили мою дочь. Мне говорят, что память ее благословенна, что
она -- драгоценный нефрит, принесенный в жертву великому Юм-Кашу. Я стара и
не понимаю красивых слов. Я знаю одно: моей дочери нет больше со мной. Но
она ушла от меня не тогда, когда умерла.
Мои старые глаза уже давно разучились плакать. Немало горя повидала я
на своем веку. Те мои дети, что не умерли во младенчестве, погибли в
бесконечных войнах. Она одна осталась, чтобы согревать мои дни. Она была
задумчива и кротка, глаза ее сияли, как теплые звезды. Ей уже исполнилось
шестнадцать лет.
Мы славно жили вдвоем в нашем маленьком домике. Мы были небогаты, но
нужды не терпели. Единственное, что меня порой беспокоило -- то, как она
смотрела иногда, словно в никуда. Я чувствовала, что она мечтает о чем-то,
но не могла понять -- о чем. О замужестве она не хотела и слышать.
А потом пришла эта засуха. Маис засох, едва успев прорасти. Его
посадили во второй раз, но он даже не проклюнулся. Земля растрескалась, в
воздухе постоянно стояла пыль. Жрецы испробовали все способы умилостивить
Юм-Каша, Владыку Дождей, но дождь так и не пошел. Вначале они бросали в его
колодец золото, потом -- бесценный нефрит, а когда и это не помогло --
объявили, что Владыка Дождей требует себе невесту. Пока в колодец не бросят
девушку, чтобы она стала его женой, дождя не будет.
Жрецы испросили три дня на то, чтобы выбрать невесту Юм-Кашу согласно
обычаю. Ею могла стать любая девушка. Людьми овладело тоскливое, испуганное
ожидание. Те, у кого были молодые дочери, боялись даже думать о возможном
выборе. Я сама, узнав обо всем, поспешила домой и рассказала новости своей
девочке. Меня удивило, как она приняла это известие -- не испугалась, не
заплакала, а словно погрузилась глубоко-глубоко в себя и задумалась о
чем-то, понятном ей одной. А потом глаза ее засияли еще ярче, она улыбнулась
и сказала:
-- Нет нужды искать Юм-Кашу невесту -- она перед тобой!
Я подумала, что ослышалась. Но она повторила то же самое еще раз, и в
голосе ее была радость. Я решила, что она сошла с ума. Тогда она стала
объяснять:
-- Помнишь, ты допытывалась, о чем я мечтаю, а я не отвечала тебе?
Сегодня отвечу. Ты не знаешь, мама, и никто не знает, что еще в детстве мне
явился Владыка Дождей и обещал, что когда-нибудь я стану его женой. И любовь
к нему родилась в моем сердце -- ни один мужчина с тех пор не привлекал
моего взгляда. А теперь, я вижу, срок настал. Юм-Каш требует, чтобы я пришла
к нему -- и это наполняет меня радостью!
Что я могла ответить ей на это? Я хотела было прикрикнуть на нее,
пригрозить, но почувствовала, что ее решимость тверже камня. Я могла бы
упасть ей в ноги и умолять, но и это ничего бы не дало. Она ушла от меня, и
не было больше у меня власти просить и приказывать.
Тем временем моя дочь начала одеваться в лучшие одежды. Я спросила ее,
что она хочет делать, и она ответила:
-- Пойду к жрецам и принесу им радостную весть, что невеста найдена.
Тогда я выбежала из дома и, так быстро, как только могла, побежала к
жрецам сама. Они заперлись и гадали, чтобы Владыка Дождей указал им приметы
своей невесты. Сначала меня не хотели пускать, но, сжалившись над моей
старостью и горем, прислужник пошел и доложил жрецам. Вскоре они вышли ко
мне.
Я сказала им, что моя дочь сошла с ума и вообразила себя невестой
Юм-Каша. Что я не смогла удержать ее, и она скоро придет к ним, просить
чести быть сброшеной в колодец. Жрецы недоуменно переглянулись. Тут я
увидела свою дочь, приближавшуюся к нам, и закричала:
-- Вот она! Не верьте ей -- она безумна, совершенно безумна!
Моя дочь посмотрела на меня с презрительным состраданием, а потом
повернулась к жрецам и заговорила. Тут же все мои надежды рухнули. Она
подробно рассказывала жрецам о своем обещании стать женой бога, и о своей
решимости выполнить это обещание. Она была спокойна, полна достоинства и
уверенности, и никто никогда не принял бы ее за сумасшедшую. Жрецы слушали,
кивали, задавали вопросы. Было видно, что они удивлены, но постепенно она
убеждала их в своей правоте.
В конце концов жрецы, посовещавшись между собой, велели ей идти с ними,
чтобы подготовиться к церемонии, которая состоится завтра на рассвете. Мне
же сказали, что горевать грешно -- ведь моя дочь станет женой самого
Юм-Каша! Что может быть почетней?
Дочь подошла ко мне, чтобы утешить:
-- Не плачь, мама! Завтра будет самый счастливый день моей жизни,
исполнится мое заветное желание. Я попрошу Юм-Каша, чтобы тебя призвали
поскорее, и тогда мы всегда будем вместе у его ног!
Я только тоскливо посмотрела на нее и ничего не сказала. Она ушла от
меня -- что было толку говорить с ней?
Мне говорили, что она была необычайно прекрасна на следующее утро, и
что она сама сделала шаг в бездну. Я не пошла смотреть на это. Она ушла от
меня, и я бы не вынесла -- увидеть, как она уходит еще раз.
Какой взгляд у этой девчонки! Кто там она -- нубийка, ливийка, эфиопка?
Черная, тощая, гибкая, как пантера, а глаза так и полыхают недобрым зеленым
огнем. Торговец, у которого я ее купила, предупреждал меня, что она
строптивого нрава. Если она и дальше будет так смотреть на меня -- отведает
розог. Нужно будет обратить на нее внимание...
Что-то сегодня ванна особенно разнеживает меня. Ну и пусть -- гости
придут часа через два, не раньше. Можно полежать еще немного, как следует
насладиться этим ощущением тепла и легкого возбуждения, обволакивающим все
тело.
Да, девчонка хороша -- конечно, для тех, кто знает толк. Когда она
проходит мимо, двигаясь со змеиной грацией, и бросает на меня косой, полный
ненависти взгляд исподлобья... Право, я начинаю думать, что сама обломаю ее
-- оно того стоит...
Теперь нужно как следует заняться своим телом. Эти патриции богаты, и
должны убедиться, что, хоть я и приближаюсь к тридцати, но за мое тело стоит
платить. Кир уже ждет меня. Смешно видеть выражение собачьей покорности
(напускной, конечно!) на лице этого могучего атлета с железными мускулами.
Негодяй безумно хочет меня с того самого момента, как увидел, и именно
поэтому я сделала его своим массажистом. Каждый день он чуть не по часу
трогает и мнет мое тело, зная при этом: один неверный жест, проявляющий его
истинные чувства, и его в лучшем случае оскопят, а в худшем -- забьют
насмерть. Это придает особую чувственность его прикосновениям.
Не заняться ли мне девчонкой прямо сейчас?.. До прихода гостей еще
достаточно времени, а я давно не развлекалась. Решено!
Все, Кир, достаточно на сегодня. Нет, я пока не буду одеваться. Можешь
идти, и позови эту, черную, новенькую. И скажи всем -- ни под каким
предлогом не беспокоить меня! Если придут гости -- пусть подождут немного, я
скоро выйду.
Самое главное -- сразу дать ей понять, кто здесь хозяин, чтобы ей и в
голову не пришло сопротивляться. И хотя я всегда держу под рукой кнут, мне
очень редко приходилось им пользоваться в таких случаях. Они и так боятся
меня.
Вот она входит, опустив голову. Ей, конечно, успели кое-что рассказать
о моих привычках. Закрывает дверь. Останавливается у двери с самым
почтительным видом.
-- Подойди ближе!
Подходит, останавливается в нескольких шагах. Глаз на меня не
поднимает.
-- Еще ближе!
Делает два неуверенных шага и снова останавливается.
-- Ближе!
Еще пара шагов. Теперь она на расстоянии вытянутой руки от моего ложа,
где я раскинулась, обнаженная, среди пестрых шкур. В руках у меня кнут.
Несколько минут молча рассматриваю ее. Она смотрит в пол, внешне
спокойная, но я знаю -- внутри у нее все трепещет.
Внезапно я резко встаю. Она делает такое движение, словно собирается
убежать, но овладевает собой и остается на месте. Мы стоим вплотную, едва не
соприкасаясь, и я чувствую жар ее тела. Так же резко я беру ее за
подбородок, поднимаю ее голову и смотрю прямо в глаза долгим, изучающим
взглядом. Там -- ненависть и страх, которые она уже не в силах скрывать.
Кнутом -- по щеке, несильно, но с оттяжкой:
-- Я отучу тебя так смотреть на меня!
Она замирает. Я снова ложусь, устраиваюсь поудобней и приказываю:
-- Раздевайся!
Забавно смотреть как она, такая черная, бледнеет. Медленно-медленно ее
руки тянутся к застежкам на плечах, которые скрепляют тунику.
-- Поживей, не то снова отведаешь кнута!
Белая ткань падает к ее ногам. Она стоит передо мной во всей своей
дикой красе. У нее плоский живот и очень много черных, курчавых волос на
лобке. Острые маленькие грудки едва заметно колышутся. Кожа мягко блестит,
словно полированное черное дерево.
Приятно ласкать женщину, которая ненавидит тебя. Приятно чувствовать,
как она дрожит от отвращения, смешанного с удовольствием, и ненавидит тебя
еще сильнее за удовольствие, которое ты ей доставляешь против ее воли.
Можно позволить себе все. Укусить ее за эти дерзкие соски -- она даже
не посмеет вскрикнуть. Мять кожу до синяков и царапин. И упиваться полнотой
своей власти над этим жалким человеческим существом.
-- Раздвинь ноги!
Ее "тайная жемчужина" прекрасна -- словно вырезана из ярко-алого
коралла. О! Торговец не солгал -- она действительно девственна! Ну что ж,
рукоять моего кнута прекрасно заменит ей первого мужчину.
Кажется, эта строптивица укрощена. В глазах не осталось ненависти --
только слезы боли и унижения. Так-то лучше!
Достаточно развлечений на сегодня. Нельзя заставлять гостей ждать
слишком долго.
-- Надеюсь, ты хорошо усвоила урок? Иди, и скажи, что я желаю
одеваться.
Делаю вид, что не смотрю на нее. Встает, пошатываясь, и уходит, словно
скорбная тень. Но у самых дверей на миг останавливается и бросает в меня
прежний, огненно-ненавидящий взгляд дикой кошки.
Проклятье! Девчонка неисправима! Придется, все-таки, ее высечь!
-- Мария!
Господи, как же я устала. Хоть бы он перестал звать меня, словно собаку
или служанку. Повелительно-капризные нотки в его голосе выводят меня из себя
куда больше, чем я хотела бы. Успокойся, терпи, не забывай -- он больной
человек.
-- Мария!
Сегодня он раздражительней, чем обычно. И невыносимей. Ты сама этого
добивалась -- теперь выноси. Никто не заставлял тебя ехать с ним в Италию.
Конечно, никто не знал, что будет вот так, но это ничего не меняет.
-- Мария!!!
-- Уже иду, милый!
Он сидит в кресле на веранде, и в лучах весеннего солнца кажется еще
бледней и изможденней, его резкий профиль заострился, как у покойника. В
Петербурге он уже давно и стал бы покойником. Здесь он может протянуть еще
год или два. Хватит ли у меня терпения?
-- Почему ты не шла?
-- Извини, дорогой, я задумалась. Зачем ты звал меня?
-- Просто хотел убедиться, что ты рядом. Посиди здесь, со мной.
Сажусь. Смотрю на него. Оказывается, любовь тоже изнашивается. Когда
полтора года назад мы приехали сюда, все казалось чудесным сном. Наконец-то
не нужно прятаться, выгадывать часы для случайных свиданий, только
растравляющих душу своей мимолетностью. Вокруг нас -- страна вечного солнца
и улыбчивых людей, которым совершенно безразличны наши отношения. Мы можем
быть вместе столько, сколько пожелаем. И вот как все обернулось...
Он сам во всем виноват. Пусть он болен, но зачем было постоянно
изматывать меня раздражительностью и мелочными придирками? Не так выглядишь,
не то сказала, не туда села -- кто сможет выдерживать все это постоянно? Он
и раньше считал, что ему, как великому поэту, позволено многое, больше, чем
простым смертным. Теперь же он совсем перестал сдерживаться.
Я должна быть при нем постоянно. Должна носить его носовые платки,
капли, лекарства и давать их ему по первому требованию. Должна читать ему на
ночь. Должна утешать его, если ему приснится кошмар. Должна выполнять все
его желания -- быстро и с нежной улыбкой. Я давно уже не любовница его --
просто сиделка.
А главное -- эти бесконечные, постоянно меняющиеся лица женщин вокруг.
Его узнают, с ним мечтают познакомиться, девушки стремятся к нему, словно
пчелы к цветку. Или мухи к падали. Еще бы -- у каждой под подушкой спрятан
томик его стихов. Ему эти изъявления восторга и преданности доставляют
огромное удовольствие. Он, как увядший павлин, расправляет свои поблекшие
перышки и начинает флиртовать. Он впитывает женскую красоту глазами, всеми
порами, упивается ею. Я знаю, он не в состоянии мне изменять, но от этого
становится еще противнее.
-- Мария, разве не пора еще принимать капли?
-- Да, дорогой.
Вот так -- среди капель, придирок и слащаво улыбающихся женщин -- и
проходит моя жизнь. Проходит мимо. Как давно я не танцевала... Как давно
меня не целовали и не признавались в любви... Здесь есть несколько приятных
молодых людей, но я стараюсь даже не думать о них. Во-первых, у меня просто
нет времени на развлечения. Во-вторых, я нужна ему. Он действительно великий
поэт и очень больной человек. Скоро он умрет. И я хочу скрасить его
последние дни теплом и заботой, если, конечно, у меня хватит терпения.
Если у меня хватит терпения.
Я проснулась, как всегда, раньше всех. Один любимый мужчина лежал
рядом, на постели, другой -- чуть подальше, на раскладушке. Он сам туда
удалился вчера, сказав, что у него завтра тяжелый день, и он хочет
выспаться. Не знаю, зачем он это сделал -- из благородства, из вредности,
или действительно хотел выспаться. Ну и бог с ним. Мне было все равно, кто
из них меня трахнет.
Но все оказалось гораздо хуже. Тот любимый мужчина, который спал со
мной, наотрез отказался заниматься любовью. Сказал, что он так не может. Не
знаю, почему -- из благородства, из вредности, или этот тоже хотел
выспаться. Результат оказался плачевным -- меня так никто и не трахнул.
Наверное, из-за этого мне всю ночь снились дикие сны.
Какая замечательная живая иллюстрация к поговорке про двух зайцев!
Утро выдалось серенькое, невнятное. Количество пустых бутылок под
столом после вчерашнего вечера заметно увеличилось. Эти два ангела спят
сладко-сладко и слегка пахнут перегаром. Им по боку мои проблемы. Интересно,
когда же меня кто-нибудь трахнет?
Нет, я больше не могу видеть это сонное царство!
-- Эй, господа, пора вставать! Будем жить дальше.
Завершая свой труд, Автор хотел бы, во избежание возможных
недоразумений, объяснить свои цели и намерения. Считая литературных (да и
всех прочих) критиков стаей гнусных вампиров, сосущих из искусства кровь,
Автор не может отказать себе в удовольствии оставить их с носом, не позволив
с умным видом порассуждать "что же он хотел сказать". Все, что нужно, Автор
скажет сам.
Автор ни в коем случае не претендовал на создание исторического
произведения, хотя и старался (в меру своих сил) соблюдать в новеллах
историческую достоверность. Не стоит также всегда воспринимать содержание
новелл всерьез -- Автору нравится подсмеиваться как над своими героями, так
и над самим собой. Стиль новелл также нередко является пародией, на что --
пусть искушенный читатель догадывается сам. Автор категорически возражает
против идентификации себя с героинями новелл, хотя и понимает, что избежать
этого ему вряд ли удастся...
Главная цель произведения -- попытаться взглянуть на жизнь другими
глазами, глазами женщины. Казалось бы, женщинам уделялось немало внимания в
литературе всех эпох и народов, но, за редкими исключениями, это был взгляд
снаружи, а не изнутри. Внутренний мир женщины передается большинством
писателей безжизненно и схематично. Из произведения в произведение кочуют
однотипные героини, а появление феномена т.н. "женского романа",
возникновением которого мы "обязаны" Жорж Санд и ей подобным, окончательно
довершило литературное убийство женской индивидуальности. Поэтому Автор
собрал отовсюду своих героинь и дал им возможность высказаться. Каждая
героиня персонифицирует определенные черты, присущие многим женщинам, в их
разнообразии и многоликости -- единственная возможность увидеть женщину
целиком, такой, какова она есть.
В заключение Автор заявляет, что считает совершенно оправданными
откровенные эротические подробности и ненормативную лексику в некоторых
новеллах. Секс играет в жизни женщины исключительно важную роль, и было бы
глупо делать вид, что это не так.
С совершенным почтением к терпеливому читателю,
Автор.
декабрь 1999 года.
Популярность: 1, Last-modified: Sat, 26 May 2001 08:42:10 GmT
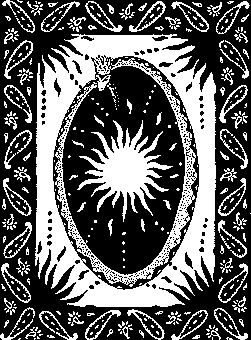 О Финн Мак Кумал, зачем ты упрекаешь меня в измене? Зачем бередишь мои
раны? Да, я виновна пред тобой, не спорю, но могла ли я поступить иначе, чем
поступила?
Ведь ты, доблестный Финн, никогда не искал моей любви. Ты просто
подумал, что настало время взять себе жену, и начал подыскивать ее. Ты
пришел свататься ко мне, решив, что я буду тебе достойной супругой, раз
красотой и умом превзошла всех дев Эрин. Разумом, а не сердцем, выбирал ты
жену, о Финн! И все, что случилось после -- твоя расплата.
Сердце мое не знало любви. Все вокруг по кому-то вздыхали, но только не
Грайне. Ни один прекрасный юноша не привлек моего взгляда. И мне, по
совести, тогда все равно было, за кого выйти замуж. Вспомни, что я ответила
на твое сватовство: "Стать женой Финна Мак Кумала для меня честь". И это
воистину так, о Финн. Но только сердце мое молчало.
И после, на свадебном пиру, когда все пили чашу за чашей за молодую
жену Финна, я радовалась и гордилась, а сердце все так же молчало. Вдруг две
белых гончих, что лежали у моих ног, стали драться из-за брошеной кости.
Какой-то светловолосый юноша подбежал и так ловко разнял их, что я
рассмеялась. Юноша, улыбаясь, поднял на меня глаза, и мне показалось, что
мир озарился. Это заговорило, наконец, мое сердце. Так пришла ко мне любовь
к юному Диармеду, твоему племяннику.
Не думай, о Финн, что я сразу решилась изменить тебе. О, больше всего
на свете я хотела бы, чтобы ты никогда не сватался ко мне! И, пока ты
бражничал с воинами, я сидела и размышляла: "Финн, отважный предводитель
Воинства Фианов, оказал мне великую честь, предложив стать его женой. Но
Финн не любит меня, как и я не люблю его. Диармед самый красивый юноша,
какого я видела, и в глазах его горит сама молодость. Сердце мое пылает от
любви к нему. Так что же мне выбрать -- долг или сердце? Могу ли я заставить
свое сердце молчать? Нет, никогда. Это судьба". И я решилась.
Дождавшись, когда ты и большинство воинов отяжелели от выпитого вина и
уснули, я подозвала Диармеда и призналась, что полюбила его. Я стала просить
его убежать со мной прямо сейчас, со свадебного пира. Но Диармед, хоть
сердце его пылало так же сильно, как мое, не хотел предавать своего
родственника и господина. Душа его содрогалась при мысли о подобном
бесчестьи. И он хотел предпочесть долг любви.
Тогда я сказала:
-- Не думай, о Диармед, что ты так легко сможешь отвергнуть меня! А
что, если против одного долга я поставлю другой? Я накладываю на тебя гейс и
запрещаю когда-либо расставаться со мной!
И тогда Диармед смирился, ведь нарушить гейс -- еще большее бесчестье,
чем предать господина. Подумай сам, о Финн, мог ли твой племянник поступить
иначе? О, нет, все мы попали в сети судьбы.
В ту же ночь мы бежали. И хотя нас преследовали, словно оленей, мы были
счастливы своей любовью. Но иногда Диармед мрачнел. Как-то раз он сказал
мне:
-- Я ни о чем не жалею. Но сердце говорит мне, о Грайне, что недолгим
будет наше счастье, а месть Финна будет ужасна.
Я возразила:
-- Финн Мак Кумал не только доблестен, но и справедлив. Позже мы
повинимся ему, и он не сможет отказать нам в прощеньи. Ведь только любовь
была виною нашего проступка.
Так я думала тогда. Что ты скажешь на это, о Финн? Где была твоя
справедливость, когда ты обманом завлек своего племянника в западню и
погубил его? Неужели душа твоя не содрогнулась от такого вероломства?
Когда Диармед услышал твой рог, призывающий на помощь, он, позабыв все
распри, поспешил на твой зов. А я поспешила вслед за Диармедом, чтобы, если
понадобится, встретить с ним вместе и смерть, и бесчестье. Скажи мне, о
Финн, как случилось, что бесстрашный Диармед умер?
Ты молчишь. Разве месть так сладка, чтобы ради нее погубить родную
кровь? Ведь ты не любил меня, Финн, и я не успела еще стать твоей женой --
зачем же ты мстил? Ответь мне, ответь!
Ты плачешь! О, не плачь, не плачь! Прости меня, доблестный Финн, я не
хотела быть жестокой. Я знаю, ты не мог поступить иначе, как не могла и я.
Это наша судьба, злая судьба.
О Финн Мак Кумал, зачем ты упрекаешь меня в измене? Зачем бередишь мои
раны? Да, я виновна пред тобой, не спорю, но могла ли я поступить иначе, чем
поступила?
Ведь ты, доблестный Финн, никогда не искал моей любви. Ты просто
подумал, что настало время взять себе жену, и начал подыскивать ее. Ты
пришел свататься ко мне, решив, что я буду тебе достойной супругой, раз
красотой и умом превзошла всех дев Эрин. Разумом, а не сердцем, выбирал ты
жену, о Финн! И все, что случилось после -- твоя расплата.
Сердце мое не знало любви. Все вокруг по кому-то вздыхали, но только не
Грайне. Ни один прекрасный юноша не привлек моего взгляда. И мне, по
совести, тогда все равно было, за кого выйти замуж. Вспомни, что я ответила
на твое сватовство: "Стать женой Финна Мак Кумала для меня честь". И это
воистину так, о Финн. Но только сердце мое молчало.
И после, на свадебном пиру, когда все пили чашу за чашей за молодую
жену Финна, я радовалась и гордилась, а сердце все так же молчало. Вдруг две
белых гончих, что лежали у моих ног, стали драться из-за брошеной кости.
Какой-то светловолосый юноша подбежал и так ловко разнял их, что я
рассмеялась. Юноша, улыбаясь, поднял на меня глаза, и мне показалось, что
мир озарился. Это заговорило, наконец, мое сердце. Так пришла ко мне любовь
к юному Диармеду, твоему племяннику.
Не думай, о Финн, что я сразу решилась изменить тебе. О, больше всего
на свете я хотела бы, чтобы ты никогда не сватался ко мне! И, пока ты
бражничал с воинами, я сидела и размышляла: "Финн, отважный предводитель
Воинства Фианов, оказал мне великую честь, предложив стать его женой. Но
Финн не любит меня, как и я не люблю его. Диармед самый красивый юноша,
какого я видела, и в глазах его горит сама молодость. Сердце мое пылает от
любви к нему. Так что же мне выбрать -- долг или сердце? Могу ли я заставить
свое сердце молчать? Нет, никогда. Это судьба". И я решилась.
Дождавшись, когда ты и большинство воинов отяжелели от выпитого вина и
уснули, я подозвала Диармеда и призналась, что полюбила его. Я стала просить
его убежать со мной прямо сейчас, со свадебного пира. Но Диармед, хоть
сердце его пылало так же сильно, как мое, не хотел предавать своего
родственника и господина. Душа его содрогалась при мысли о подобном
бесчестьи. И он хотел предпочесть долг любви.
Тогда я сказала:
-- Не думай, о Диармед, что ты так легко сможешь отвергнуть меня! А
что, если против одного долга я поставлю другой? Я накладываю на тебя гейс и
запрещаю когда-либо расставаться со мной!
И тогда Диармед смирился, ведь нарушить гейс -- еще большее бесчестье,
чем предать господина. Подумай сам, о Финн, мог ли твой племянник поступить
иначе? О, нет, все мы попали в сети судьбы.
В ту же ночь мы бежали. И хотя нас преследовали, словно оленей, мы были
счастливы своей любовью. Но иногда Диармед мрачнел. Как-то раз он сказал
мне:
-- Я ни о чем не жалею. Но сердце говорит мне, о Грайне, что недолгим
будет наше счастье, а месть Финна будет ужасна.
Я возразила:
-- Финн Мак Кумал не только доблестен, но и справедлив. Позже мы
повинимся ему, и он не сможет отказать нам в прощеньи. Ведь только любовь
была виною нашего проступка.
Так я думала тогда. Что ты скажешь на это, о Финн? Где была твоя
справедливость, когда ты обманом завлек своего племянника в западню и
погубил его? Неужели душа твоя не содрогнулась от такого вероломства?
Когда Диармед услышал твой рог, призывающий на помощь, он, позабыв все
распри, поспешил на твой зов. А я поспешила вслед за Диармедом, чтобы, если
понадобится, встретить с ним вместе и смерть, и бесчестье. Скажи мне, о
Финн, как случилось, что бесстрашный Диармед умер?
Ты молчишь. Разве месть так сладка, чтобы ради нее погубить родную
кровь? Ведь ты не любил меня, Финн, и я не успела еще стать твоей женой --
зачем же ты мстил? Ответь мне, ответь!
Ты плачешь! О, не плачь, не плачь! Прости меня, доблестный Финн, я не
хотела быть жестокой. Я знаю, ты не мог поступить иначе, как не могла и я.
Это наша судьба, злая судьба.
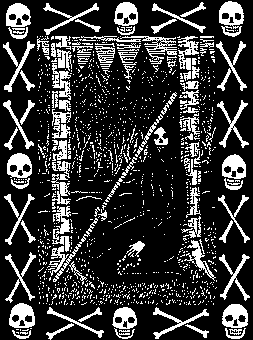 Имам Ахмед ибн Ибрагим аль-Гази, прозванный Левшой, огненным смерчем
прошелся по эфиопской земле. Стон и плач неслись отовсюду. Страна была
разорена и разграблена, почти все церкви и монастыри -- разрушены. Среди
того немногого, что еще уцелело, была драгоценнейшая жемчужина Эфиопии,
Лалибэла.
О, Лалибэла, восьмое чудо света! Никто и никогда не создавал ничего
подобного тебе! Огромные храмы, изваянные в скалах, уходят глубоко под
землю, как другие возносятся высоко в небо. В тяжелые времена родилась
Лалибэла. Построенные среди гор храмы-убежища несколько веков защищали
христианство от нападений разъяренных мусульман. Мудрость и богатство,
накопленные здесь, были неисчислимы. Но наступили времена, когда и Лалибэла
должна была пасть. Имам Ахмед неумолимо приближался к ней.
Накануне того, как войти в Лалибэлу и предать ее огню и мечу, имам
увидел страшный сон. Суровый голос, звенящий и пронзающий сердце, сказал
ему: "Если имам не спасет завтра женщину, он умрет!" Левша проснулся в
лихорадке, чувствуя тяжесть во всех членах. Страшные слова продолжали
звучать в его ушах и заставляли сердце болезненно сжиматься. Имам стал
искать женщину, которую он мог бы спасти, но ни одной женщины не осталось в
округе -- все они разбежались и попрятались, напуганные приближением его
войска. Полный недобрых предчувствий, имам Ахмед отправился осматривать
храмы Лалибэлы, о чудесах которых ходили легенды.
Сумрачной и жуткой показалась ему Лалибэла. Бесчисленные подземелья,
ведущие в самые недра земли, заманивали души в преисподнюю. Странные,
вытянутые лики святых смотрели со стен, кто с укором, кто с насмешкой. Ужас
все глубже проникал в душу Ахмеда. Ужас и ненависть к чернокожим монахам в
черных рясах.
Войдя в Бетэ Ымануэл, самый большой и богатый храм Лалибэлы, имам
приказал развести посреди храма костер и согнать к нему всех монахов.
Странное дело -- чем ярче разгорался костер, тем сильнее бил Левшу озноб. Он
поднял глаза и замер -- с потолка жутким взглядом, полным угрозы, на него
смотрели двенадцать апостолов. Ахмед зажмурился и попытался справиться с
собою. Тут согнанные в церковь монахи затянули заунывные псалмы. Отзвуки их
голосов разносились по подземелью, рождая странное эхо, полное вздохов и
всхлипов. "Зов шайтана!" -- ужаснулся имам.
-- В огонь! -- пронзительно закричал Левша. -- Всех монахов -- в огонь!
Не успели воины выполнить приказ имама, как невесть откуда в храме
появилась женщина в белоснежных одеждах. Стремительно подбежав к костру, она
прыгнула в огонь. Мусульмане застыли в растерянности, не зная что делать.
-- Назад! -- крикнул Ахмед, но голос его сорвался и перешел в хрип. --
Назад!
Языки пламени лизали белые одежды женщины, но она, казалось, не
замечала этого. Спокойно стоя посреди бушующего костра она заговорила, и
имам вздрогнул -- ее голос был голосом из его сна:
-- Я не сгорю в огне, если ты, собака, поклянешься не губить Лалибэлу!
-- Клянусь! -- воскликнул Ахмед и бросился в костер, желая спасти
женщину. Воины, пришедшие, наконец, в себя, поспешили на помощь имаму. У
него, к счастью, успела только обгореть одежда, женщина же была вся покрыта
ужасными ожогами.
Имам постепенно приходил в себя, к нему возвращалось всегдашнее
спокойствие. В последний раз оглядев сумрачный храм он приказал:
-- По коням! Не будем задерживаться в этой обители шайтана!
Через час войско Ахмеда было уже далеко.
Так женщина спасла Лалибэлу.
Имам Ахмед ибн Ибрагим аль-Гази, прозванный Левшой, огненным смерчем
прошелся по эфиопской земле. Стон и плач неслись отовсюду. Страна была
разорена и разграблена, почти все церкви и монастыри -- разрушены. Среди
того немногого, что еще уцелело, была драгоценнейшая жемчужина Эфиопии,
Лалибэла.
О, Лалибэла, восьмое чудо света! Никто и никогда не создавал ничего
подобного тебе! Огромные храмы, изваянные в скалах, уходят глубоко под
землю, как другие возносятся высоко в небо. В тяжелые времена родилась
Лалибэла. Построенные среди гор храмы-убежища несколько веков защищали
христианство от нападений разъяренных мусульман. Мудрость и богатство,
накопленные здесь, были неисчислимы. Но наступили времена, когда и Лалибэла
должна была пасть. Имам Ахмед неумолимо приближался к ней.
Накануне того, как войти в Лалибэлу и предать ее огню и мечу, имам
увидел страшный сон. Суровый голос, звенящий и пронзающий сердце, сказал
ему: "Если имам не спасет завтра женщину, он умрет!" Левша проснулся в
лихорадке, чувствуя тяжесть во всех членах. Страшные слова продолжали
звучать в его ушах и заставляли сердце болезненно сжиматься. Имам стал
искать женщину, которую он мог бы спасти, но ни одной женщины не осталось в
округе -- все они разбежались и попрятались, напуганные приближением его
войска. Полный недобрых предчувствий, имам Ахмед отправился осматривать
храмы Лалибэлы, о чудесах которых ходили легенды.
Сумрачной и жуткой показалась ему Лалибэла. Бесчисленные подземелья,
ведущие в самые недра земли, заманивали души в преисподнюю. Странные,
вытянутые лики святых смотрели со стен, кто с укором, кто с насмешкой. Ужас
все глубже проникал в душу Ахмеда. Ужас и ненависть к чернокожим монахам в
черных рясах.
Войдя в Бетэ Ымануэл, самый большой и богатый храм Лалибэлы, имам
приказал развести посреди храма костер и согнать к нему всех монахов.
Странное дело -- чем ярче разгорался костер, тем сильнее бил Левшу озноб. Он
поднял глаза и замер -- с потолка жутким взглядом, полным угрозы, на него
смотрели двенадцать апостолов. Ахмед зажмурился и попытался справиться с
собою. Тут согнанные в церковь монахи затянули заунывные псалмы. Отзвуки их
голосов разносились по подземелью, рождая странное эхо, полное вздохов и
всхлипов. "Зов шайтана!" -- ужаснулся имам.
-- В огонь! -- пронзительно закричал Левша. -- Всех монахов -- в огонь!
Не успели воины выполнить приказ имама, как невесть откуда в храме
появилась женщина в белоснежных одеждах. Стремительно подбежав к костру, она
прыгнула в огонь. Мусульмане застыли в растерянности, не зная что делать.
-- Назад! -- крикнул Ахмед, но голос его сорвался и перешел в хрип. --
Назад!
Языки пламени лизали белые одежды женщины, но она, казалось, не
замечала этого. Спокойно стоя посреди бушующего костра она заговорила, и
имам вздрогнул -- ее голос был голосом из его сна:
-- Я не сгорю в огне, если ты, собака, поклянешься не губить Лалибэлу!
-- Клянусь! -- воскликнул Ахмед и бросился в костер, желая спасти
женщину. Воины, пришедшие, наконец, в себя, поспешили на помощь имаму. У
него, к счастью, успела только обгореть одежда, женщина же была вся покрыта
ужасными ожогами.
Имам постепенно приходил в себя, к нему возвращалось всегдашнее
спокойствие. В последний раз оглядев сумрачный храм он приказал:
-- По коням! Не будем задерживаться в этой обители шайтана!
Через час войско Ахмеда было уже далеко.
Так женщина спасла Лалибэлу.
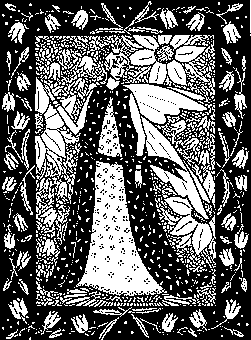 Ах, эта новая мода просто обворожительна! Особенно тем, что не успела
еще распространиться слишком широко.
Представьте себе, дорогая, нынче модно держать маленьких собачек, лучше
всего -- болонок. Ах, это так трогательно -- появиться в гостиной с этакой
малышкой на руках! Действует безотказно. К тому же, собачка совершенно
незаменима, если в разговоре вдруг возникает пауза. Ну, знаете, эти мерзкие
паузы, когда все вдруг понимают, что говорить-то им, в сущности, не о чем и
впадают в хандру. Теперь эта проблема решена -- вы просто начинаете ласково
болтать с собачкой, играть с ней, спрашивать у всех:"Ну разве не прелесть?"
и все такое прочее. Гости умиляются, улыбаются, ваш вечер спасен.
Но самое главное, что у этих милых собачек есть еще одно, тайное,
достоинство. Говорят, эта мода пришла из Азии. Вы берете чашку с молоком,
ложитесь, раздвигаете ноги и понемножку льете молоко на свои прелести.
Да-да, дорогая, прямо туда. А собачка начинает молоко подлизывать. Вот и
все. Говорят (сама я, конечно, не пробовала, нет-нет), что это ужасно
приятно, а главное, заниматься этим можно чуть не целый день.
Естественно, сперва собачку нужно немного выдрессировать. Я слышала,
были случаи -- кого-то покусали. Это, конечно, очень неприятно. Но зато
потом вам не понадобится даже молоко -- со временем собачка входит во вкус.
На всякий случай заведите двух -- вдруг одна устанет. Кстати, молоко можно
лить куда хотите.
Нет, конечно же, не все дамы, которые держат собачек, занимаются такими
вещами. Но многие. А самое смешное то, что мужчины даже не подозревают ни о
чем подобном. Один граф, говорят, подарил пару таких собачек своей дочери,
которая только что вернулась из монастырского пансиона. Ну и слава Богу, что
они не знают -- этот вандал, мой муж, выкинул бы Диди в окно, а я так к нему
привязалась! Ну, Диди, иди скорей к маме! Ну разве не прелесть?
Ах, эта новая мода просто обворожительна! Особенно тем, что не успела
еще распространиться слишком широко.
Представьте себе, дорогая, нынче модно держать маленьких собачек, лучше
всего -- болонок. Ах, это так трогательно -- появиться в гостиной с этакой
малышкой на руках! Действует безотказно. К тому же, собачка совершенно
незаменима, если в разговоре вдруг возникает пауза. Ну, знаете, эти мерзкие
паузы, когда все вдруг понимают, что говорить-то им, в сущности, не о чем и
впадают в хандру. Теперь эта проблема решена -- вы просто начинаете ласково
болтать с собачкой, играть с ней, спрашивать у всех:"Ну разве не прелесть?"
и все такое прочее. Гости умиляются, улыбаются, ваш вечер спасен.
Но самое главное, что у этих милых собачек есть еще одно, тайное,
достоинство. Говорят, эта мода пришла из Азии. Вы берете чашку с молоком,
ложитесь, раздвигаете ноги и понемножку льете молоко на свои прелести.
Да-да, дорогая, прямо туда. А собачка начинает молоко подлизывать. Вот и
все. Говорят (сама я, конечно, не пробовала, нет-нет), что это ужасно
приятно, а главное, заниматься этим можно чуть не целый день.
Естественно, сперва собачку нужно немного выдрессировать. Я слышала,
были случаи -- кого-то покусали. Это, конечно, очень неприятно. Но зато
потом вам не понадобится даже молоко -- со временем собачка входит во вкус.
На всякий случай заведите двух -- вдруг одна устанет. Кстати, молоко можно
лить куда хотите.
Нет, конечно же, не все дамы, которые держат собачек, занимаются такими
вещами. Но многие. А самое смешное то, что мужчины даже не подозревают ни о
чем подобном. Один граф, говорят, подарил пару таких собачек своей дочери,
которая только что вернулась из монастырского пансиона. Ну и слава Богу, что
они не знают -- этот вандал, мой муж, выкинул бы Диди в окно, а я так к нему
привязалась! Ну, Диди, иди скорей к маме! Ну разве не прелесть?
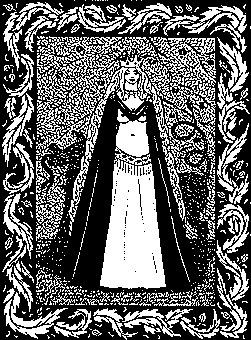 Мы ненавидим эту женщину. Но наша ненависть, как и многое другое,
ничего не значит для нее.
Город: беспорядочное и некрасивое скопление домов, зной и пыль.
Приезжие и события здесь одинаково редки. Всего здесь по одному: одна
церковь, одна почта, одна больница, одно питейное заведение. И один дом
терпимости, вотчина этой женщины.
Сложно сказать, сколько лет уже она его держит, но никак не меньше
десяти. Ей около сорока, и ее подопечные называют ее на французский манер
"мадам", настоящего же ее имени никто не знает. Говорят, она со своими
"девочками" на дружеской ноге, да и сама не отказывается обслужить клиента,
если тот проявляет желание.
Все свои дни она проводит одинаково. До полудня она отсыпается после
бессонной ночи. С часу дня и до полуночи ее можно неизменно видеть сидящей
перед дверьми своего заведения под выгоревшим полотняным навесом. Она сидит
в покойной, ленивой позе, с полузакрытыми глазами и совершенно без всякого
выражения на лице. Она сидит так час за часом, не двигаясь, словно языческий
идол. Мимо проходят люди, проезжают повозки, пробегают собаки -- она
остается такой же безразличной, ни на что не обращает внимания.
У этой женщины удивительное тело -- в любом платье она кажется голой,
любая ее поза кажется неприличной. Ее полнота только усиливает это
впечатление. Но тех, кто видит ее впервые, куда больше поражает ее лицо. Оно
некрасивое, но приятное -- большие темные глаза, полные губы -- и всегда,
при любых обстоятельствах, лишено какого-либо выражения. Так, наверное,
выглядела Ева до того, как познала добро и зло.
Мы ненавидим эту женщину. Она, как соринка в глазу, мешает и
раздражает. То, как невозмутимо она сидит целыми днями у дверей своего
позорного дома, приводит нас в бешенство. Мы склонны видеть в ее поведении
злой умысел, желание оскорбить и унизить нас. Но мы не смеем высказать наш
гнев: приличные женщины не должны даже замечать таких, как она. Каждая из
нас вынуждена по нескольку раз в день проходить мимо нее -- и не видеть.
Мужчины, напротив, считают, что эта женщина -- одна из главных
достопримечательностей нашего города. Всех гостей непременно водят
посмотреть на нее, и она имеет немалый успех. Те, кто не боятся
общественного мнения, порой даже останавливаются поболтать с ней. Она им
улыбается, но выражение ее лица от этого не меняется. Отвечает она
односложно, без выражения, явно с трудом подбирая слова. Единственная тема,
которая ее интересует -- ее заведение. Все остальное ей непонятно или не
трогает. Даже ее поклонники и защитники признают, что она непроходимо глупа.
Однажды она исчезла. Ни в два, ни в три часа дня ее все еще не было на
обычном месте. К четырем весть о ее отсутствии разнеслась по всему городу.
Небольшие группы людей стали собираться напротив ее дома, оживленно
обсуждая, куда могла деться "мадам", и высказывая самые невероятные
предположения. Кто-то даже сказал, что, возможно, она раскаялась в своих
грехах и удалилась в монастырь. Но фантазера дружно высмеяли -- все
прекрасно знали, что у этой женщины просто не хватит ума на такое сложное
предприятие.
Вдоволь наболтавшись, народ разошелся. Дом стоял тихий, грустный,
словно лишился жизни.
На следующий день "мадам" по-прежнему не было. Прохожие напрасно искали
глазами ее полную фигуру под полотняным навесом. Все чувствовали какую-то
пустоту, ведь мы привыкли видеть ее ежедневно. Казалось бы, мы должны были
обрадоваться ее исчезновению, некому стало колоть нам глаза, но, странное
дело, мы совсем не радовались.
На третий день мы, наконец, узнали где она. Доктор Алвариш рассказал
кому-то по-секрету, что "мадам" в больнице, куда он сам ее и поместил. По
его словам, ее жизнь была в большой опасности. Естественно, этот секрет
вскоре стал известен всему городу.
Эта женщина серьезно больна! Мы несказанно удивились -- нам почему-то
всегда казалось, что у нее железное здоровье. Чем же она больна? "Уж
наверное, какой-нибудь позорной болезнью" -- презрительно фыркали некоторые.
Но большинство, не слушая их, отправило депутацию к доктору Алваришу чтобы,
наконец, выяснить, что же происходит.
Доктор сначала пытался отделаться от депутации дам, делая вид, что не
понимает, о чем его спрашивают, но вскоре сдался. Он рассказал нам, что у
"мадам" опухоль мозга, и шансов на выздоровление почти никаких. Мало того,
оказалось, что ее странное поведение, речь и выражение лица -- тоже
следствия болезни. Еще маленькой девочкой она упала с лестницы и очень
сильно ударилась головой. С тех пор ее умственное развитие остановилось, а в
поведении появились странности.
Его слова словно окатили нас холодной водой. Значит, она вовсе не
хотела нам ничего плохого, а мы так ненавидели ее! Пристыженные и притихшие,
мы попрощались с доктором. Мы шли по улице молча, и сердце каждой из нас
жгло сознание собственной несправедливости и жестокости. Наконец, жена
аптекаря нарушила молчание.
-- Вы, конечно, можете осудить меня, -- сказала она, -- но я собираюсь
завтра навестить эту женщину в больнице и отнести ей немного фруктов.
Тут же и другие стали говорить, что они намереваются поступить точно
так же. Никто не посмел им возразить.
С тех пор больная "мадам" ежедневно получала больше гостинцев и
подарков, чем все остальные больные вместе взятые. К ее постели установилось
настоящее паломничество. Все дамы города в один голос утверждали, что
причиной нравственного падения этой женщины и ее позорной профессии была
только ее злосчастная болезнь. Мужчины не знали, что и подумать о таком
обороте дел, кое-кто даже пытался запретить своим женам навещать эту
женщину. Но мы стояли насмерть, и им пришлось сдаться. Мы самоотверженно
ухаживали за ней, впавшей в беспамятство и страшно исхудавшей. Мы
чувствовали, что только так можем искупить свою вину перед ней.
Как и предсказывал доктор Алвариш, через месяц она умерла. Мы
оплакивали ее, словно родную. У "мадам" не было наследников, и ее заведение
перешло в руки одной из ее "девочек". Эта негодница, молодая и неимоверно
наглая, заставила нас еще раз пожалеть о старых временах. Но когда она
попыталась восстановить обычай "мадам" и сама села под памятный навес у
дверей дома, толпа возмутилась и прогнала ее, закидав гнилыми овощами. Мы не
могли позволить ей оскорбить память этой женщины.
Мы ненавидим эту женщину. Но наша ненависть, как и многое другое,
ничего не значит для нее.
Город: беспорядочное и некрасивое скопление домов, зной и пыль.
Приезжие и события здесь одинаково редки. Всего здесь по одному: одна
церковь, одна почта, одна больница, одно питейное заведение. И один дом
терпимости, вотчина этой женщины.
Сложно сказать, сколько лет уже она его держит, но никак не меньше
десяти. Ей около сорока, и ее подопечные называют ее на французский манер
"мадам", настоящего же ее имени никто не знает. Говорят, она со своими
"девочками" на дружеской ноге, да и сама не отказывается обслужить клиента,
если тот проявляет желание.
Все свои дни она проводит одинаково. До полудня она отсыпается после
бессонной ночи. С часу дня и до полуночи ее можно неизменно видеть сидящей
перед дверьми своего заведения под выгоревшим полотняным навесом. Она сидит
в покойной, ленивой позе, с полузакрытыми глазами и совершенно без всякого
выражения на лице. Она сидит так час за часом, не двигаясь, словно языческий
идол. Мимо проходят люди, проезжают повозки, пробегают собаки -- она
остается такой же безразличной, ни на что не обращает внимания.
У этой женщины удивительное тело -- в любом платье она кажется голой,
любая ее поза кажется неприличной. Ее полнота только усиливает это
впечатление. Но тех, кто видит ее впервые, куда больше поражает ее лицо. Оно
некрасивое, но приятное -- большие темные глаза, полные губы -- и всегда,
при любых обстоятельствах, лишено какого-либо выражения. Так, наверное,
выглядела Ева до того, как познала добро и зло.
Мы ненавидим эту женщину. Она, как соринка в глазу, мешает и
раздражает. То, как невозмутимо она сидит целыми днями у дверей своего
позорного дома, приводит нас в бешенство. Мы склонны видеть в ее поведении
злой умысел, желание оскорбить и унизить нас. Но мы не смеем высказать наш
гнев: приличные женщины не должны даже замечать таких, как она. Каждая из
нас вынуждена по нескольку раз в день проходить мимо нее -- и не видеть.
Мужчины, напротив, считают, что эта женщина -- одна из главных
достопримечательностей нашего города. Всех гостей непременно водят
посмотреть на нее, и она имеет немалый успех. Те, кто не боятся
общественного мнения, порой даже останавливаются поболтать с ней. Она им
улыбается, но выражение ее лица от этого не меняется. Отвечает она
односложно, без выражения, явно с трудом подбирая слова. Единственная тема,
которая ее интересует -- ее заведение. Все остальное ей непонятно или не
трогает. Даже ее поклонники и защитники признают, что она непроходимо глупа.
Однажды она исчезла. Ни в два, ни в три часа дня ее все еще не было на
обычном месте. К четырем весть о ее отсутствии разнеслась по всему городу.
Небольшие группы людей стали собираться напротив ее дома, оживленно
обсуждая, куда могла деться "мадам", и высказывая самые невероятные
предположения. Кто-то даже сказал, что, возможно, она раскаялась в своих
грехах и удалилась в монастырь. Но фантазера дружно высмеяли -- все
прекрасно знали, что у этой женщины просто не хватит ума на такое сложное
предприятие.
Вдоволь наболтавшись, народ разошелся. Дом стоял тихий, грустный,
словно лишился жизни.
На следующий день "мадам" по-прежнему не было. Прохожие напрасно искали
глазами ее полную фигуру под полотняным навесом. Все чувствовали какую-то
пустоту, ведь мы привыкли видеть ее ежедневно. Казалось бы, мы должны были
обрадоваться ее исчезновению, некому стало колоть нам глаза, но, странное
дело, мы совсем не радовались.
На третий день мы, наконец, узнали где она. Доктор Алвариш рассказал
кому-то по-секрету, что "мадам" в больнице, куда он сам ее и поместил. По
его словам, ее жизнь была в большой опасности. Естественно, этот секрет
вскоре стал известен всему городу.
Эта женщина серьезно больна! Мы несказанно удивились -- нам почему-то
всегда казалось, что у нее железное здоровье. Чем же она больна? "Уж
наверное, какой-нибудь позорной болезнью" -- презрительно фыркали некоторые.
Но большинство, не слушая их, отправило депутацию к доктору Алваришу чтобы,
наконец, выяснить, что же происходит.
Доктор сначала пытался отделаться от депутации дам, делая вид, что не
понимает, о чем его спрашивают, но вскоре сдался. Он рассказал нам, что у
"мадам" опухоль мозга, и шансов на выздоровление почти никаких. Мало того,
оказалось, что ее странное поведение, речь и выражение лица -- тоже
следствия болезни. Еще маленькой девочкой она упала с лестницы и очень
сильно ударилась головой. С тех пор ее умственное развитие остановилось, а в
поведении появились странности.
Его слова словно окатили нас холодной водой. Значит, она вовсе не
хотела нам ничего плохого, а мы так ненавидели ее! Пристыженные и притихшие,
мы попрощались с доктором. Мы шли по улице молча, и сердце каждой из нас
жгло сознание собственной несправедливости и жестокости. Наконец, жена
аптекаря нарушила молчание.
-- Вы, конечно, можете осудить меня, -- сказала она, -- но я собираюсь
завтра навестить эту женщину в больнице и отнести ей немного фруктов.
Тут же и другие стали говорить, что они намереваются поступить точно
так же. Никто не посмел им возразить.
С тех пор больная "мадам" ежедневно получала больше гостинцев и
подарков, чем все остальные больные вместе взятые. К ее постели установилось
настоящее паломничество. Все дамы города в один голос утверждали, что
причиной нравственного падения этой женщины и ее позорной профессии была
только ее злосчастная болезнь. Мужчины не знали, что и подумать о таком
обороте дел, кое-кто даже пытался запретить своим женам навещать эту
женщину. Но мы стояли насмерть, и им пришлось сдаться. Мы самоотверженно
ухаживали за ней, впавшей в беспамятство и страшно исхудавшей. Мы
чувствовали, что только так можем искупить свою вину перед ней.
Как и предсказывал доктор Алвариш, через месяц она умерла. Мы
оплакивали ее, словно родную. У "мадам" не было наследников, и ее заведение
перешло в руки одной из ее "девочек". Эта негодница, молодая и неимоверно
наглая, заставила нас еще раз пожалеть о старых временах. Но когда она
попыталась восстановить обычай "мадам" и сама села под памятный навес у
дверей дома, толпа возмутилась и прогнала ее, закидав гнилыми овощами. Мы не
могли позволить ей оскорбить память этой женщины.
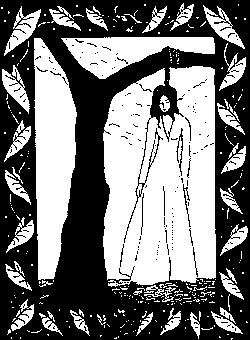 Госпожа Якимото совершенно скомпрометировала себя. Не знаю, как у нее
еще хватает нахальства после всего случившегося показываться при дворе. Куда
только смотрит ее муж! Представьте, она явилась на прием к принцу в платье,
где нижний слой переходил из салатового в травяной, средний -- из
изумрудного в небесно-синий, а верхний -- из персикового в цикламеновый.
Чтобы выбрать такое сочетание цветов надо быть либо слепой, либо не обладать
ни зернышком вкуса. Когда она вошла, разговоры смолкли, и все присутствующие
начали пялить на нее глаза -- конечно, это невежливо, но никто не смог
устоять. Даже принц прервал свой разговор с господином Судзуки и не меньше
минуты смотрел на нее. И что вы думаете? Госпожа Якимото, нимало не
смутившись, села неподалеку от принца и, приняв его взгляд за знак
восхищения, начала строить ему глазки. Принц подчеркнуто не обращал на нее
никакого внимания. Придворные стали шушукаться. Во всем ее облике была такая
вопиющая безвкусица, что это невольно привлекало всеобщее внимание. А она
считала, что все от нее в восторге.
Говорят, принц был так раздражен ее безобразным поведением, что
господина Якимото скоро сошлют в отдаленную провинцию. И все из-за
скандального, безвкусного платья. Право, мужчинам стоило бы обращать
побольше внимания на наряды своих жен.
Госпожа Якимото совершенно скомпрометировала себя. Не знаю, как у нее
еще хватает нахальства после всего случившегося показываться при дворе. Куда
только смотрит ее муж! Представьте, она явилась на прием к принцу в платье,
где нижний слой переходил из салатового в травяной, средний -- из
изумрудного в небесно-синий, а верхний -- из персикового в цикламеновый.
Чтобы выбрать такое сочетание цветов надо быть либо слепой, либо не обладать
ни зернышком вкуса. Когда она вошла, разговоры смолкли, и все присутствующие
начали пялить на нее глаза -- конечно, это невежливо, но никто не смог
устоять. Даже принц прервал свой разговор с господином Судзуки и не меньше
минуты смотрел на нее. И что вы думаете? Госпожа Якимото, нимало не
смутившись, села неподалеку от принца и, приняв его взгляд за знак
восхищения, начала строить ему глазки. Принц подчеркнуто не обращал на нее
никакого внимания. Придворные стали шушукаться. Во всем ее облике была такая
вопиющая безвкусица, что это невольно привлекало всеобщее внимание. А она
считала, что все от нее в восторге.
Говорят, принц был так раздражен ее безобразным поведением, что
господина Якимото скоро сошлют в отдаленную провинцию. И все из-за
скандального, безвкусного платья. Право, мужчинам стоило бы обращать
побольше внимания на наряды своих жен.
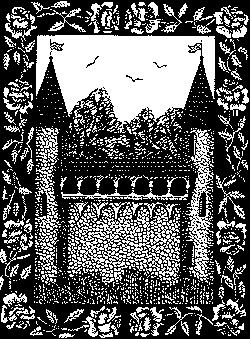 Нелегко служить Великой Богине. Подумай еще раз, прежде чем выбрать
этот путь. Он хорош для тех, что сильны духом и телом, а всем остальным
лучше держаться от него подальше. Оступиться легко, и тогда уже не
поднимешься. Великая Богиня не прощает ошибок и слабостей.
Начинают все в Нижнем Храме. Этот лик Богини обращен к простому люду.
Любой может прийти сюда и за гроши получить приглянувшуюся женщину. У тех,
кто проходит испытание в Нижнем Храме, нет ничего своего -- ни денег, ни
даже одежды. В любое время дня и ночи они должны отдаваться пожелавшему их
мужчине. Отказывать -- нельзя. И никто не знает, сколько ты проведешь там --
неделю, месяц, год... Это решают Высшие. По признакам, известным им одним,
они выбирают тех, кто готов к дальнейшему посвящению. Говорят, избираются те
женщины, которые хороши собой и способны всегда дарить любовь с радостью.
Все прочие остаются в Нижнем Храме навсегда.
Те, кто прошел Нижний Храм, обучаются в Высоком искусству любви и
смерти и становятся жрицами Богини. Нет ничего такого, чего жрицы не умеют в
любви. Цари -- и те мечтают о том, чтобы разделить с ними ложе. Но кроме
искусства любви жрицы владеют и искусством смерти. Им известны все яды и
противоядия, и они могут убить сильного воина одним ударом кинжала. Горе
тому, кто попробует насильно навязать свою любовь жрице Богини! Они вольны
сами избирать себе любовников и лишь часть заработанных денег отдают в Храм
-- на оставшиеся же покупают себе роскошные наряды и драгоценные украшения.
Этих жриц легко узнать -- в знак своей свободы и власти над мужчиной они
ходят без покрывала и охраны.
Те, за кем Высшие замечают склонность к наживе, дурной нрав, жестокость
или гордыню, в любой момент могут быть отправлены обратно в Нижний Храм на
всю оставшуюся жизнь. Другие -- и их немало -- вскоре становятся женами
царей и вельмож. Нужно только внести большой выкуп Храму. И лишь немногие
избранные принимают следующее посвящение. Чтобы удостоиться этой чести нужно
изжить страсти, а также иметь острый ум и желание познать тайны.
Те, в ком Высшие находят эти черты, попадают в Тайный Храм, и сами
становятся Высшими. Они обучаются всем наукам и познают тайны Богини. Высшим
подвластны Жизнь и Смерть, Радость и Горе. Звезды они читают как открытую
книгу. Для них нет ничего невозможного.
Высшие обязаны жить просто и небогато и не иметь секретов друг от
друга. Помыслы их должны быть чисты и направлены лишь на служение Богине. Те
из Высших, кто использует знания в низменных целях, а также те, кто
разглашает тайны Богини, предаются смерти. Их обучение длится до конца жизни
-- у Великой Богини немало тайн!
Говорят -- но никто не знает точно -- что есть еще одна ступень
посвящения, Тайна Тайн. Мудрейшие из Высших владеют ею, но кто из них, и что
это за Тайна -- неведомо никому, кроме их самих.
Нелегко служить Великой Богине. Подумай еще раз, прежде чем выбрать
этот путь. Он хорош для тех, что сильны духом и телом, а всем остальным
лучше держаться от него подальше. Оступиться легко, и тогда уже не
поднимешься. Великая Богиня не прощает ошибок и слабостей.
Начинают все в Нижнем Храме. Этот лик Богини обращен к простому люду.
Любой может прийти сюда и за гроши получить приглянувшуюся женщину. У тех,
кто проходит испытание в Нижнем Храме, нет ничего своего -- ни денег, ни
даже одежды. В любое время дня и ночи они должны отдаваться пожелавшему их
мужчине. Отказывать -- нельзя. И никто не знает, сколько ты проведешь там --
неделю, месяц, год... Это решают Высшие. По признакам, известным им одним,
они выбирают тех, кто готов к дальнейшему посвящению. Говорят, избираются те
женщины, которые хороши собой и способны всегда дарить любовь с радостью.
Все прочие остаются в Нижнем Храме навсегда.
Те, кто прошел Нижний Храм, обучаются в Высоком искусству любви и
смерти и становятся жрицами Богини. Нет ничего такого, чего жрицы не умеют в
любви. Цари -- и те мечтают о том, чтобы разделить с ними ложе. Но кроме
искусства любви жрицы владеют и искусством смерти. Им известны все яды и
противоядия, и они могут убить сильного воина одним ударом кинжала. Горе
тому, кто попробует насильно навязать свою любовь жрице Богини! Они вольны
сами избирать себе любовников и лишь часть заработанных денег отдают в Храм
-- на оставшиеся же покупают себе роскошные наряды и драгоценные украшения.
Этих жриц легко узнать -- в знак своей свободы и власти над мужчиной они
ходят без покрывала и охраны.
Те, за кем Высшие замечают склонность к наживе, дурной нрав, жестокость
или гордыню, в любой момент могут быть отправлены обратно в Нижний Храм на
всю оставшуюся жизнь. Другие -- и их немало -- вскоре становятся женами
царей и вельмож. Нужно только внести большой выкуп Храму. И лишь немногие
избранные принимают следующее посвящение. Чтобы удостоиться этой чести нужно
изжить страсти, а также иметь острый ум и желание познать тайны.
Те, в ком Высшие находят эти черты, попадают в Тайный Храм, и сами
становятся Высшими. Они обучаются всем наукам и познают тайны Богини. Высшим
подвластны Жизнь и Смерть, Радость и Горе. Звезды они читают как открытую
книгу. Для них нет ничего невозможного.
Высшие обязаны жить просто и небогато и не иметь секретов друг от
друга. Помыслы их должны быть чисты и направлены лишь на служение Богине. Те
из Высших, кто использует знания в низменных целях, а также те, кто
разглашает тайны Богини, предаются смерти. Их обучение длится до конца жизни
-- у Великой Богини немало тайн!
Говорят -- но никто не знает точно -- что есть еще одна ступень
посвящения, Тайна Тайн. Мудрейшие из Высших владеют ею, но кто из них, и что
это за Тайна -- неведомо никому, кроме их самих.
 Студент Би Гунь был сиротой и очень беден. Хотя он отличался умом и
прилежанием, ему не везло на экзаменах. После того, как Би не прошел в
третий раз, он так огорчился, что забросил ученье и начал пить. Каждую ночь
пропадал у приятелей на шумных пирушках. Вскоре и то немногое, что имел,
утопил в винной чаше.
Все вокруг от него отвернулись с презрением. Но я видела, что беды Би
-- лишь временны, и что его ждет большое будущее. Мы жили по соседству, дома
наши разделял лишь маленький садик, и я часто видела, как Би занимается или
гуляет. В то время я уже овдовела, но было мне не больше двадцати с чем-то
лет.
Как-то вечером я прокралась к его дому, заглянула в окно и увидела, что
Би сидит подперев голову рукой и плачет. Так мне его стало жалко, что я
вошла к нему и сказала:
-- Господин Гунь, перестаньте терзаться! Ваша ученость столь велика и
блестяща, что рано или поздно будет оценена по заслугам. Имейте терпенье!
Он смотрел на меня, вытаращив глаза, думая, верно, что я дух или лиса.
Я же представилась, объяснила, кто я такая и продолжала:
-- Есть у меня немного денег, и, чтобы помочь вам, вот что хочу
предложить. Возьмите меня служанкой при совке и метелке, и все, что я имею,
станет вашим. Оба мы свободны, родни у нас нет, так почему бы нам не помочь
друг другу? Мне с вами будет не так одиноко.
Стал он думать, посмотрел на меня -- видит, я не красавица, но и не
урод, выгляжу чисто и прилично. Подумал, подумал и согласился. В тот же день
переехал ко мне, и мы соединились на ложе.
Первое время его тянуло на старое -- на пирушки с друзьями. Хотелось
похвастаться им, что вот, снова у него завелсь деньги. Но я сказала:
-- Господин Гунь, я не для того предложила вам все свое состояние, чтоб
вы его спустили с приятелями. Не денег мне жалко -- больно видеть, как вы
сами себе вредите. Отдайте лучше друзьям долги, а время свое посвятите
подготовке к экзаменам.
Он согласился со мной, попросил прощения, и с тех пор с утра до ночи
прилежно занимался. Я же вела хозяйство и старалась, чтобы он ни в чем не
терпел нужды. И что же? На этот раз труд Би был не напрасен -- на ближайших
экзаменах он прошел в числе первых.
С этого дня он быстро пошел в гору, получая одну почетную должность за
другой. Дом наш с каждым годом становился все богаче, а Би пользовался все
большим уважением. И детки у нас родились хорошие, девочка и мальчик. Верно
говорят -- если уж счастье приходит, то во всем.
Прожили мы так больше десяти лет, как вдруг на Би что-то нашло. Ходит
задумчивый, мрачный, словно околдован. Я его спрашиваю: "Что за горе?" -- он
молчит. Опять спрашиваю -- опять молчит. Наконец, открылся:
-- На последнем весеннем празднике встретил я деву, прекрасную, как
драгоценная яшма. Рассмеялась она -- и словно сердце у меня вынула. Стал
разузнавать, кто такая -- оказалось, дочь судьи Чжоу. Хорошо его знаю,
достойный человек. Пришел я к нему с разговором о дочери, а он ответил, что
о лучшем зяте и не мечтал, но дочь его должна быть только первой женой,
никак не наложницей. А у меня есть уже жена и, значит, это невозможно. Вот я
и хожу, тоскую по красавице. Делать нечего, придется, верно, забыть ее.
И вздохнул так горько, что сердце сжалось. Я ответила:
-- Эх, господин Би Гунь, неужели вы так плохо знаете свою недостойную
супругу? Для меня ведь нет ничего важнее вашего счастья. Да и какая, право,
разница, первой я буду женой или второй? Я же знаю, вы человек достойный, ни
меня, ни моих детей не обидите. Так что засылайте сватов -- я согласна
поменяться местами с вашей драгоценной яшмой.
Радость Би была беспредельна. Похвалив меня, как совершеннейшую из жен,
он тут же побежал готовиться к свадьбе. Вскоре определили день, и красавица
Вторая Чжоу явилась в наш дом в наряде феникса. Посмотрела я на нее: сущее
дитя, только недавно начала делать прическу. И красоты несравненной, а
взгляд кроткий и немного испуганный.
-- Не волнуйтесь, госпожа, -- успокоила я ее, -- это ваш дом, и все
здесь рады служить вам. Во мне вы никогда не найдете соперницу, я рада хоть
немного помочь вашему счастью с Би.
Смотрю -- красавица совсем смутилась, зарделась, словно пион. Тогда я
отвела ее в брачный покой и там оставила, еще раз пожелав счастья.
Вскоре я поняла, что Чжоу в самом деле еще ребенок. Сначала я, как
полагается, передала все дела в ее руки. Но в хозяйстве она ничего не
понимала, да и не пыталась понимать, зато целыми днями веселилась и играла.
Смех у нее был такой звонкий и приятный, что в доме нашем словно потеплело.
А мои дети полюбили ее больше всех и всегда участвовали в ее проказах. Да
вот только через месяц такой жизни дом и владения наши пришли в беспорядок.
То того не хватает, то другого, слуги обнаглели, разжирели, а сколько всего
наворовали -- и не сосчитать. Би делал вид, что ничего не замечает, но ходил
недовольный. Решила я тогда с Чжоу поговорить. Только завела речь о
хозяйстве, как вдруг красавица наша возьми да расплачься:
-- Ох, -- говорит, -- знаю я, что хозяйка из меня никудышная! Вот если
бы вы согласились мне помочь, а еще лучше -- вести все хозяйство сами, как
прежде! Прошу вас!
Ну, это легко было уладить. Успокоила я ее, и с тех пор занималась всем
сама. Ах, как повеселела наша птичка! Теперь ее звонкий смех стал звучать
еще чаще, а я не могла нарадоваться ее счастью.
Чуть погодя я уладила и еще одно дело. Лет мне было уже немало, и
красота моя совсем поблекла. Но первое время Би иногда приходил ко мне по
ночам, больше по привычке и не желая меня обижать. А я подумала: к чему мне
разлучать мужа с его драгоценной яшмой? Была и я когда-то молодой, успела
порадоваться на ложе, а что теперь для меня все эти наслаждения? Стала
закрывать на ночь свою дверь, а если Би приходил -- говорила, что устала.
Ну, он не слишком настаивал -- скоро перестал приходить.
Некоторые начинают меня жалеть, что, вот, мол, муж взял молоденькую, да
еще сделал меня второй женой. Ничего-то они не понимают. Я в своем доме
окружена почетом и любовью, как мало кто из первых жен, а как я называюсь --
разве в том дело?
Студент Би Гунь был сиротой и очень беден. Хотя он отличался умом и
прилежанием, ему не везло на экзаменах. После того, как Би не прошел в
третий раз, он так огорчился, что забросил ученье и начал пить. Каждую ночь
пропадал у приятелей на шумных пирушках. Вскоре и то немногое, что имел,
утопил в винной чаше.
Все вокруг от него отвернулись с презрением. Но я видела, что беды Би
-- лишь временны, и что его ждет большое будущее. Мы жили по соседству, дома
наши разделял лишь маленький садик, и я часто видела, как Би занимается или
гуляет. В то время я уже овдовела, но было мне не больше двадцати с чем-то
лет.
Как-то вечером я прокралась к его дому, заглянула в окно и увидела, что
Би сидит подперев голову рукой и плачет. Так мне его стало жалко, что я
вошла к нему и сказала:
-- Господин Гунь, перестаньте терзаться! Ваша ученость столь велика и
блестяща, что рано или поздно будет оценена по заслугам. Имейте терпенье!
Он смотрел на меня, вытаращив глаза, думая, верно, что я дух или лиса.
Я же представилась, объяснила, кто я такая и продолжала:
-- Есть у меня немного денег, и, чтобы помочь вам, вот что хочу
предложить. Возьмите меня служанкой при совке и метелке, и все, что я имею,
станет вашим. Оба мы свободны, родни у нас нет, так почему бы нам не помочь
друг другу? Мне с вами будет не так одиноко.
Стал он думать, посмотрел на меня -- видит, я не красавица, но и не
урод, выгляжу чисто и прилично. Подумал, подумал и согласился. В тот же день
переехал ко мне, и мы соединились на ложе.
Первое время его тянуло на старое -- на пирушки с друзьями. Хотелось
похвастаться им, что вот, снова у него завелсь деньги. Но я сказала:
-- Господин Гунь, я не для того предложила вам все свое состояние, чтоб
вы его спустили с приятелями. Не денег мне жалко -- больно видеть, как вы
сами себе вредите. Отдайте лучше друзьям долги, а время свое посвятите
подготовке к экзаменам.
Он согласился со мной, попросил прощения, и с тех пор с утра до ночи
прилежно занимался. Я же вела хозяйство и старалась, чтобы он ни в чем не
терпел нужды. И что же? На этот раз труд Би был не напрасен -- на ближайших
экзаменах он прошел в числе первых.
С этого дня он быстро пошел в гору, получая одну почетную должность за
другой. Дом наш с каждым годом становился все богаче, а Би пользовался все
большим уважением. И детки у нас родились хорошие, девочка и мальчик. Верно
говорят -- если уж счастье приходит, то во всем.
Прожили мы так больше десяти лет, как вдруг на Би что-то нашло. Ходит
задумчивый, мрачный, словно околдован. Я его спрашиваю: "Что за горе?" -- он
молчит. Опять спрашиваю -- опять молчит. Наконец, открылся:
-- На последнем весеннем празднике встретил я деву, прекрасную, как
драгоценная яшма. Рассмеялась она -- и словно сердце у меня вынула. Стал
разузнавать, кто такая -- оказалось, дочь судьи Чжоу. Хорошо его знаю,
достойный человек. Пришел я к нему с разговором о дочери, а он ответил, что
о лучшем зяте и не мечтал, но дочь его должна быть только первой женой,
никак не наложницей. А у меня есть уже жена и, значит, это невозможно. Вот я
и хожу, тоскую по красавице. Делать нечего, придется, верно, забыть ее.
И вздохнул так горько, что сердце сжалось. Я ответила:
-- Эх, господин Би Гунь, неужели вы так плохо знаете свою недостойную
супругу? Для меня ведь нет ничего важнее вашего счастья. Да и какая, право,
разница, первой я буду женой или второй? Я же знаю, вы человек достойный, ни
меня, ни моих детей не обидите. Так что засылайте сватов -- я согласна
поменяться местами с вашей драгоценной яшмой.
Радость Би была беспредельна. Похвалив меня, как совершеннейшую из жен,
он тут же побежал готовиться к свадьбе. Вскоре определили день, и красавица
Вторая Чжоу явилась в наш дом в наряде феникса. Посмотрела я на нее: сущее
дитя, только недавно начала делать прическу. И красоты несравненной, а
взгляд кроткий и немного испуганный.
-- Не волнуйтесь, госпожа, -- успокоила я ее, -- это ваш дом, и все
здесь рады служить вам. Во мне вы никогда не найдете соперницу, я рада хоть
немного помочь вашему счастью с Би.
Смотрю -- красавица совсем смутилась, зарделась, словно пион. Тогда я
отвела ее в брачный покой и там оставила, еще раз пожелав счастья.
Вскоре я поняла, что Чжоу в самом деле еще ребенок. Сначала я, как
полагается, передала все дела в ее руки. Но в хозяйстве она ничего не
понимала, да и не пыталась понимать, зато целыми днями веселилась и играла.
Смех у нее был такой звонкий и приятный, что в доме нашем словно потеплело.
А мои дети полюбили ее больше всех и всегда участвовали в ее проказах. Да
вот только через месяц такой жизни дом и владения наши пришли в беспорядок.
То того не хватает, то другого, слуги обнаглели, разжирели, а сколько всего
наворовали -- и не сосчитать. Би делал вид, что ничего не замечает, но ходил
недовольный. Решила я тогда с Чжоу поговорить. Только завела речь о
хозяйстве, как вдруг красавица наша возьми да расплачься:
-- Ох, -- говорит, -- знаю я, что хозяйка из меня никудышная! Вот если
бы вы согласились мне помочь, а еще лучше -- вести все хозяйство сами, как
прежде! Прошу вас!
Ну, это легко было уладить. Успокоила я ее, и с тех пор занималась всем
сама. Ах, как повеселела наша птичка! Теперь ее звонкий смех стал звучать
еще чаще, а я не могла нарадоваться ее счастью.
Чуть погодя я уладила и еще одно дело. Лет мне было уже немало, и
красота моя совсем поблекла. Но первое время Би иногда приходил ко мне по
ночам, больше по привычке и не желая меня обижать. А я подумала: к чему мне
разлучать мужа с его драгоценной яшмой? Была и я когда-то молодой, успела
порадоваться на ложе, а что теперь для меня все эти наслаждения? Стала
закрывать на ночь свою дверь, а если Би приходил -- говорила, что устала.
Ну, он не слишком настаивал -- скоро перестал приходить.
Некоторые начинают меня жалеть, что, вот, мол, муж взял молоденькую, да
еще сделал меня второй женой. Ничего-то они не понимают. Я в своем доме
окружена почетом и любовью, как мало кто из первых жен, а как я называюсь --
разве в том дело?
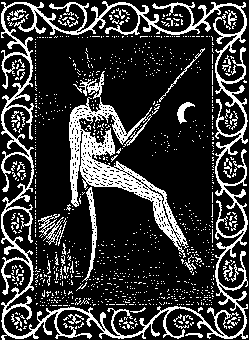 Конечно, вы ненавидите его. Еще бы! Вы -- всего лишь бледные
благовоспитанные тени, копающиеся в позавчерашнем дерьме. Он среди вас --
как взрыв, он разносит все в клочья. И этим он мне нравится больше всего.
Для этого он мне и нужен -- разнести все в клочья.
Вас шокирует и бесит его грубость. Меня она возбуждает. Вот и
прекрасно, что у него грязные руки, и он, конечно, не читал Мильтона. Как я
веселилась когда привела его на это чинное чаепитие! Было так смешно
смотреть на вашу бессильную ярость -- ведь уничтожающие ледяные взгляды и
оскорбительные намеки до него просто не доходили! О, он вел себя как
настоящий варвар! Оглушительно хохотал, пихался локтями, сожрал подчистую
все, что было на столе. Под конец в ваших глазах явственно читался ужас. А я
сидела с самым скромным и невозмутимым видом, помешивала ложечкой чай и
ликовала. Когда, в качестве заключительного аккорда, он чуть не подрался с
папочкой, я почувствовала, что возбуждение разрывает меня на части. Мы
сбежали, но недалеко -- в ближайшую подворотню. Там он с огромным смаком
трахнул меня. Это был лучший день моей жизни.
Мне нравится, что он сильный, грубый зверь. Он даже пахнет зверем.
Мужчина. Неутомимый и жестокий самец. О, это совсем не похоже на ваше
малахольное вошканье под одеялом! Он может трахаться сколько угодно, когда
угодно и где угодно. Я кричу от восторга, когда его грязные руки безжалостно
тискают мое изнеженое тело -- я чувствую, оно оживает. Я ведь тоже из вашей
проклятой породы бледных теней, а он -- сама жизнь. Грубая, грязная,
жестокая -- но настоящая!
Ну уж нет, конечно, я не люблю его! Таких как он вообще нельзя любить.
Он же не прекрасный и галантный рыцарь, поющий под окном серенады, а
омерзительная помесь орангутанга со свиньей. О, я знаю ему цену. Он хорош в
постели (точнее, в подворотне), еще лучше он тем, что приводит вас в
бешенство. Он -- моя огнеопасная игрушка, мой динамит, которым я хотела бы
разнести всех вас и вашу паскудную жизнь. Вдребезги, в клочья!
Но самое ужасное -- во мне течет ваша отравленная кровь. Зараза
гнездится внутри меня. Я смотрю на жизнь вашими мертвыми глазами, и сердце
мое так же оледенело. Я одна из вас и ничего не могу с этим поделать, а все
мои игры -- только игры!
Конечно, вы ненавидите его. Еще бы! Вы -- всего лишь бледные
благовоспитанные тени, копающиеся в позавчерашнем дерьме. Он среди вас --
как взрыв, он разносит все в клочья. И этим он мне нравится больше всего.
Для этого он мне и нужен -- разнести все в клочья.
Вас шокирует и бесит его грубость. Меня она возбуждает. Вот и
прекрасно, что у него грязные руки, и он, конечно, не читал Мильтона. Как я
веселилась когда привела его на это чинное чаепитие! Было так смешно
смотреть на вашу бессильную ярость -- ведь уничтожающие ледяные взгляды и
оскорбительные намеки до него просто не доходили! О, он вел себя как
настоящий варвар! Оглушительно хохотал, пихался локтями, сожрал подчистую
все, что было на столе. Под конец в ваших глазах явственно читался ужас. А я
сидела с самым скромным и невозмутимым видом, помешивала ложечкой чай и
ликовала. Когда, в качестве заключительного аккорда, он чуть не подрался с
папочкой, я почувствовала, что возбуждение разрывает меня на части. Мы
сбежали, но недалеко -- в ближайшую подворотню. Там он с огромным смаком
трахнул меня. Это был лучший день моей жизни.
Мне нравится, что он сильный, грубый зверь. Он даже пахнет зверем.
Мужчина. Неутомимый и жестокий самец. О, это совсем не похоже на ваше
малахольное вошканье под одеялом! Он может трахаться сколько угодно, когда
угодно и где угодно. Я кричу от восторга, когда его грязные руки безжалостно
тискают мое изнеженое тело -- я чувствую, оно оживает. Я ведь тоже из вашей
проклятой породы бледных теней, а он -- сама жизнь. Грубая, грязная,
жестокая -- но настоящая!
Ну уж нет, конечно, я не люблю его! Таких как он вообще нельзя любить.
Он же не прекрасный и галантный рыцарь, поющий под окном серенады, а
омерзительная помесь орангутанга со свиньей. О, я знаю ему цену. Он хорош в
постели (точнее, в подворотне), еще лучше он тем, что приводит вас в
бешенство. Он -- моя огнеопасная игрушка, мой динамит, которым я хотела бы
разнести всех вас и вашу паскудную жизнь. Вдребезги, в клочья!
Но самое ужасное -- во мне течет ваша отравленная кровь. Зараза
гнездится внутри меня. Я смотрю на жизнь вашими мертвыми глазами, и сердце
мое так же оледенело. Я одна из вас и ничего не могу с этим поделать, а все
мои игры -- только игры!
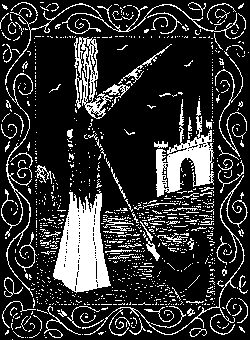 Когда император Василий женил своего сына Льва, все славили и
превозносили до небес его выбор. Феофана была совершенством красоты и
благочестия. А ее нрав, гордый и холодный, быть может, мало подходил жене,
зато был хорош для будущей императрицы.
Сам Лев, однако, не был в восторге от жены. Его раздражала безудержная
набожность Феофаны, а еще больше -- ее холодность, и по своей воле он
никогда бы на ней не женился. Но Василий не терпел, чтобы ему перечили, и
Лев из страха подчинился.
Вскоре после свадьбы оправдались его худшие ожидания. Набожность
Феофаны превосходила все разумные пределы и была совершенно неподабающа для
императрицы. Вся ее жизнь была посвящена Богу, и она не собиралась
отказываться от этого ради мужа. Ночью, едва уходили прислужники и
приближенные, Феофана покидала свое золоченое ложе и шла на соломенный тюфяк
и власяницы, разостланные на холодном полу. Всю ночь она проводила в
молитве, простирая руки к небу, воздавая хвалу Господу и моля о спасении
души. Естественно, об исполнении супружеских обязанностей в такие ночи не
могло быть и речи, а ночей таких становилось все больше и больше.
Императрица вела себя как монахиня, и с надеждой на рождение наследника
можно было проститься.
Вряд ли кого-то удивит, что в скором времени у Льва появилась другая
женщина. Зоя, дочь одного из придворных, выделялась красотой и отличалась
тем, чего недоставало Феофане -- мягкостью и живостью нрава. Но Феофана была
из тех женщин, которые хоть и не ценят мужчину, и мало в нем нуждаются, но
по доброй воле никому его не отдадут. Измена Льва оскорбила ее до глубины
души. Она пожаловалась свекру, хотя и знала, чем это может грозить ее мужу.
Василий славился крутостью нрава. Льва он всегда недолюбливал,
подозревая, что тот родился не от него. Однажды он едва не ослепил сына,
поверив клеветникам, доносившим, что Лев замышляет отцеубийство. И только
отсутствие других наследников удержало его руку. Узнав, как мало сын ценит
выбранную им жену, Василий впал в бешенство. Он вызвал Льва и тут же, не
слушая никаких оправданий и просьб, оттаскал его за волосы, а потом, бросив
наземь, избивал и топтал ногами, пока тот не стал обливаться кровью. Зою же
приказал против воли выдать замуж за первого попавшегося человека.
Так Феофана отстояла свои права на мужа и престол. Но вскоре ее
защитник Василий умер, и Лев стал единовластным господином Византии. Первым
его желанием было избавиться от ненавистной жены. Однако выяснилось, что это
не так просто. Народ был в восторге от Феофаны и ее благочестия, и, отправь
Лев жену в монастырь (где ей и было место с самого начала), мог случиться
бунт. К тому же ее поддерживали могущественные церковные патриархи, да и
повод для развода найти было нелегко. Смирившись и положившись на волю Божию
Лев прожил с нелюбимой женой еще десять лет.
Все кончилось так, как и должно было кончиться. Феофана умерла и
немедленно была причислена к лику святых. Лев вскоре после ее смерти женился
на Зое, которая к тому времени тоже овдовела. Неизвестно, Бог ли склонился к
мольбам Льва, или эти две столь долгожданные смерти произошли по
человеческой воле.
Когда император Василий женил своего сына Льва, все славили и
превозносили до небес его выбор. Феофана была совершенством красоты и
благочестия. А ее нрав, гордый и холодный, быть может, мало подходил жене,
зато был хорош для будущей императрицы.
Сам Лев, однако, не был в восторге от жены. Его раздражала безудержная
набожность Феофаны, а еще больше -- ее холодность, и по своей воле он
никогда бы на ней не женился. Но Василий не терпел, чтобы ему перечили, и
Лев из страха подчинился.
Вскоре после свадьбы оправдались его худшие ожидания. Набожность
Феофаны превосходила все разумные пределы и была совершенно неподабающа для
императрицы. Вся ее жизнь была посвящена Богу, и она не собиралась
отказываться от этого ради мужа. Ночью, едва уходили прислужники и
приближенные, Феофана покидала свое золоченое ложе и шла на соломенный тюфяк
и власяницы, разостланные на холодном полу. Всю ночь она проводила в
молитве, простирая руки к небу, воздавая хвалу Господу и моля о спасении
души. Естественно, об исполнении супружеских обязанностей в такие ночи не
могло быть и речи, а ночей таких становилось все больше и больше.
Императрица вела себя как монахиня, и с надеждой на рождение наследника
можно было проститься.
Вряд ли кого-то удивит, что в скором времени у Льва появилась другая
женщина. Зоя, дочь одного из придворных, выделялась красотой и отличалась
тем, чего недоставало Феофане -- мягкостью и живостью нрава. Но Феофана была
из тех женщин, которые хоть и не ценят мужчину, и мало в нем нуждаются, но
по доброй воле никому его не отдадут. Измена Льва оскорбила ее до глубины
души. Она пожаловалась свекру, хотя и знала, чем это может грозить ее мужу.
Василий славился крутостью нрава. Льва он всегда недолюбливал,
подозревая, что тот родился не от него. Однажды он едва не ослепил сына,
поверив клеветникам, доносившим, что Лев замышляет отцеубийство. И только
отсутствие других наследников удержало его руку. Узнав, как мало сын ценит
выбранную им жену, Василий впал в бешенство. Он вызвал Льва и тут же, не
слушая никаких оправданий и просьб, оттаскал его за волосы, а потом, бросив
наземь, избивал и топтал ногами, пока тот не стал обливаться кровью. Зою же
приказал против воли выдать замуж за первого попавшегося человека.
Так Феофана отстояла свои права на мужа и престол. Но вскоре ее
защитник Василий умер, и Лев стал единовластным господином Византии. Первым
его желанием было избавиться от ненавистной жены. Однако выяснилось, что это
не так просто. Народ был в восторге от Феофаны и ее благочестия, и, отправь
Лев жену в монастырь (где ей и было место с самого начала), мог случиться
бунт. К тому же ее поддерживали могущественные церковные патриархи, да и
повод для развода найти было нелегко. Смирившись и положившись на волю Божию
Лев прожил с нелюбимой женой еще десять лет.
Все кончилось так, как и должно было кончиться. Феофана умерла и
немедленно была причислена к лику святых. Лев вскоре после ее смерти женился
на Зое, которая к тому времени тоже овдовела. Неизвестно, Бог ли склонился к
мольбам Льва, или эти две столь долгожданные смерти произошли по
человеческой воле.
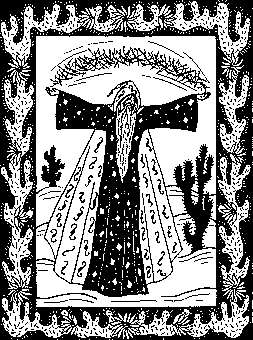 Ты спрашиваешь, отец, почему я оставила монастырь, не приняв постриг,
которого так желала? Мне бы не хотелось говорить об этом. Но если ты
требуешь, чтобы я рассказала -- я подчиняюсь.
Ты знаешь, что с самых юных лет все мои помыслы были обращены только к
Богу. Служить Ему в меру своих скудных сил было моим единственным желанием.
И я благодарна тебе за то, что ты не противился Божьей воле. Когда я приняла
решение удалиться от мира в тихую обитель, ты благословил меня и добился,
чтобы меня взяли на послушание в монастырь Св. Н., один из лучших и
знаменитейших монастырей во всем христианском мире. И вот теперь твоя дочь
возвращается с поникшей головой, не желая и слышать о дальнейшем пребывании
в этой обители. Конечно, ты вправе спросить -- почему?
Когда я приехала туда, мне показалось, что я найду здесь истинный рай
земной. Вокруг монастыря, стоящего на пологом холме, раскинулись цветущие
сады и тучные нивы. Сам монастырь, выстроенный из белоснежного камня,
выглядит прекрасно и строго, как и подобает дому Божьему. Сестры встретили
меня приветливо, и даже сама аббатисса ласково улыбнулась и выразила
надежду, что я окажусь достойна высокого жребия, который меня ожидает.
Келья, в которой меня поместили, была невелика и бедно обставлена, но сияла
чистотой, а на стене висело чудесное серебряное распятие самой тонкой
работы. Оставшись одна, я горячо возблагодарила Господа за все его милости к
недостойной рабе своей.
Несколько дней прошли, словно в чудесном сне, среди тишины и молитв. За
это время я немного сблизилась с сестрой Агнессой, которая была примерно
моих лет. Молодая девушка из хорошей семьи, она выглядела кроткой и
богобоязненной. Меня немного удивило, что она так худа и изможденна, а
вокруг ее ярко-горящих глаз залегли глубокие тени. Еще больше я удивилось,
когда заметила, что и лица многих других сестер несут подобные следы
лишений. Жизнь в монастыре спокойна и нетороплива, еда -- вполне достаточна,
и мне было непонятно, что могло наложить такой отпечаток на лица монахинь.
Любопытство побудило меня спросить об этом сестру Агнессу.
-- О, Вы заметили! -- воскликнула она, и ее худое личико озарилось. --
Это отсвет небесного блаженства, да еще бессонные ночи. Наша плоть, увы,
слабее духа -- близость духовного сжигает ее, словно очистительный огонь. Но
я удивляюсь, как Вы не догадались? Наша патронесса -- Святая Н., и многих из
сестер Господь сподобил идти по ее стопам.
И она рассказала мне, что многие сестры обители имеют чудный дар: по
ночам им являются в видениях святые и великомученики, а аббатиссе -- даже
сам Спаситель. Ей самой, например, является Святой Реми. Он приходит
сияющий, принося благоухание райских садов, и его приближение наполняет ее
нестерпимым блаженством. Когда Агнесса рассказывала все это, ее глаза начали
гореть еще ярче, все ее тоненькое тело тряслось, а на лице появилось
странное, смутно мне знакомое выражение наслаждения пополам с мучением. Она
хотела было рассказать что-то еще, но тут я прервала ее вопросом, неожиданно
пришедшим мне на ум:
-- А Вы уверены, дорогая Агнесса, что эти видения имеют божественное
происхождение? Ведь всем известно, что лукавый может принимать самые
прекрасные и соблазнительные обличья чтобы искушать людей. Я слышала даже,
что Жанне Д'Арк, которую церковный суд признал колдуньей, являлись бесы в
образах Богоматери и архангела Михаила. А вдруг что-то подобное происходит и
с Вами?
О, как она взвилась, с какой горячностью и яростью (вовсе не подобающей
монахине) начала опровергать мои слова! Неужели я думаю, что вся обитель
совращена нечистым? Об этих видениях известно самому папе, благословившему
сестер. И сомневаться, подобно мне -- греховно! Быть может, я и видения
Святой Н. припишу дьяволу?! Агнесса то кричала, яростно размахивая руками,
то вдруг начинала шипеть, словно змея, а во взгляде ее ясно читалась
ненависть. Я же сидела, боясь пошевельнуться, и мне казалось, что еще
немного, и она набросится на меня. И вдруг я вспомнила -- да, вспомнила! --
где я видела это странное выражение, наполовину наслаждение, наполовину
страдание. Ты помнишь, отец, нашу служанку Жюли? Как-то раз, пару лет назад,
я искала ее по всему дому, чтобы послать с поручением, и нигде не могла
найти. Тогда я решила посмотреть, не в своей ли она комнате. Тихонько
постучав, я приоткрыла дверь и остолбенела: Жюли лежала на постели с
каким-то мужчиной! Чем они занимались ты догадаешься сам, и они были так
увлечены этим делом, что даже не заметили моего появления. Я же была так
поражена, что просто приросла к земле, и с полминуты не могла сообразить,
что мне нужно немедленно закрыть дверь и уйти. И вот тогда я и увидела это
непонятное выражение на лице Жюли! Помню, оно-то и поразило меня больше
всего в этой сцене. Наконец, я опомнилась и незаметно ушла, а вскоре под
каким-то предлогом прогнала эту бесстыжую Жюли.
Агнесса продолжала бушевать, а я смотрела на нее и не могла поверить.
Так вот какие видения у монахинь этой обители! И ведь все они из лучших
семей, а слава монастыря Святой Н. гремит на всю Францию! Что же тогда
творится в других монастырях, не таких знаменитых? Страшно даже подумать об
этом. Не может быть и речи о том, чтобы остаться здесь хоть на одну лишнюю
минуту!
Приняв такое решение, я, как могла, успокоила Агнессу и извинилась
перед ней за свои сомнения. Не знаю, поверила она мне или нет, но сделала
вид, что поверила. Приближалось время вечерней трапезы, и мы с ней
расстались. Во время ужина я с огромным трудом заставляла себя сидеть рядом
с сестрами, которые еще вчера казались мне воплощением всех добродетелей.
Ночь я провела без сна, благодаря Господа за то, что он вовремя предостерег
и спас меня.
На следующее утро я, грустная и заплаканная, пришла к аббатиссе и
сказала, что получила известие о болезни своего отца, и мне необходимо
немедленно ехать к нему. Надеюсь, Господь простит мне эту ложь ради
спасения. Аббатисса выслушала меня с пониманием и дала разрешение на отъезд.
Час спустя я уже выезжала за ворота монастыря. Белый монастырь на холме
казался таким же мирным и прекрасным, как недавно, но теперь я знала, что
это лишь видимость, что на самом деле он напоминает прекрасный плод, внутри
которого гнездятся черви. О, я была так счастлива вырваться из этой обители
порока!
И вот я здесь. О, дорогой отец, простишь ли ты меня? Моя мечта о
служении Господу в тихой обители повержена в прах. Я никогда, никогда больше
по своей воле не переступлю порог ни одного монастыря. А что до моего
будущего -- решай сам, отец. У меня нет теперь ни сил, ни права что-либо
требовать от тебя. Я даже думаю, что самое лучшее для меня -- поскорее выйти
замуж.
Ты спрашиваешь, отец, почему я оставила монастырь, не приняв постриг,
которого так желала? Мне бы не хотелось говорить об этом. Но если ты
требуешь, чтобы я рассказала -- я подчиняюсь.
Ты знаешь, что с самых юных лет все мои помыслы были обращены только к
Богу. Служить Ему в меру своих скудных сил было моим единственным желанием.
И я благодарна тебе за то, что ты не противился Божьей воле. Когда я приняла
решение удалиться от мира в тихую обитель, ты благословил меня и добился,
чтобы меня взяли на послушание в монастырь Св. Н., один из лучших и
знаменитейших монастырей во всем христианском мире. И вот теперь твоя дочь
возвращается с поникшей головой, не желая и слышать о дальнейшем пребывании
в этой обители. Конечно, ты вправе спросить -- почему?
Когда я приехала туда, мне показалось, что я найду здесь истинный рай
земной. Вокруг монастыря, стоящего на пологом холме, раскинулись цветущие
сады и тучные нивы. Сам монастырь, выстроенный из белоснежного камня,
выглядит прекрасно и строго, как и подобает дому Божьему. Сестры встретили
меня приветливо, и даже сама аббатисса ласково улыбнулась и выразила
надежду, что я окажусь достойна высокого жребия, который меня ожидает.
Келья, в которой меня поместили, была невелика и бедно обставлена, но сияла
чистотой, а на стене висело чудесное серебряное распятие самой тонкой
работы. Оставшись одна, я горячо возблагодарила Господа за все его милости к
недостойной рабе своей.
Несколько дней прошли, словно в чудесном сне, среди тишины и молитв. За
это время я немного сблизилась с сестрой Агнессой, которая была примерно
моих лет. Молодая девушка из хорошей семьи, она выглядела кроткой и
богобоязненной. Меня немного удивило, что она так худа и изможденна, а
вокруг ее ярко-горящих глаз залегли глубокие тени. Еще больше я удивилось,
когда заметила, что и лица многих других сестер несут подобные следы
лишений. Жизнь в монастыре спокойна и нетороплива, еда -- вполне достаточна,
и мне было непонятно, что могло наложить такой отпечаток на лица монахинь.
Любопытство побудило меня спросить об этом сестру Агнессу.
-- О, Вы заметили! -- воскликнула она, и ее худое личико озарилось. --
Это отсвет небесного блаженства, да еще бессонные ночи. Наша плоть, увы,
слабее духа -- близость духовного сжигает ее, словно очистительный огонь. Но
я удивляюсь, как Вы не догадались? Наша патронесса -- Святая Н., и многих из
сестер Господь сподобил идти по ее стопам.
И она рассказала мне, что многие сестры обители имеют чудный дар: по
ночам им являются в видениях святые и великомученики, а аббатиссе -- даже
сам Спаситель. Ей самой, например, является Святой Реми. Он приходит
сияющий, принося благоухание райских садов, и его приближение наполняет ее
нестерпимым блаженством. Когда Агнесса рассказывала все это, ее глаза начали
гореть еще ярче, все ее тоненькое тело тряслось, а на лице появилось
странное, смутно мне знакомое выражение наслаждения пополам с мучением. Она
хотела было рассказать что-то еще, но тут я прервала ее вопросом, неожиданно
пришедшим мне на ум:
-- А Вы уверены, дорогая Агнесса, что эти видения имеют божественное
происхождение? Ведь всем известно, что лукавый может принимать самые
прекрасные и соблазнительные обличья чтобы искушать людей. Я слышала даже,
что Жанне Д'Арк, которую церковный суд признал колдуньей, являлись бесы в
образах Богоматери и архангела Михаила. А вдруг что-то подобное происходит и
с Вами?
О, как она взвилась, с какой горячностью и яростью (вовсе не подобающей
монахине) начала опровергать мои слова! Неужели я думаю, что вся обитель
совращена нечистым? Об этих видениях известно самому папе, благословившему
сестер. И сомневаться, подобно мне -- греховно! Быть может, я и видения
Святой Н. припишу дьяволу?! Агнесса то кричала, яростно размахивая руками,
то вдруг начинала шипеть, словно змея, а во взгляде ее ясно читалась
ненависть. Я же сидела, боясь пошевельнуться, и мне казалось, что еще
немного, и она набросится на меня. И вдруг я вспомнила -- да, вспомнила! --
где я видела это странное выражение, наполовину наслаждение, наполовину
страдание. Ты помнишь, отец, нашу служанку Жюли? Как-то раз, пару лет назад,
я искала ее по всему дому, чтобы послать с поручением, и нигде не могла
найти. Тогда я решила посмотреть, не в своей ли она комнате. Тихонько
постучав, я приоткрыла дверь и остолбенела: Жюли лежала на постели с
каким-то мужчиной! Чем они занимались ты догадаешься сам, и они были так
увлечены этим делом, что даже не заметили моего появления. Я же была так
поражена, что просто приросла к земле, и с полминуты не могла сообразить,
что мне нужно немедленно закрыть дверь и уйти. И вот тогда я и увидела это
непонятное выражение на лице Жюли! Помню, оно-то и поразило меня больше
всего в этой сцене. Наконец, я опомнилась и незаметно ушла, а вскоре под
каким-то предлогом прогнала эту бесстыжую Жюли.
Агнесса продолжала бушевать, а я смотрела на нее и не могла поверить.
Так вот какие видения у монахинь этой обители! И ведь все они из лучших
семей, а слава монастыря Святой Н. гремит на всю Францию! Что же тогда
творится в других монастырях, не таких знаменитых? Страшно даже подумать об
этом. Не может быть и речи о том, чтобы остаться здесь хоть на одну лишнюю
минуту!
Приняв такое решение, я, как могла, успокоила Агнессу и извинилась
перед ней за свои сомнения. Не знаю, поверила она мне или нет, но сделала
вид, что поверила. Приближалось время вечерней трапезы, и мы с ней
расстались. Во время ужина я с огромным трудом заставляла себя сидеть рядом
с сестрами, которые еще вчера казались мне воплощением всех добродетелей.
Ночь я провела без сна, благодаря Господа за то, что он вовремя предостерег
и спас меня.
На следующее утро я, грустная и заплаканная, пришла к аббатиссе и
сказала, что получила известие о болезни своего отца, и мне необходимо
немедленно ехать к нему. Надеюсь, Господь простит мне эту ложь ради
спасения. Аббатисса выслушала меня с пониманием и дала разрешение на отъезд.
Час спустя я уже выезжала за ворота монастыря. Белый монастырь на холме
казался таким же мирным и прекрасным, как недавно, но теперь я знала, что
это лишь видимость, что на самом деле он напоминает прекрасный плод, внутри
которого гнездятся черви. О, я была так счастлива вырваться из этой обители
порока!
И вот я здесь. О, дорогой отец, простишь ли ты меня? Моя мечта о
служении Господу в тихой обители повержена в прах. Я никогда, никогда больше
по своей воле не переступлю порог ни одного монастыря. А что до моего
будущего -- решай сам, отец. У меня нет теперь ни сил, ни права что-либо
требовать от тебя. Я даже думаю, что самое лучшее для меня -- поскорее выйти
замуж.
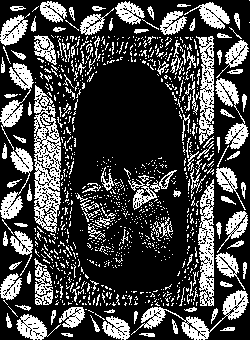 Ох, проповедник, шел бы ты своей дорогой, пока я не взялась за вилы! И
никакая я тебе не сестра! Я вас всяких навидалась: пресвитериан, якобинцев,
ковенантеров, баптистов, квакеров... Были и другие разные: камеронцы,
макмилланиты, русселиты, гамильтонцы, гарлеиты, эрастиане -- всех и не
упомнишь! Ты-то кто из них? Гоуденит? Про таких, слава Богу, пока не
слыхивала.
Нет, не надо мне толковать об истине. Истина в том, что все вы
перегрызлись, как бешеные псы, решая чья вера правильней. И из-за вашей
грызни вся страна теперь истекает кровью, а сосед ненавидит соседа. Вон
недавно Дэйв Сэдлтри чуть не убил Джона Харди и отказался выдать дочь за его
сына -- не сошлись, вишь ты, в богословском вопросе! А у девчонки уже и
приданое было готово. Вы ведь и простых людей, что вам доверились, втянули в
свои дрязги. Будь уверен, на Страшном Суде Господь вам припомнит, как из-за
вашей богословской чепухи лилась кровь.
Нет, спасибо, не надо меня ничему учить -- и так ученая. У меня два
сына погибло из-за таких болтунов. Пришел пуританский проповедник,
доказывал, что их вера самая истинная, плакался на притеснения и гонения.
Мои молодцы ему и поверили. "Мы пойдем, -- говорят, -- мама, отстаивать
истинную веру!" Я тогда глупее была, потому ответила: "Ну, что ж, идите, с
Богом!" А надо было не пускать, хоть по рукам и ногам связать, но не
пускать! Тогда я не осталась бы на старости лет одна, а сыночки мои не
сгинули бы у Босуэл-бриджа.
Хочешь я скажу тебе, где настоящая истина? Я ведь немало пожила на
свете и повидала немало -- что-то да начала понимать, хоть и не ученая.
Истина в том, чтобы жить честно и трудиться на своей земле, а если придут
умники и болтуны -- гнать их взашей! Ну что, сам уйдешь, или сходить за
вилами?
Ох, проповедник, шел бы ты своей дорогой, пока я не взялась за вилы! И
никакая я тебе не сестра! Я вас всяких навидалась: пресвитериан, якобинцев,
ковенантеров, баптистов, квакеров... Были и другие разные: камеронцы,
макмилланиты, русселиты, гамильтонцы, гарлеиты, эрастиане -- всех и не
упомнишь! Ты-то кто из них? Гоуденит? Про таких, слава Богу, пока не
слыхивала.
Нет, не надо мне толковать об истине. Истина в том, что все вы
перегрызлись, как бешеные псы, решая чья вера правильней. И из-за вашей
грызни вся страна теперь истекает кровью, а сосед ненавидит соседа. Вон
недавно Дэйв Сэдлтри чуть не убил Джона Харди и отказался выдать дочь за его
сына -- не сошлись, вишь ты, в богословском вопросе! А у девчонки уже и
приданое было готово. Вы ведь и простых людей, что вам доверились, втянули в
свои дрязги. Будь уверен, на Страшном Суде Господь вам припомнит, как из-за
вашей богословской чепухи лилась кровь.
Нет, спасибо, не надо меня ничему учить -- и так ученая. У меня два
сына погибло из-за таких болтунов. Пришел пуританский проповедник,
доказывал, что их вера самая истинная, плакался на притеснения и гонения.
Мои молодцы ему и поверили. "Мы пойдем, -- говорят, -- мама, отстаивать
истинную веру!" Я тогда глупее была, потому ответила: "Ну, что ж, идите, с
Богом!" А надо было не пускать, хоть по рукам и ногам связать, но не
пускать! Тогда я не осталась бы на старости лет одна, а сыночки мои не
сгинули бы у Босуэл-бриджа.
Хочешь я скажу тебе, где настоящая истина? Я ведь немало пожила на
свете и повидала немало -- что-то да начала понимать, хоть и не ученая.
Истина в том, чтобы жить честно и трудиться на своей земле, а если придут
умники и болтуны -- гнать их взашей! Ну что, сам уйдешь, или сходить за
вилами?
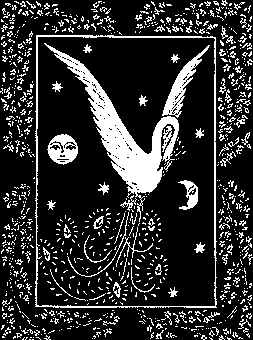 Угрюмая крепость Тордесильяс, принадлежащая испанской короне. По
мрачной комнате, освещенной лишь несколькими тусклыми факелами, мечется
странный призрак. Бледная, увядшая старая женщина, глаза полны тоски и боли.
Ее седые волосы давно не чесаны, черное платье обтрепалось. Ломая руки, она
кругами бродит по комнате и безостановочно что-то бормочет.
"Да, это я -- королева Испании, я, я! Карл не может быть королем, он
всего лишь принц, а истинная королева -- я, и только я! Они все боялись меня
-- Фердинанд, Филипп и Карл -- боялись и не любили -- почему, за что? Ну да,
они сами хотели править Испанией, а от меня избавились, предали. Фердинанд,
Филипп и Карл -- отец, муж и сын -- все они виновны в предательстве. А я их
так любила!
Говорят, я безумна. Это ложь! По крайней мере, было ложью, когда меня
здесь заточили. Сейчас, наверно, это стало правдой. Но кто бы смог провести
в заключении сорок лет, бесконечные сорок лет, и не повредиться умом? Если я
и сошла с ума, то по их вине.
Первый -- Филипп, мой муж, эрцгерцог Бургундский, белокурый молодой
красавец. Он всегда был первым в моем сердце, и он же первый предал меня.
Меня выдали за него шестнадцатилетней девчонкой, и я была влюблена без
памяти. Увы! У красавца Филиппа был один недостаток -- у него не было
сердца. Смыслом его жизни были хорошенькие женщины. Поэтому вскоре после
нашей свадьбы он оставил меня в Испании, а сам уехал во Фландрию, где
окружил себя целым сонмом прелестниц. А в это время я страдала, тосковала по
нему, не могла ни спать, ни есть. Когда же, наконец, я смогла приехать к
нему, он и не подумал изменить свое поведение. Его фаворитки постоянно
мозолили мне глаза. Они думали, испанская принцесса станет терпеть такое!
Однажды я заметила, как одна из этих девок прячет за корсаж записочку от
моего мужа. Я попыталась отнять ее, но нахалка оказалась проворнее --
выхватила записку из моих рук и проглотила. Не помня себя от ярости и
унижения, я схватила ножницы и принялась кромсать ее локоны. Эта гадина
осмелилась защищаться -- тогда я пырнула ее прямо в бесстыжее лицо! Потом я
приказала обрить ее наголо, чтоб другим было неповадно. Филипп был разъярен.
Он и не подумал посочувствовать мне, наоборот! Сраженная его жестокостью, я
слегла в постель с горячкой. Тогда и поползли первые подлые слухи о том, что
я лишилась рассудка. Теперь-то я понимаю, что распускал их сам Филипп...
Вскоре после этого умерла моя мать Изабелла, завещав мне, своей
единственной наследнице, корону Кастилии. Тут на сцене появился второй --
мой отец, Фердинанд Арагонский. Невозможно передать словами все те уважение
и любовь, которые я к нему испытывала. Но для него испанская корона была
дороже человеческих чувств. В завещании моей матери был пункт, по которому
власть переходила к Фердинанду, если я "окажусь неспособна править" -- им-то
он и воспользовался. Объявив, что я слишком слаба здоровьем и повреждена
умом, чтобы быть королевой, он собрался занять мое место. Но тут Филипп
вспомнил, что он мой муж и тоже имеет права на корону. Он был не против
того, что я сумасшедшая, но выводы сделал совсем другие. Король Кастилии --
по праву он, Филипп. И два бесчестных властолюбца сцепились насмерть.
Два года они не могли решить, кто же из них король. Я, настоящая
королева, была для них пустым местом. Все это так ранило меня, что я
совершенно растерялась и не знала, что и предпринять. Поддержать отца? Или
мужа? Но ведь ни один из них не поддерживал меня! Бороться самой за власть?
Против отца и мужа? Не знаю, можно ли было тут что-то решить. Я не смогла.
Вся эта безобразная история могла длиться еще много лет, если б судьба
не пошла навстречу Фердинанду. Неожиданно Филипп заболел оспой и умер. Я
продолжала любить мужа, несмотря ни на что, и его смерть сразила меня. Не
успела я похоронить супруга, как мой отец прибыл ко мне. О, не для того,
чтобы меня утешить. Воспользовавшись моим горем и растерянностью, он обманом
завлек меня в крепость Тордесильяс, где и оставил пленницей. Господи, помоги
мне...
Когда я поняла, какое страшное предательство совершил мой отец,
отчаянье мое не имело границ. Я перестала есть, спать, следить за своей
внешностью. Мои враги использовали все это как лишнее доказательство моего
безумия. Что бы я ни сказала, что бы я ни сделала -- все истолковывалось
так, и только так.
Бог покарал Фердинанда, лишив его наследников, и ему пришлось оставить
королевство моему сыну, Карлу. Кому угодно, лишь бы не мне!
Муж и отец отплатили за мою любовь черным предательством. Теперь настал
черед предательства сына. Карл, заполучивший трон, не собирался
восстанавливать мои права. Не собирался он и освобождать меня из заточения.
За все эти бесконечные годы он всего лишь раз удосужился навестить меня. Я
никогда не забуду его взгляд, полный отвращения и презрения. Да, я отощала и
подурнела от беспрерывных душевных мук, и платье на мне было старое, но я
была его мать! Кто бы мог предугадать такую черствость в том милом мальчике,
каким я его помнила...
Быть может, Карл освободил бы меня, если б я отказалась от своих прав
на корону. Но я повторяла, повторяю и буду повторять до самой смерти:
королева Испании -- я! Пусть я сошла с ума, но им не удалось сломить меня.
Фердинанд, Филипп и Карл. Три проклятых имени, три гнусных предателя.
Отец, муж и сын. Господи, позволено ли мне призывать проклятие на их
головы?!"
Угрюмая крепость Тордесильяс, принадлежащая испанской короне. По
мрачной комнате, освещенной лишь несколькими тусклыми факелами, мечется
странный призрак. Бледная, увядшая старая женщина, глаза полны тоски и боли.
Ее седые волосы давно не чесаны, черное платье обтрепалось. Ломая руки, она
кругами бродит по комнате и безостановочно что-то бормочет.
"Да, это я -- королева Испании, я, я! Карл не может быть королем, он
всего лишь принц, а истинная королева -- я, и только я! Они все боялись меня
-- Фердинанд, Филипп и Карл -- боялись и не любили -- почему, за что? Ну да,
они сами хотели править Испанией, а от меня избавились, предали. Фердинанд,
Филипп и Карл -- отец, муж и сын -- все они виновны в предательстве. А я их
так любила!
Говорят, я безумна. Это ложь! По крайней мере, было ложью, когда меня
здесь заточили. Сейчас, наверно, это стало правдой. Но кто бы смог провести
в заключении сорок лет, бесконечные сорок лет, и не повредиться умом? Если я
и сошла с ума, то по их вине.
Первый -- Филипп, мой муж, эрцгерцог Бургундский, белокурый молодой
красавец. Он всегда был первым в моем сердце, и он же первый предал меня.
Меня выдали за него шестнадцатилетней девчонкой, и я была влюблена без
памяти. Увы! У красавца Филиппа был один недостаток -- у него не было
сердца. Смыслом его жизни были хорошенькие женщины. Поэтому вскоре после
нашей свадьбы он оставил меня в Испании, а сам уехал во Фландрию, где
окружил себя целым сонмом прелестниц. А в это время я страдала, тосковала по
нему, не могла ни спать, ни есть. Когда же, наконец, я смогла приехать к
нему, он и не подумал изменить свое поведение. Его фаворитки постоянно
мозолили мне глаза. Они думали, испанская принцесса станет терпеть такое!
Однажды я заметила, как одна из этих девок прячет за корсаж записочку от
моего мужа. Я попыталась отнять ее, но нахалка оказалась проворнее --
выхватила записку из моих рук и проглотила. Не помня себя от ярости и
унижения, я схватила ножницы и принялась кромсать ее локоны. Эта гадина
осмелилась защищаться -- тогда я пырнула ее прямо в бесстыжее лицо! Потом я
приказала обрить ее наголо, чтоб другим было неповадно. Филипп был разъярен.
Он и не подумал посочувствовать мне, наоборот! Сраженная его жестокостью, я
слегла в постель с горячкой. Тогда и поползли первые подлые слухи о том, что
я лишилась рассудка. Теперь-то я понимаю, что распускал их сам Филипп...
Вскоре после этого умерла моя мать Изабелла, завещав мне, своей
единственной наследнице, корону Кастилии. Тут на сцене появился второй --
мой отец, Фердинанд Арагонский. Невозможно передать словами все те уважение
и любовь, которые я к нему испытывала. Но для него испанская корона была
дороже человеческих чувств. В завещании моей матери был пункт, по которому
власть переходила к Фердинанду, если я "окажусь неспособна править" -- им-то
он и воспользовался. Объявив, что я слишком слаба здоровьем и повреждена
умом, чтобы быть королевой, он собрался занять мое место. Но тут Филипп
вспомнил, что он мой муж и тоже имеет права на корону. Он был не против
того, что я сумасшедшая, но выводы сделал совсем другие. Король Кастилии --
по праву он, Филипп. И два бесчестных властолюбца сцепились насмерть.
Два года они не могли решить, кто же из них король. Я, настоящая
королева, была для них пустым местом. Все это так ранило меня, что я
совершенно растерялась и не знала, что и предпринять. Поддержать отца? Или
мужа? Но ведь ни один из них не поддерживал меня! Бороться самой за власть?
Против отца и мужа? Не знаю, можно ли было тут что-то решить. Я не смогла.
Вся эта безобразная история могла длиться еще много лет, если б судьба
не пошла навстречу Фердинанду. Неожиданно Филипп заболел оспой и умер. Я
продолжала любить мужа, несмотря ни на что, и его смерть сразила меня. Не
успела я похоронить супруга, как мой отец прибыл ко мне. О, не для того,
чтобы меня утешить. Воспользовавшись моим горем и растерянностью, он обманом
завлек меня в крепость Тордесильяс, где и оставил пленницей. Господи, помоги
мне...
Когда я поняла, какое страшное предательство совершил мой отец,
отчаянье мое не имело границ. Я перестала есть, спать, следить за своей
внешностью. Мои враги использовали все это как лишнее доказательство моего
безумия. Что бы я ни сказала, что бы я ни сделала -- все истолковывалось
так, и только так.
Бог покарал Фердинанда, лишив его наследников, и ему пришлось оставить
королевство моему сыну, Карлу. Кому угодно, лишь бы не мне!
Муж и отец отплатили за мою любовь черным предательством. Теперь настал
черед предательства сына. Карл, заполучивший трон, не собирался
восстанавливать мои права. Не собирался он и освобождать меня из заточения.
За все эти бесконечные годы он всего лишь раз удосужился навестить меня. Я
никогда не забуду его взгляд, полный отвращения и презрения. Да, я отощала и
подурнела от беспрерывных душевных мук, и платье на мне было старое, но я
была его мать! Кто бы мог предугадать такую черствость в том милом мальчике,
каким я его помнила...
Быть может, Карл освободил бы меня, если б я отказалась от своих прав
на корону. Но я повторяла, повторяю и буду повторять до самой смерти:
королева Испании -- я! Пусть я сошла с ума, но им не удалось сломить меня.
Фердинанд, Филипп и Карл. Три проклятых имени, три гнусных предателя.
Отец, муж и сын. Господи, позволено ли мне призывать проклятие на их
головы?!"
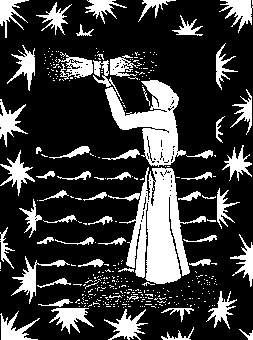 "Что, епископ, ты так смотришь на меня? Ну да, я -- ведьма. Мало, что
ли, ты их видел? Ведь ты, говорят, жег их целыми тысячами. И все равно, хоть
вид у тебя презрительный, я вижу, что ты боишься меня.
Почему должна я стыдиться своего господина? Да, Сатана -- это зло, но
что поделать, не всем же быть добрыми. Добро нуждается во зле, иначе с чем
бы оно боролось? Вот ты, епископ, думаешь, что воюешь на стороне добра, а
что бы ты делал без таких, как я?
Нет, я не пустое болтаю, дай мне договорить, а уж потом допрашивай
сколько влезет. Ты никогда не замечал, что в этом мире добро очень часто
смахивает на зло, а зло на добро? Порой и не поймешь, где что. Вот я,
например, хоть и ведьма, а причиняла очень мало зла. Все больше лечила людей
да скотину, ну, иногда давала женщинам приворотное зелье. А ты, епископ,
ради добра погубил тысячи людей, из которых -- уж поверь мне -- половина
были невинны. Я все сказала.
Да, я буду отвечать правду, потому что раз уж вы до меня добрались --
никакая ложь не поможет. Я вижу, у тебя в руках список обвинений: просто
поставь "да" возле каждого, и мы сбережем много времени. Отправь меня на
костер поскорее -- в вашей тюрьме уж больно скверный воздух. Нет, я не хочу
оправдываться -- ведь это бесполезно, и ты знаешь это не хуже меня. Считай,
что я во всем призналась, но ни в чем не раскаялась.
Я нарушаю судебный порядок? Да нет, я просто хочу разделаться со всем
этим побыстрее. И не грози мне пытками -- у меня слабое сердце. Палач только
начнет меня пытать, и все, я мертва. Повезло мне, правда? Не веришь --
проверь.
Да что ты так сердишься? Ну хорошо, я бывала на шабашах. Да, я
поклонялась Вельзевулу. Да, и в зад его целовала. И с демонами
совокуплялась. Как я это делала? Ого! Да ты, я смотрю, забавник! Тебе как
рассказать -- со всеми подробностями? Так вот, елдак у демонов -- громадный,
и как он воткнет его -- аж глаза на лоб выскакивают. А потом он его
туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда... Эй, не надо меня пытать, я же говорю все
как есть!
А вот имена я тебе называть не стану. Не хватало еще возводить на людей
напраслину. Или давай так: вот те, кто обвинил меня в колдовстве, меня в
него и вовлекли! А еще наш деревенский староста, управляющий и трактирщик --
это такие скоты, что им сюда попасть в самый раз!
Ну что ж, зови палача, зови... Очень занятно было поболтать с тобой,
епископ."
Епископ дал знак палачу и отвернулся.
Донеслось несколько истошных воплей, потом все смолкло. К епископу
подошел смущенный палач:
-- Она правду говорила. Только мы начали, а она возьми да испусти дух.
Епископ отпустил его и сказал своему секретарю, сокрушенно покачивая
головой:
-- Подумать только, какая закоснелость во грехе! Ну ладно, ведите
следующую.
"Что, епископ, ты так смотришь на меня? Ну да, я -- ведьма. Мало, что
ли, ты их видел? Ведь ты, говорят, жег их целыми тысячами. И все равно, хоть
вид у тебя презрительный, я вижу, что ты боишься меня.
Почему должна я стыдиться своего господина? Да, Сатана -- это зло, но
что поделать, не всем же быть добрыми. Добро нуждается во зле, иначе с чем
бы оно боролось? Вот ты, епископ, думаешь, что воюешь на стороне добра, а
что бы ты делал без таких, как я?
Нет, я не пустое болтаю, дай мне договорить, а уж потом допрашивай
сколько влезет. Ты никогда не замечал, что в этом мире добро очень часто
смахивает на зло, а зло на добро? Порой и не поймешь, где что. Вот я,
например, хоть и ведьма, а причиняла очень мало зла. Все больше лечила людей
да скотину, ну, иногда давала женщинам приворотное зелье. А ты, епископ,
ради добра погубил тысячи людей, из которых -- уж поверь мне -- половина
были невинны. Я все сказала.
Да, я буду отвечать правду, потому что раз уж вы до меня добрались --
никакая ложь не поможет. Я вижу, у тебя в руках список обвинений: просто
поставь "да" возле каждого, и мы сбережем много времени. Отправь меня на
костер поскорее -- в вашей тюрьме уж больно скверный воздух. Нет, я не хочу
оправдываться -- ведь это бесполезно, и ты знаешь это не хуже меня. Считай,
что я во всем призналась, но ни в чем не раскаялась.
Я нарушаю судебный порядок? Да нет, я просто хочу разделаться со всем
этим побыстрее. И не грози мне пытками -- у меня слабое сердце. Палач только
начнет меня пытать, и все, я мертва. Повезло мне, правда? Не веришь --
проверь.
Да что ты так сердишься? Ну хорошо, я бывала на шабашах. Да, я
поклонялась Вельзевулу. Да, и в зад его целовала. И с демонами
совокуплялась. Как я это делала? Ого! Да ты, я смотрю, забавник! Тебе как
рассказать -- со всеми подробностями? Так вот, елдак у демонов -- громадный,
и как он воткнет его -- аж глаза на лоб выскакивают. А потом он его
туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда... Эй, не надо меня пытать, я же говорю все
как есть!
А вот имена я тебе называть не стану. Не хватало еще возводить на людей
напраслину. Или давай так: вот те, кто обвинил меня в колдовстве, меня в
него и вовлекли! А еще наш деревенский староста, управляющий и трактирщик --
это такие скоты, что им сюда попасть в самый раз!
Ну что ж, зови палача, зови... Очень занятно было поболтать с тобой,
епископ."
Епископ дал знак палачу и отвернулся.
Донеслось несколько истошных воплей, потом все смолкло. К епископу
подошел смущенный палач:
-- Она правду говорила. Только мы начали, а она возьми да испусти дух.
Епископ отпустил его и сказал своему секретарю, сокрушенно покачивая
головой:
-- Подумать только, какая закоснелость во грехе! Ну ладно, ведите
следующую.
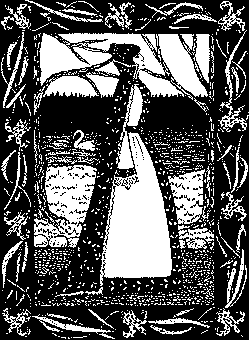 Вчера они убили мою дочь. Мне говорят, что память ее благословенна, что
она -- драгоценный нефрит, принесенный в жертву великому Юм-Кашу. Я стара и
не понимаю красивых слов. Я знаю одно: моей дочери нет больше со мной. Но
она ушла от меня не тогда, когда умерла.
Мои старые глаза уже давно разучились плакать. Немало горя повидала я
на своем веку. Те мои дети, что не умерли во младенчестве, погибли в
бесконечных войнах. Она одна осталась, чтобы согревать мои дни. Она была
задумчива и кротка, глаза ее сияли, как теплые звезды. Ей уже исполнилось
шестнадцать лет.
Мы славно жили вдвоем в нашем маленьком домике. Мы были небогаты, но
нужды не терпели. Единственное, что меня порой беспокоило -- то, как она
смотрела иногда, словно в никуда. Я чувствовала, что она мечтает о чем-то,
но не могла понять -- о чем. О замужестве она не хотела и слышать.
А потом пришла эта засуха. Маис засох, едва успев прорасти. Его
посадили во второй раз, но он даже не проклюнулся. Земля растрескалась, в
воздухе постоянно стояла пыль. Жрецы испробовали все способы умилостивить
Юм-Каша, Владыку Дождей, но дождь так и не пошел. Вначале они бросали в его
колодец золото, потом -- бесценный нефрит, а когда и это не помогло --
объявили, что Владыка Дождей требует себе невесту. Пока в колодец не бросят
девушку, чтобы она стала его женой, дождя не будет.
Жрецы испросили три дня на то, чтобы выбрать невесту Юм-Кашу согласно
обычаю. Ею могла стать любая девушка. Людьми овладело тоскливое, испуганное
ожидание. Те, у кого были молодые дочери, боялись даже думать о возможном
выборе. Я сама, узнав обо всем, поспешила домой и рассказала новости своей
девочке. Меня удивило, как она приняла это известие -- не испугалась, не
заплакала, а словно погрузилась глубоко-глубоко в себя и задумалась о
чем-то, понятном ей одной. А потом глаза ее засияли еще ярче, она улыбнулась
и сказала:
-- Нет нужды искать Юм-Кашу невесту -- она перед тобой!
Я подумала, что ослышалась. Но она повторила то же самое еще раз, и в
голосе ее была радость. Я решила, что она сошла с ума. Тогда она стала
объяснять:
-- Помнишь, ты допытывалась, о чем я мечтаю, а я не отвечала тебе?
Сегодня отвечу. Ты не знаешь, мама, и никто не знает, что еще в детстве мне
явился Владыка Дождей и обещал, что когда-нибудь я стану его женой. И любовь
к нему родилась в моем сердце -- ни один мужчина с тех пор не привлекал
моего взгляда. А теперь, я вижу, срок настал. Юм-Каш требует, чтобы я пришла
к нему -- и это наполняет меня радостью!
Что я могла ответить ей на это? Я хотела было прикрикнуть на нее,
пригрозить, но почувствовала, что ее решимость тверже камня. Я могла бы
упасть ей в ноги и умолять, но и это ничего бы не дало. Она ушла от меня, и
не было больше у меня власти просить и приказывать.
Тем временем моя дочь начала одеваться в лучшие одежды. Я спросила ее,
что она хочет делать, и она ответила:
-- Пойду к жрецам и принесу им радостную весть, что невеста найдена.
Тогда я выбежала из дома и, так быстро, как только могла, побежала к
жрецам сама. Они заперлись и гадали, чтобы Владыка Дождей указал им приметы
своей невесты. Сначала меня не хотели пускать, но, сжалившись над моей
старостью и горем, прислужник пошел и доложил жрецам. Вскоре они вышли ко
мне.
Я сказала им, что моя дочь сошла с ума и вообразила себя невестой
Юм-Каша. Что я не смогла удержать ее, и она скоро придет к ним, просить
чести быть сброшеной в колодец. Жрецы недоуменно переглянулись. Тут я
увидела свою дочь, приближавшуюся к нам, и закричала:
-- Вот она! Не верьте ей -- она безумна, совершенно безумна!
Моя дочь посмотрела на меня с презрительным состраданием, а потом
повернулась к жрецам и заговорила. Тут же все мои надежды рухнули. Она
подробно рассказывала жрецам о своем обещании стать женой бога, и о своей
решимости выполнить это обещание. Она была спокойна, полна достоинства и
уверенности, и никто никогда не принял бы ее за сумасшедшую. Жрецы слушали,
кивали, задавали вопросы. Было видно, что они удивлены, но постепенно она
убеждала их в своей правоте.
В конце концов жрецы, посовещавшись между собой, велели ей идти с ними,
чтобы подготовиться к церемонии, которая состоится завтра на рассвете. Мне
же сказали, что горевать грешно -- ведь моя дочь станет женой самого
Юм-Каша! Что может быть почетней?
Дочь подошла ко мне, чтобы утешить:
-- Не плачь, мама! Завтра будет самый счастливый день моей жизни,
исполнится мое заветное желание. Я попрошу Юм-Каша, чтобы тебя призвали
поскорее, и тогда мы всегда будем вместе у его ног!
Я только тоскливо посмотрела на нее и ничего не сказала. Она ушла от
меня -- что было толку говорить с ней?
Мне говорили, что она была необычайно прекрасна на следующее утро, и
что она сама сделала шаг в бездну. Я не пошла смотреть на это. Она ушла от
меня, и я бы не вынесла -- увидеть, как она уходит еще раз.
Вчера они убили мою дочь. Мне говорят, что память ее благословенна, что
она -- драгоценный нефрит, принесенный в жертву великому Юм-Кашу. Я стара и
не понимаю красивых слов. Я знаю одно: моей дочери нет больше со мной. Но
она ушла от меня не тогда, когда умерла.
Мои старые глаза уже давно разучились плакать. Немало горя повидала я
на своем веку. Те мои дети, что не умерли во младенчестве, погибли в
бесконечных войнах. Она одна осталась, чтобы согревать мои дни. Она была
задумчива и кротка, глаза ее сияли, как теплые звезды. Ей уже исполнилось
шестнадцать лет.
Мы славно жили вдвоем в нашем маленьком домике. Мы были небогаты, но
нужды не терпели. Единственное, что меня порой беспокоило -- то, как она
смотрела иногда, словно в никуда. Я чувствовала, что она мечтает о чем-то,
но не могла понять -- о чем. О замужестве она не хотела и слышать.
А потом пришла эта засуха. Маис засох, едва успев прорасти. Его
посадили во второй раз, но он даже не проклюнулся. Земля растрескалась, в
воздухе постоянно стояла пыль. Жрецы испробовали все способы умилостивить
Юм-Каша, Владыку Дождей, но дождь так и не пошел. Вначале они бросали в его
колодец золото, потом -- бесценный нефрит, а когда и это не помогло --
объявили, что Владыка Дождей требует себе невесту. Пока в колодец не бросят
девушку, чтобы она стала его женой, дождя не будет.
Жрецы испросили три дня на то, чтобы выбрать невесту Юм-Кашу согласно
обычаю. Ею могла стать любая девушка. Людьми овладело тоскливое, испуганное
ожидание. Те, у кого были молодые дочери, боялись даже думать о возможном
выборе. Я сама, узнав обо всем, поспешила домой и рассказала новости своей
девочке. Меня удивило, как она приняла это известие -- не испугалась, не
заплакала, а словно погрузилась глубоко-глубоко в себя и задумалась о
чем-то, понятном ей одной. А потом глаза ее засияли еще ярче, она улыбнулась
и сказала:
-- Нет нужды искать Юм-Кашу невесту -- она перед тобой!
Я подумала, что ослышалась. Но она повторила то же самое еще раз, и в
голосе ее была радость. Я решила, что она сошла с ума. Тогда она стала
объяснять:
-- Помнишь, ты допытывалась, о чем я мечтаю, а я не отвечала тебе?
Сегодня отвечу. Ты не знаешь, мама, и никто не знает, что еще в детстве мне
явился Владыка Дождей и обещал, что когда-нибудь я стану его женой. И любовь
к нему родилась в моем сердце -- ни один мужчина с тех пор не привлекал
моего взгляда. А теперь, я вижу, срок настал. Юм-Каш требует, чтобы я пришла
к нему -- и это наполняет меня радостью!
Что я могла ответить ей на это? Я хотела было прикрикнуть на нее,
пригрозить, но почувствовала, что ее решимость тверже камня. Я могла бы
упасть ей в ноги и умолять, но и это ничего бы не дало. Она ушла от меня, и
не было больше у меня власти просить и приказывать.
Тем временем моя дочь начала одеваться в лучшие одежды. Я спросила ее,
что она хочет делать, и она ответила:
-- Пойду к жрецам и принесу им радостную весть, что невеста найдена.
Тогда я выбежала из дома и, так быстро, как только могла, побежала к
жрецам сама. Они заперлись и гадали, чтобы Владыка Дождей указал им приметы
своей невесты. Сначала меня не хотели пускать, но, сжалившись над моей
старостью и горем, прислужник пошел и доложил жрецам. Вскоре они вышли ко
мне.
Я сказала им, что моя дочь сошла с ума и вообразила себя невестой
Юм-Каша. Что я не смогла удержать ее, и она скоро придет к ним, просить
чести быть сброшеной в колодец. Жрецы недоуменно переглянулись. Тут я
увидела свою дочь, приближавшуюся к нам, и закричала:
-- Вот она! Не верьте ей -- она безумна, совершенно безумна!
Моя дочь посмотрела на меня с презрительным состраданием, а потом
повернулась к жрецам и заговорила. Тут же все мои надежды рухнули. Она
подробно рассказывала жрецам о своем обещании стать женой бога, и о своей
решимости выполнить это обещание. Она была спокойна, полна достоинства и
уверенности, и никто никогда не принял бы ее за сумасшедшую. Жрецы слушали,
кивали, задавали вопросы. Было видно, что они удивлены, но постепенно она
убеждала их в своей правоте.
В конце концов жрецы, посовещавшись между собой, велели ей идти с ними,
чтобы подготовиться к церемонии, которая состоится завтра на рассвете. Мне
же сказали, что горевать грешно -- ведь моя дочь станет женой самого
Юм-Каша! Что может быть почетней?
Дочь подошла ко мне, чтобы утешить:
-- Не плачь, мама! Завтра будет самый счастливый день моей жизни,
исполнится мое заветное желание. Я попрошу Юм-Каша, чтобы тебя призвали
поскорее, и тогда мы всегда будем вместе у его ног!
Я только тоскливо посмотрела на нее и ничего не сказала. Она ушла от
меня -- что было толку говорить с ней?
Мне говорили, что она была необычайно прекрасна на следующее утро, и
что она сама сделала шаг в бездну. Я не пошла смотреть на это. Она ушла от
меня, и я бы не вынесла -- увидеть, как она уходит еще раз.