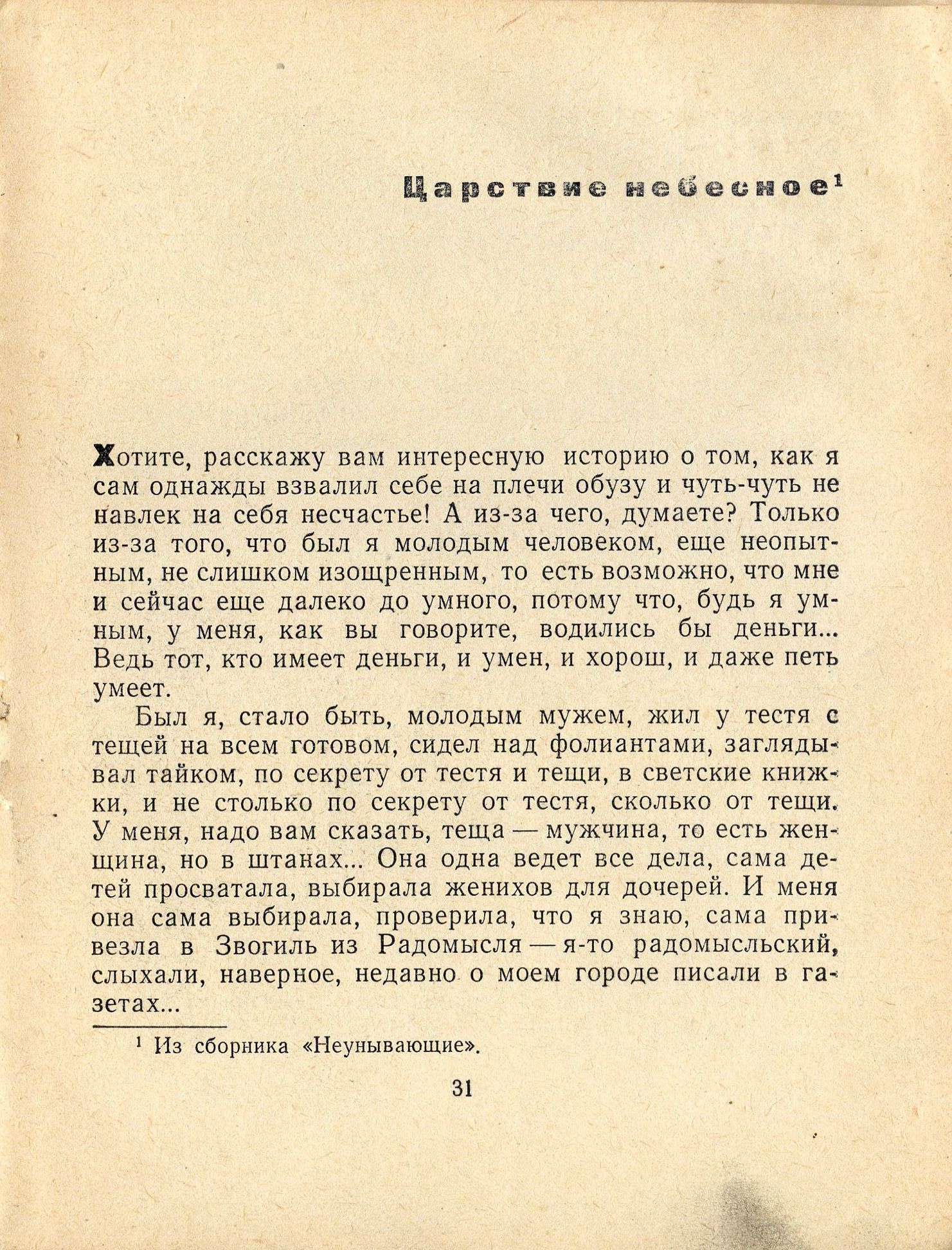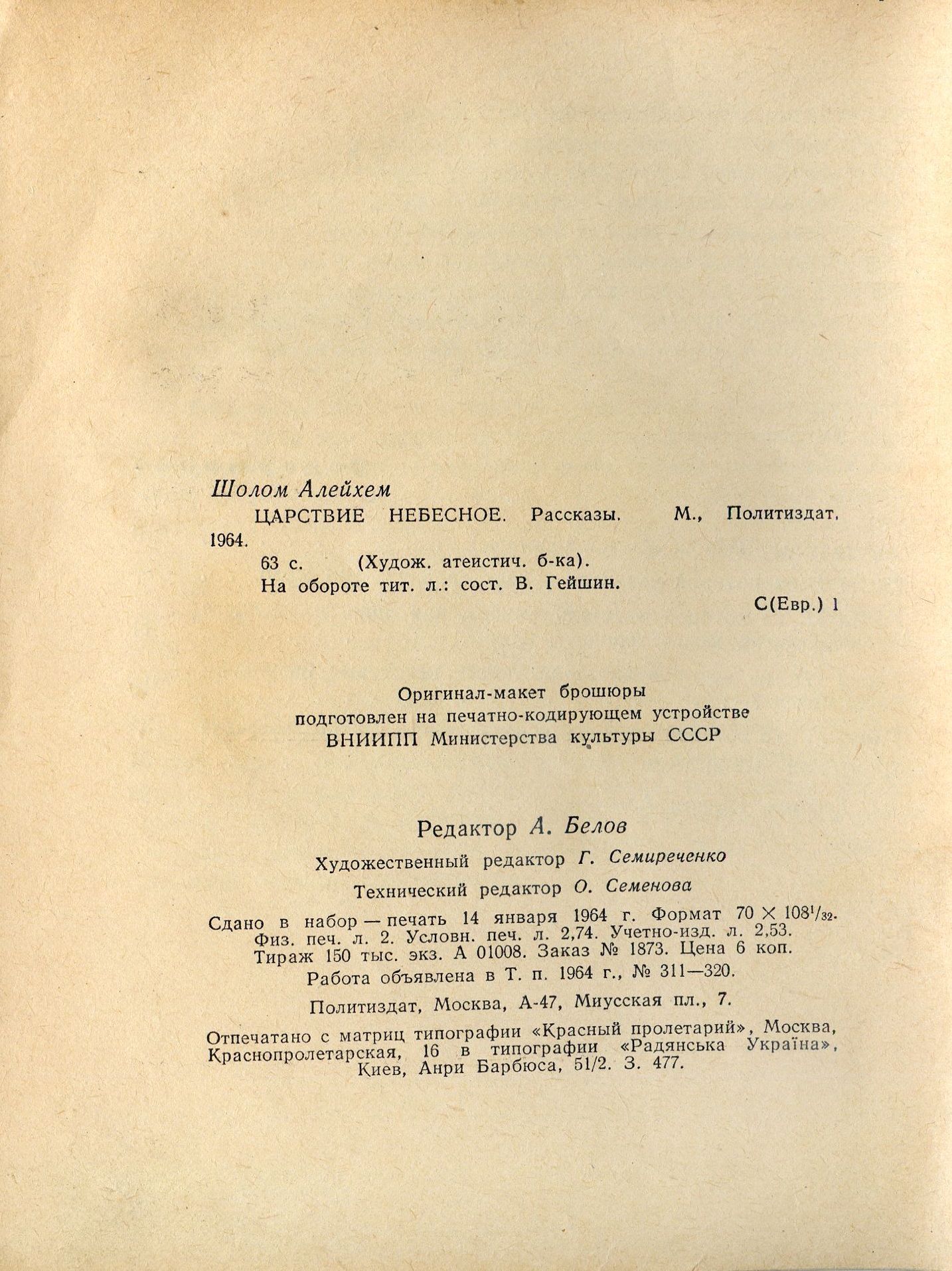---------------------------------------------------------------
Из сборника "Неунывающие" (1901--1905)
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ. Рассказы. М., Политиздат. 1964.
OCR: Борис Сухоруков
---------------------------------------------------------------
 Хотите, расскажу вам интересную историю о том, как я сам однажды
взвалил себе на плечи обузу и чуть-чуть не навлек на себя несчастье! А из-за
чего, думаете? Только из-за того, что был я молодым человеком, еще
неопытным, не слишком изощренным, то есть возможно, что мне и сейчас еще
далеко до умного, потому что, будь я умным, у меня, как вы говорите,
водились бы деньги... Ведь тот, кто имеет деньги, и умен, и хорош, и даже
петь умеет.
Был я, стало быть, молодым мужем, жил у тестя с тещей на всем готовом,
сидел над фолиантами, заглядывал тайком, по секрету от тестя и тещи, в
светские книжки, и не столько по секрету от тестя, сколько от тещи. У меня,
надо вам сказать, теща -- мужчина, то есть женщина, но в штанах... Она одна
ведет все дела, сама детей просватала, выбирала женихов для дочерей. И меня
она сама выбирала, проверила, что я знаю, сама привезла в Звогиль из
Радомысля -- я-то радомысльский, слыхали, наверное, недавно о моем городе
писали в газетах...
И вот сидел я в Звогиле на готовых харчах, корпел над "Море-Небухим" не
вылезал за порог, пока не пришло время, когда нужно было приписаться к
призывному участку, -- тут уж ничего не поделаешь, надо съездить домой, в
Радомысль, привести в порядок бумаги, похлопотать насчет льготы, получить
паспорт, как полагается. Это был, можно сказать, мой первый выезд в свет.
Пошел я на базар нанимать подводу, тоже сам, чтоб показать, что я человек
самостоятельный. И бог послал мне удачу: я нашел мужичка из Радомысля --
дело было зимой -- с крашеными санями, широкой спинкой и крыльями по бокам,
как у орла... Только упустил из виду, что лошадка была белая, а белая
лошадка, говорит теща, приносит несчастье.
-- Дай бог, -- сказала она, -- соврать, но боюсь, что эта поездка
окончится большой неприятностью...
-- Типун тебе на язык! -- сорвалось с языка у тестя,
о чем он тут же пожалел, так как получил нагоняй. Но мне он шепнул:
"Бабьи сказки!" И я начал готовиться в дорогу: взял талес и филактерии
(Особые коробочки с вложенными внутрь текстами из библии; укрепляются на лбу
и предплечье левой руки религиозными евреями во время молитвы), печенье,
несколько рублей на расходы, три подушки: одну --под сиденье, одну -- за
спину, одну -- на ноги, и давай прощаться. Дошло дело до прощания -- нет
слов! Так уж у меня всегда: когда надо прощаться, лишаюсь языка! Не
знаю, что и сказать! И получается как будто грубовато: как это можно
повернуться к каждому, извините, задом и оставить просто так? Не знаю, как
вам, но для меня до сих пор прощание -- дело очень неприятное! Однако
погодите! Я, кажется, залез бог знает куда...
И вот, значит, распрощался я честь-честью и рано утром отправился в
путь-дорогу, на Радомысль. Было это в начале зимы, снег лег рано, санный
путь был хорош. Лошадка, хоть и белая, а бежала резво. Извозчик попался мне
молчаливый, из тех, что на все отвечают либо "Эге!" -- что означает "да",
либо: "Бо-ни", что означает "нет", а больше -- хоть режь его! Выехал я из
дому поевши, настроение хорошее, подушка внизу, подушка за спиной, подушка
на ногах. Лошадка, скачет, извозчик причмокивает, сани скользят, ветер дует,
снежок сыплет сверху и ложится пухом на широкий тракт, и на душе у меня
хорошо, замечательно хорошо, свободно, широко, светло... Все-таки впервые
вылез на божий свет один, сам себе хозяин! Откидываюсь на спинку и
разваливаюсь в санях барином... Но зимой как бы тепло ни оделся, мороз
пробирает и хочется остановиться, погреться, перехватить что-нибудь и ехать
дальше. И представляется мне, в мыслях конечно, теплая корчма, кипящий
самовар, свежее тушеное мясо и горячий бульон... От таких мыслей начинает
сосать под ложечкой, хочется попросту закусить. Заговариваю насчет корчмы с
моим возницей, хочу узнать, далеко ли еще ехать? А он отвечает: "Бо-ни", --
то есть нет. Спрашиваю: "Уж близко?" А он отвечает: "Эге!" -- стало быть,
да! Сколько все-таки до корчмы? Это трудно вытянуть из него, хоть ложись и
помирай! И я представляю себе, что было бы, если бы, скажем, на месте этого
мужичка сидел еврей. Ведь он растолковал бы мне не только, где находится
корчма, он рассказал бы, кто содержит корчму, как его звать, и сколько у
него детей, и сколько он платит за аренду корчмы, и сколько корчма ему
приносит, и сколько лет он уже здесь живет, и кто жил здесь до него, --
конца-краю не было бы рассказам! Экий странный народ! То есть я имею в виду
наших евреев! Совсем какая-то другая кровь, право!..
Мечтал я, стало быть, о теплой корчме, фантазировал о горячем самоваре
и тому подобных хороших вещах, покуда господь не сжалился. Мой мужичок
зачмокал, свернул чуть в сторону, и я увидел небольшой серый домишко, сверху
донизу засыпанный снегом, полевую корчму, которая среди заснеженного белого
поля выглядела как-то очень уж одиноко и больше походила на заброшенное,
забытое надгробие... Лихо подъехав к корчме, мой извозчик с лошадью и санями
направился в сарай, а я двинулся прямо в избу, отворил дверь и...
остановился на пороге -- ни туда, ни сюда! В чем дело? Замечательная
история! Посреди корчмы на полу лежит покойник, накрытый черным, у изголовья
-- два медных подсвечника с маленькими свечками, а кругом сидят ребятишки
оборванные, обшарпанные, колотят себя ручонками по голове, плачут, рыдают,
голосят: "Мама! Ма-ма!" А некто высокий, длинноногий, в летней рваной
накидке, совсем не по сезону, шагает по комнате, ломает руки и говорит
самому себе: "Что делать? Что делать? Как быть?" Я, конечно, понял, на какое
торжество меня принесло! Первой мыслью моей было: "Нойах, беги!" Я подался
назад и хотел убраться. Но дверь за мной закрылась, меня словно приковало к
порогу, и я не мог двинуться с места.
Увидав перед собою свежего человека, высокий устремился ко мне,
протянул обе руки, как человек, молящий о спасении.
-- Что вы скажете о моем несчастии? -- проговорил он, указывая на
плачущих детей. -- Умерла у них, у бедняжек, мать! Что делать? Что делать?
Как быть?
-- Благословен судия праведный! -- произнес я и хотел, как водится,
утешить его добрым словом. Но он перебил меня и говорит:
-- Понимаете ли, дело-то, собственно, такое... Она, жена моя, уже с
прошлого года все равно что мертвая. У нее была проклятая болезнь --
чахотка... Она сама молила бога о смерти. Но горе в том, что живем мы здесь,
в глуши, посреди поля. Что делать? Что делать? Как быть? Пойти куда-нибудь в
деревню, поискать подводу и отвезти ее в город, но как бросить детей одних
посреди поля? А тут дело к ночи. Боже мой, ну что же делать? Что делать? Как
быть?
При этом человек расплакался как-то странно, без слез, будто смеялся,
взвизгивая не своим голосом... Душа болела, глядя на него! Где уж там голод!
Где холод! Забыл я обо всем на свете и говорю:
-- Я еду из Звогиля в Радомысль, сани у меня очень хорошие. Если
местечко, как вы говорите, недалеко отсюда, я могу дать вам мои сани, а сам
подожду здесь, если это недолго.
Ой, дай вам бог долгих лет за ваше благодеяние! Царствие небесное
купите себе, честное слово! Царствие небесное! -- воскликнул он и чуть не
бросился меня целовать. -- Местечко совсем недалеко отсюда, всего версты
четыре или пять. На дорогу понадобится не больше часа, я тут же отошлю сани
обратно. Царствие небесное заслужите, честное слово! Дети! Встаньте,
благодарите, целуйте руки этого молодого человека, в ноги кланяйтесь, он
дает нам свою подводу, я отвезу маму в святое место! Царствие небесное,
честное слово, царствие небесное!..
Слово "радость" было здесь, конечно, не к месту, потому что дети,
услыхав, что отец "отвезет маму", снова припали к покойнице и опять стали
рыдать с еще большей силой. Все же для них было доброй вестью, что нашелся
человек, который окажет им услугу. Сам бог привел его сюда! На меня
смотрели, как на избавителя, как на некоего Илью-пророка, и должен вам
сказать по чистой совести, что и сам я в это время смотрел на себя, как на
необыкновенного человека, я сразу вырос в собственных глазах, стал что
называется "героем". В эту минуту я был готов переносить горы,
переворачивать миры. Не было, кажется, для меня ничего трудного. И у меня
сорвалось с языка:
-- Знаете что? Я сам ее отвезу, с моим извозчиком то есть. Зачем вам
трудиться, отрываться от детей?
И чем дальше, тем больше вся эта семья смотрела на меня, как на ангела,
посланного с неба, а я сам в своих глазах вырастал все выше и выше, чуть ли
не до облаков. Позабыл я в ту минуту, что боюсь прикасаться к покойникам, и
сам своими руками помог вынести жену корчмаря и положить в сани, пообещав
своему мужичку лишний полтинник и лишнюю рюмку водки. Поначалу извозчик
почесывал затылок и что-то ворчал под нос, но после третьей рюмки смягчился,
и мы втроем поехали, то есть я, извозчик и покойная жена корчмаря
Хаве-Нехама (так ее звали), Хаве-Нехама, дочь Рефоел-Михла, помню это как
сегодня, потому что всю дорогу повторял ее имя... Муж несколько раз повторил
мне его, потому что, когда ее будут хоронить, воздавать ей должное и просить
у нее прощения, непременно надо знать ее имя. И я всю дорогу повторял, учил
наизусть: Хаве-Нехама, дочь Рефоел-Михла! Хаве-Нехама, дочь Рефоел-Михла! А
повторяя, я забыл, как зовут ее мужа, хоть голову сними! А он назвал мне
свое имя и говорил, что в местечке, как только я назову его, у меня сейчас
же заберут покойницу. Он в этом местечке уже много лет подряд бывает на
осенних праздниках и тратит массу денег в синагоге, когда собирают
пожертвования, и в бане, не будь она рядом помянута, и везде и всюду! И еще
что-то говорил он мне, этот корчмарь, натрещал полную голову -- куда заехать
и что сказать, но у меня все это сразу вылетело из памяти, не оставив и
следа! Все мои мысли вертелись вокруг одного: я везу покойницу -- этого было
достаточно, чтобы все в голове у меня перепуталось, чтобы я забыл даже, как
меня зовут, потому что с детства я смертельно боюсь покойников! До сих пор
не могу оставаться один с покойником -- хоть озолотите меня! Мне все
кажется, что полуприкрытые, якобы закатившиеся глаза смотрят и видят меня,
что сомкнутые мертвые губы вот-вот откроются и послышится дикий голос, как
из-под земли. От одних этих фантазий можно в обморок упасть! Недаром у нас
рассказывают истории о покойниках, о том, как люди от страха падали в
обморок, сходили с ума, а то и вовсе помирали на месте.
Ехали мы, значит, втроем с покойницей. Ей я уступил одну из моих
подушек и положил ее поперек саней у себя в ногах. А чтобы отвлечься от
мрачных мыслей, я начал разглядывать небо и повторять про себя:
"Хаве-Нехама, дочь Рефоел-Михла! Хаве-Нехама, дочь Рефоел-Михла!" -- до тех
пор пока имена стали путаться у меня в памяти и уже получалось:
"Хаве-Рефоел, дочь Нехама-Михла" и "Рефоел-Михл, дочь Хаве-Нехамы..." Я
совсем не замечал, что вокруг как-то становится все темнее и темнее, ветер
крепчает, а снег, не переставая, сыплет и сыплет и заносит дорогу, так что
сани идут неизвестно куда, а мой мужичок чего-то ворчит с каждым разом все
громче и громче, и я готов поклясться, что он произносит по моему адресу
трехэтажное благословение... Спрашиваю: "Ну, что там у тебя?" А он в ответ с
озлоблением плюет, упаси и помилуй бог! И. вдруг у него раскрывается рот, и
он начинает сыпать: я, мол, погубил его вместе с лошадкой! Из-за того, что
мы взяли в сани покойницу,, лошадка потеряла дорогу, и мы сбились с пути, и
бог знает до каких пор будем блуждать, вот-вот настанет ночь,-- тогда мы
пропали!..
Веселая весть, что и говорить! Я готов был ехать обратно в корчму,
отказаться от благодеяния и от заслуженного царствия небесного! Но извозчик
сказал, что теперь уже поздно, теперь ни вперед, ни назад, ехать некуда,
потому что мы кружим где-то посреди поля, черт его ведает где!.. Дорогу
занесло, небо потемнело, уке глубокая ночь, и лошадь замучена до смерти!
Черт бы побрал корчмаря, погибель на всех корчмарей во всем свете! Пусть бы
он, говорит извозчик, лучше ногу себе сломал прежде, чем остановиться в этой
корчме! Нехай бы ему поперек горла встала первая стопка водки, нежели дать
себя уговорить и сделать такую глупость, взять к себе в сани этакую беду,
из-за поганого "полшмардованца" пропадать тут в поле, ко всем чертям, с
конякою вместе! Да уж он-то сам ладно, может, ему и суждено тут вот
окочуриться, а лошадка, бедняга, при чем? И что им от нее понадобилось?
Безвинная животина, скотинка, с нее спрос небольшой.
Готов поклясться, что в голосе его слышались слезы... Хотел я излить
перед ним душу, обещал еще полтину и две стопки водки, но он вскипел и
заявил, что, если я не замолчу, он и вовсе выбросит из саней нашу
"находку"!.. И я подумал: а что я буду делать, если он и в самом деле
выбросит покойницу из саней со мной вместе? Мало ли что может сделать
извозчик, если рассердится? Пришлось замолчать и сидеть в санях, зарывшись в
подушки, остерегаться, как бы не заснуть, потому что как же можно спать,
когда перед глазами лежит труп? А во-вторых, я слыхал, что зимой на морозе
спать нельзя: можно незаметно уснуть навеки...
Но словно назло, глаза у меня слипаются, хочется вздремнуть. Я бы,
кажется, в ту минуту ничего не пожалел, только бы подремать!.. Я с силой
раскрываю глаза, но они не слушаются и постепенно закрываются, снова
открываются и опять слипаются... А сани скользят по белому, глубокому и
рыхлому снегу, и по всему телу разливается какая-то странная истома, и
хочется, чтобы это состояние продолжалось как можно дольше... Но другая
сила, не знаю откуда, тормошит меня: "Не спи, Нойах, не спи!" Я с трудом
раздираю веки, и от блаженного состояния не остается и следа, оно сменяется
холодом, пронизывающим все внутри, меланхолией, страхом и ужасом, -- не
приведи господь! Кажется, что моя покойница шевелится, раскрывается и
смотрит на меня полузакрытыми глазами, словно хочет сказать: "Что ты имеешь
против меня, молодой человек? За что ты хочешь загубить мертвую женщину,
мать маленьких детей, не предаешь ее земле, как по закону положено?" А ветер
завывает человеческим голосом, свистит прямо в ухо, поверяет страшную
тайну... И страшные мысли, думы, опасения лезут в голову, и чудится мне, что
все мы под снегом -- я, извозчик, его лошадка и покойница... Мы все мертвы,
и только покойница -- поразительно! -- одна только покойница, жена корчмаря,
жива...
Но вдруг я слышу, мой мужичок причмокивает как- то очень весело,
благодарит бога, крестится в темноте и вздыхает. Словно новую душу вдохнул
он в меня, я вижу вдалеке мелькает огонек, он то покажется, то погаснет, то
снова вспыхнет. "Селение!" -- думаю я и от всего сердца благодарю бога и
обращаюсь к моему вознице:
-- Выбрались как будто на дорогу? Пожалуй, скоро будем в местечке?
-- Эге! -- отвечает он, как и прежде кратко, но уже спокойно, без
злобы, и хочется его обнять сзади, поцеловать в плечо за добрую весть, за
его доброе и тихое "эге", которое сейчас мне дороже самой умной проповеди!
-- Тебя как звать? -- спрашиваю я и удивляюсь, почему я до сих пор не
узнал его имени.
-- Микита, -- отвечает он, по своему обыкновению, кратко.
-- Микита? -- переспрашиваю я, и это имя кажется мне особенно
симпатичным.
-- Эге! -- отвечает он, как обычно.
И мне очень хочется, чтоб Микита сказал еще что- нибудь, хотя бы
два-три слова хотелось от него услышать. Он становится мне дорог, и лошадка
его мне дорога... Я завожу с ним разговор о лошадке, говорю, что лошадка у
него хороша. Очень славная лошадка!
-- Эге! -- отвечает Микита.
-- И сани у тебя, Микита, очень хорошие!
-- Эге! -- соглашается он и больше ни слова сказать не хочет, хоть режь
его.
-- Не любишь, -- говорю я, -- разговоры водить, Ми- кита-сердце?
-- Эге! -- отвечает он.
Я смеюсь, мне весело, хорошо и весело, словно я взял Очаков, или нашел
клад, или открыл что-то новое, еще никому не известное,-- словом, я счастлив
сверх всякой меры! А по какой причине, не скажете ли вы? Хочется петь во
весь голос, честное слово! У меня вообще такая манера: когда хорошо на душе,
я пою. Жена знает уже мой характер, она спрашивает: "Что случилось, Нойах?
Сколько ты заработал, что так распелся?" Женщинам по женскому их разумению
представляется, что человеку может быть весело только в том случае, если он
что-нибудь заработал. А иначе у человека не может быть хорошего настроения.
Откуда это берется, что наши жены гораздо больше жадны до денег, чем мы,
мужчины? Казалось бы, кто работает ради денег? Мы или они? Однако хватит! Я
снова, кажется, залез бог знает куда...
Приехали мы, стало быть, с божьей помощью, в местечко раным-рано. Все
еще спали, до рассвета было далеко, нигде огонька не видать. Наконец увидели
домишко с большими воротами и веником на одной из створок -- примета
заезжего дома. Мы остановились, вылезли из саней и стали с Микитой колотить
кулаками в ворота. Стучали, стучали, наконец бог помог, увидели в окне
огонек. Потом услыхали -- кто-то шлепает и спрашивает из-за ворот:
-- Кто там?
-- Отворите, -- отвечаю, -- дяденька! Заслужите царствие небесное!
-- Царствие небесное? А кто вы такие? -- произносит голос и принимается
отпирать замок.
-- Отворите, -- говорю я. -- Я привез сюда покойника.
-- Кого?
-- Покойника!
-- Что значит -- покойника?
-- Покойника -- значит умершего. Умершую женщину привез я из деревни,
из корчмы.
По ту сторону ворот стало тихо. Слышно было только, как замок снова
заперли, ноги прошлепали, видимо, обратно, а потом погас и огонек -- и поди
жалуйся господу богу! Это меня разозлило, и я попросил моего мужичка помочь
мне стучать кулаками в окно. Принялись мы оба стучать так энергично, что
огонек снова загорелся и снова послышался голос из-за ворот:
-- Чего вы от меня хотите? Что еще за напасть?
-- Ради бога! -- умоляю я его, как разбойника. -- Сжальтесь, я здесь с
покойником!
-- С каким покойником?
-- С женой корчмаря.
-- Какого корчмаря?
-- Я забыл, как его зовут, но ее зовут Хаве-Михл, дочь Ханы-Рефоела, то
есть Хане-Рефоел, дочь Хавы-Михл, то есть Хана-Хана-Хана...
-- Если не уйдете отсюда, несчастный, сейчас ведром воды окачу!
Так отвечает хозяин заезжего дома и уходит от окна, гасит огонек, и
поди делай с ним что хочешь!.. И только через час, когда начало светать,
открылась калитка, высунулась черная голова в белых перьях и обратилась ко
мне:
-- Это вы барабанили в окно?
-- Я, а кто же?
-- Чего вы хотели?
-- Я привез покойника.
-- Покойника? Везите его к служке погребального братства.
-- А где он живет, ваш служка? Как его звать?
-- Зовут его Ехиел, а живет он под горой, недалеко от бани.
-- А где тут у вас баня?
-- Баню не знаете? Вы, наверное, не здешний? Откуда будете?
-- Откуда? Из Радомысля, радомысльский я, но еду я из Звогиля, а
покойника везу из корчмы, здесь неподалеку, это жена корчмаря, она умерла от
чахотки.
-- Не про нас будь сказано! А вы тут, собственно, причем?
-- Я? Да ни при чем! Я ехал мимо, а он меня попросил, корчемник то
есть. Живет он посреди поля с малыми детишками, негде похоронить... Вот я и
подумал: человек просит, сулит царствие небесное,-- почему не сделать?
-- Что-то здесь не все ладно! -- отвечает он. -- Придется вам прежде
всего повидаться со старостами.
-- А кто у вас старосты? Где они живут?
-- Старост не знаете? Реб Шепсл, староста, живет он по ту сторону
базара. Реб Лейзер-Мойше, староста, живет по самой середине базара. Реб
Иося, тоже староста, живет около старой синагоги. Но прежде всего надо вам
повидаться с реб Шепслом, он у нас самый главный. Человек жесткий,
предупреждаю вас, его не так-то скоро разжуешь.
-- Спасибо! -- говорю. -- Дай вам бог сообщать более веселые вести. А
когда я смогу с ними повидаться?
-- Что значит, когда? Утром, бог даст, после моления.
-- Поздравляю! А что мне делать до тех пор? Пустите хоть войти
погреться. У вас тут, видимо, хороший Содом?
Услыхав такие слова, хозяин заезжего дома тут же снова запер ворота, и
снова стало тихо, как на кладбище. Что же делать дальше? Стоим с санями
посреди улицы.
Микита злится, ворчит, почесывает затылок, плюется и сыплет
трехэтажными благословениями: "Погибель, -- говорит он, -- на этого
корчмаря, да и на всех корчмарей во всем свете! Уж я-то сам -- ладно, черт
меня не возьмет! Но конягу! Какого беса морят голодом и холодом несчастную
лошадку? Безвинную животину, скотинку... Она тут при чем?.."
Стыд и срам перед этим крестьянином. Мне приходит в голову: что, к
примеру, думает он о нас, евреях? Как выглядим мы, "милосердные из
милосердных" (Талмудическая поговорка о евреях), в сравнении с ними, людьми
грубыми, когда еврей еврею не желает дверь открыть, не пускает даже
погреться,-- ну, разве не стоим мы втрое больше того, что имеем? Так я
оправдываю все, что выпало на нашу долю, и обвиняю всех, как это обычно
делает еврей, когда другой еврей отказывает ему в одолжении. Никто так много
худого не говорит о нас, сколько мы сами. Тысячу раз на дню можно услышать
из уст каких угодно евреев такие слова: "С евреем не шути!", "С евреем
хотите столковаться?", "С евреями хорошо кугл кушать!", "На это способен
только еврей!", "Так ведь на то он и еврей!", "Ох, еврей, еврей!" -- и тому
подобные аттестации и комплименты. Я хотел бы знать, как у других, когда
случается, что один другому не хочет помочь? Тоже нападают на всех и
говорят: весь народ не стоит того, что его земля носит? Однако хватит! Опять
я, кажется, залез неизвестно куда...
Стоим мы, стало быть, с санями посреди базара и ждем, покуда станет
совсем светло и город начнет проявлять признаки жизни. И вот наконец где-то
послышался скрип отворяемой двери, звякнуло ведро, из двух-трех труб
показался дым, и пение петухов становилось с каждым разом громче и живее, на
улице стали показываться божьи создания в образе коров, телят, коз и, не
будь рядом помянуты, мужчины, женщины и девушки, закутанные в теплые шали,
завернутые, словно куклы, согнувшиеся втрое, похожие на замороженные
кислицы, -- словом местечко ожило, как живой человек, к примеру. Проснулось,
ополоснуло руки, накинуло на себя одежду и принялось за работу: мужчины --
служить создателю, молиться, сидеть над фолиантами, читать псалмы, а женщины
-- у печей, у квашеного теста, у телят и коз. Я начал расспрашивать о
старостах: где живет реб Шепсл, реб Лейзер-Мойше, реб Иося? Спрашивают, в
свою очередь, и меня: какой Шепсл? Какой Лейзер-Мойше? Какой Иося? У нас,
говорят они, в местечке есть несколько Шепслов, несколько Лейзер-Мойшей,
несколько Иосей. А когда я сказал, что мне нужны старосты погребального
братства, они испугались и стали выпытывать, зачем молодому человеку в такую
рань старосты погребального братства? Но я не дал себя расспрашивать,
выложил все начистоту, рассказал им, какую обузу я взял на себя.
И надо было вам видеть, что тут началось! Думаете, все заторопились
освободить меня от несчастья? Как бы не так! Они выбегали на улицу, чтобы
взглянуть на сани, лежит ли там в самом деле мертвое тело или все это вообще
выдуманная история? Тем временем вокруг нас собралась толпа, но люди все
время менялись, так как холод не давал стоять подолгу на одном месте. И все
заглядывали в сани, качали головами, пожимали плечами и спрашивали, кто
покойница и откуда, кто я и кем я ей прихожусь, но помочь мне никто и не
думал. Кое-как я добился, чтобы мне указали, где живет староста Шепсл. Я
застал его стоящим лидом к стене, в молитвенном облачении, молящимся с такой
горячностью, с таким сладостным напевом и с таким экстазом, что казалось,
будто сами стены поют. Он щелкал пальцами, охал и ахал, извивался и
гримасничал. Я прямо-таки наслаждался, потому что, во-первых, очень люблю
слушать такую молитву, а во-вторых, мог пока что согреть немного свои
промерзшие кости. А когда реб Шепсл повернулся ко мне лицом, в глазах у него
все еще стояли слезы, и казался он мне божественным человеком, святым, у
которого душа так далеко от земли, как далеко его большое и тучное тело от
неба. Но так как молиться он еще не кончил, а прерывать молитву не хотел, то
разговаривал со мной по-древнееврейски, на "священном языке", то есть
размахивал руками, подмигивал, пожимал плечами, кивал головой, шмыгал носом,
а также произносил изредка кое-какие древнееврейские слова. Если хотите,
могу передать этот разговор слово в слово, Вы сами, наверно, поймете, что
говорил я и что говорил он.
-- Мир вам, реб Шепсл!
-- Алейхем шолом! И-о... Ал гасафсол... (На скамейку, древнееврейск.)
-- Спасибо, уж я достаточно насиделся.
-- Ну-о? Ма? Ма?
-- У меня к вам просьба, реб Шепсл. Заслужите царствие небесное.
-- Царствие небесное? Хорошо... Но что? Что?
-- Я вам привез покойника.
-- Покойника? Кто покойник?
-- Неподалеку отсюда есть корчма, снимает ее еврей, бедняк... И вот у
него, понимаете, умерла жена от чахотки, оставила маленьких детей... Жалость
ужасная! Если бы я не пожалел их, не знаю, что бы он, бедняга" стал делать,
этот корчмарь, с трупом посреди поля...
-- Благословен судия праведный... Но... ну... Деньги? Погребальное
братство?..
-- Какие деньги? Откуда деньги? Он -- бедняк, нищий, с кучей ребят!
Заслужите себе царствие небесное, реб Шепсл.
-- Царствие небесное? Хорошо, очень хорошо... Но что? Что? Богадельня?
Евреи? Ну? Тоже нищие? И-о! Ну, фе!
Но так как я не понял, что он хочет сказать, реб Шепсл разозлился,
снова повернулся лицом к стене и стал молиться уже не с такой горячностью,
как прежде, но немного спокойнее, тоном ниже, почти фальцетом, раскачиваясь
быстро-быстро... Потом снял с себя талес и филактерии и налетел на меня с
таким озлоблением, как если бы я ему помешал в торговых делах, чуть что не
зарезал... Помилуйте, говорил он, местечко и без того нищее, хватает ему и
своих бедняков, для которых надо собирать на саван, когда кто-нибудь из них
умирает, -- а тут еще приезжают из чужих краев, со всего света! И все --
сюда! Все -- сюда!
Я оправдывался как мог, уверял, что я тут ни при чем, покойница
одинокая, -- это все равно, сказал я, что найти на дороге труп, -- надо же
воздать ему должное, предать земле, как полагается по закону. Ведь вы же
честный человек, набожный, ведь это же сулит царствие небесное! Но он еще
пуще прежнего налетел на меня, чуть ли не прогнал вон. То есть не прогнал
буквально, но начал донимать словами:
-- Вот как? Вы стараетесь ради царствия небесного! Пройдитесь,
пожалуйста, по нашему местечку, сделайте что-нибудь, чтобы люди не так часто
умирали от голода, не замерзали бы от холода, -- и вы заслужите царствие
небесное! Человек небесного царствия! Молодой человек, торгующий райским
блаженством! Обратитесь с вашим товаром к безбожникам, может быть, они купят
у вас царствие небесное? У нас имеются свои благодеяния и заслуги, а если
нам захочется получить долю царствия небесного, мы как-нибудь и без вас
обойдемся!
Так говорит мне староста реб Шепсл и выпроваживает меня, со злостью
хлопнув дверью, и, клянусь вам честью,-- ведь мы видимся с вами в первый и,
может быть, в последний раз,-- с того дня я как-то особенно возненавидел
"порядочных", ортодоксальных евреев, невзлюбил тех, что молятся громко,
смакуют каждое слово, напевают и гримасничают, терпеть не могу святош и тех,
что разговаривают с богом, служат богу, делают все во имя бога и якобы ради
него! Правда, вы, пожалуй, скажете, что у нынешних, у свободомыслящих, не
больше, а может быть, и меньше справедливости, чем у прежних, у ханжей?
Может быть, вы и правы, но тут не так и досадно: они хоть не разговаривают с
богом. Вы спросите, почему же нынешние так дерутся за правду, распинаются,
будто сам черт их за душу хватает, а как дойдет до дела, оказывается, что
все это ломаного гроша не стоит? Однако хватит! Я, кажется, опять залез
неизвестно куда...
Стало быть, главный староста, реб Шепсл, меня, с позволения сказать,
выгнал. Что же теперь делать? Надо идти к остальным... Но тут произошло
чудо: мне не пришлось ходить к старостам, потому что старосты пришли сами,
встретились со мной носом к носу у самых дверей и обратились ко мне:
-- Уж не вы ли тот молодой человек, который с козой?
-- С какой козой? -- спросил я.
-- То есть молодой человек, который привез покойника, это вы?
-- Да, я. А что такое?
-- Идемте обратно, к реб Шепслу. Все вместе посоветуемся.
-- Посоветуемся? -- сказал я. -- А что тут советоваться? Заберите у
меня покойницу и отпустите меня. Заслужите царствие небесное.
-- А разве вас кто-нибудь держит? Можете ехать с вашей покойницей куда
угодно, хоть в Радомысль, -- мы вам еще спасибо скажем.
-- Спасибо за совет! -- ответил я.
-- Не за что! -- говорят они, и все мы пошли к реб Шепслу.
Трое старост начали разговаривать между собой, спорить, ссориться, чуть
ли не ругаться. Те говорят реб Шепслу, что он всегда препятствует, что
человек он жесткий, его не укусишь. А реб Шепсл злится, капризничает,
привередничает, доказывает, что даже в священных книгах сказано: "Нищие
твоего города в первую очередь". Тогда те двое нападают на него:
-- Ну и что же из этого? Вы, стало быть, хотите, чтобы этот молодой
человек ехал обратно с трупом?
-- Ни в коем случае! -- воскликнул я. -- Как это я повезу труп обратно?
Я приехал сюда чуть живой, мог погибнуть в поле. Крестьянин, дай ему бог
долгие годы, хотел меня выбросить из саней посреди дороги. Я прошу вас,
сжальтесь надо мной, освободите меня от покойницы,-- вы заслужите царствие
небесное!
Царствие небесное -- это, конечно, лакомый кусок! -- ответил один из
тех двоих, высокий человек с тонкими пальцами, по имени Лейзер-Мойше. --
Труп мы у вас заберем, предадим его земле, но несколько рублей это вам будет
стоить.
-- Как это? -- сказал я. -- Мало того, что я взял на себя такое доброе
дело, чуть не погиб в поле, мужичок, жить бы ему долго, хотел меня из саней
выбросить, а вы говорите -- деньги?
-- Зато вам обеспечено царствие небесное! -- ответил мне реб Шепсл с
такой поганой усмешкой, что так и захотелось огреть его хорошенько... Однако
пришлось сделать над собою огромное усилие и воздержаться, потому что я ведь
был у них в руках!
-- Позвольте! -- сказал второй из тех двоих, которого звали реб Иося,
человек небольшого роста с наполовину выщипанной бородкой. -- Надо вам
знать, молодой человек, что это еще не все: ведь у вас никаких бумаг нет!
Ведь бумаг у вас никаких!
-- Каких бумаг? -- спросил я.
-- А откуда мы знаем, кто она, эта покойница? А может быть, это совсем
не та, о которой вы говорите? -- сказал высокий, с длинными пальцами,
Лейзер-Мойше.
Я стоял, смотрел то на одного, то на другого, а Лейзер-Мойше покачивал
головой, указывал куда-то своими длинными пальцами и говорил:
-- Да, да, да... А может быть, это вы сами зарезали женщину, и может
быть, как раз вашу собственную жену, и привезли ее сюда и рассказываете
байки: полевая корчма, корчмаря жена, чахотка, малые дети, царствие
небесное?..
Я, вероятно, здорово помертвел от этих слов, потому что второй, реб
Иося, заговорил о том, что, собственно, они сами ничего не имели бы
против... Они меня, упаси бог, ни в чем не подозревают, они отлично
понимают, что я не разбойник и не злодей, но ведь я все-таки чужой человек,
а труп -- это ведь не мешок картошки, тут имеешь дело с мертвым человеком, с
покойником... Есть у нас, говорит он, казенный раввин и, не будь рядом
помянут, урядник... Протокол необходимо составить...
-- Да, да, да! Протокол! Протокол!--вмешался долговязый, которого звали
Лейзер-Мойше, и тыкает пальцем и смотрит на меня сверху вниз такими глазами,
как если бы я и в самом деле совершил преступление...
Я не мог ничего ответить. Чувствовал только, что пот выступил у меня на
лбу, и нехорошо мне стало, чуть ли не до обморока. Я хорошо понял, в каком
ужасном положении я очутился, как попался... И стыдно было мне, и досадно, и
больно. Тогда я подумал: что тут тянуть? Достал кошелек и обратился к трем
старостам погребального братства:
-- Выслушайте меня. Дело обстоит так: вижу, что я здорово попался.
Угораздила меня нелегкая остановиться в полевой корчме и попасть туда как
раз тогда, когда жене корчмаря вздумалось умереть, и услышать, как бедный
человек, обремененный кучей детей, умоляет меня заслужить себе царствие
небесное... Вот и приходится за все это расплачиваться. Вот вам мой кошелек
с деньгами, есть у меня всего-навсего рублей семьдесят с лишним. Возьмите и
поступайте, как понимаете. Оставьте мне только на дорогу до Радомысля,
заберите у меня покойницу и отпустите мою душу.
Видимо, слова мои были произнесены горячо, потому что все трое
переглянулись, не притронулись к моему кошельку и сказали, что здесь, упаси
бог, не Содом. Правда, местечко у них бедное, нищих здесь гораздо больше,
чем богатых, но напасть на чужого человека и сказать ему: "Жид, давай
гроши!" -- этого делать они не собираются. Сколько дам по доброй своей воле,
столько и ладно. Но ничего не взять -- это не пройдет, потому что местечко
нищее. Ну, а служкам, носильщикам, на саван, на водку, за могилу надо будет
дать, конечно, понемногу, сыпать деньгами незачем, потому что
расточительству конца-края нет!
Ну, что же мне вам еще рассказать? Будь у корчмаря хоть двести тысяч, у
его жены не было бы таких похорон! Все местечко сбежалось смотреть на
молодого человека, который привез покойницу. Один другому передавал историю
о молодом человеке и очень богатой покойнице, богатой теще (с чего они
взяли, что это моя теща?), и все пришли приветствовать богатого зятя,
который привез свою богатую тещу и сорит деньгами... На меня прямо-таки
указывали пальцами. А нищих! Как песчинок на морском берегу! С тех пор как
живу на свете, с тех пор как стою на ногах, я столько нищих не видал!
Накануне Судного дня возле синагоги их столько не бывает -- даже сравнить
нельзя! Меня таскали за полы, рвали на куски. Шутка ли, молодой человек,
который сыплет деньгами! Счастье, что старосты заступились за меня, не
позволили раздать все деньги. Особенно старался долговязый староста, что с
длинными пальцами, Лейзер-Мойше. Он не отходил от меня ни на минуту и не
переставал твердить и тыкать пальцами: "Молодой человек, не надо сыпать
деньгами! Этому конца-края не будет!" Но чем больше он меня удерживал, тем
больше собиралось вокруг меня нищих, и все они житья мне не давали.
-- Ничего! -- кричали они. -- Когда хоронят такую богатую тещу, можно
себе позволить истратить пару лишних грошей! Теща оставила ему немало! Дай
бог нам не хуже!..
-- Молодой человек! -- кричал какой-то оборванец -- Молодой человек!
Дайте нам на двоих полтинник! Хотя бы двугривенный дайте! Мы двое калек от
рождения, один слепой, другой кривой... Дайте хотя бы пятиалтынный,
пятиалтынный на двоих, двое калек стоят небось пятиалтынного!
-- Да вы слушайте больше, что они будут вам рассказывать! Калеки? --
кричал другой, лягая тех ногами.-- Это у него называется "калека"! Вот жена
моя -- это калека, без рук, без ног, чудом жива, да еще с малыми детьми,
тоже больными! Дайте мне, молодой человек, хотя бы еще пятак, я буду читать
поминальную молитву по вашей теще, да будет ей земля пухом!
Сейчас мне смешно. Но тогда мне было не до смеха, потому что орава
нищих росла, как на дрожжах. За полчаса всю базарную площадь запрудили,
невозможно было двигаться с носилками. Служки были вынуждены палками
разгонять толпу. Началась драка. Стали собираться русские люди, крестьянки,
мальчики и девочки, пока дело не дошло до начальства: на площади, верхом на
коне, показался урядник с нагайкой в руке. Он одним взглядом и несколькими
ударами нагайки разогнал весь народ, как птиц, а сам слез с коня, подошел к
носилкам посмотреть, в чем дело, кто такой умер и почему запрудили весь
базар? Прежде всего ему угодно было спросить у меня, кто я такой, откуда и
куда я еду? У меня душа готова была выскочить, я лишился языка. Не знаю, что
это значит: только увижу урядника, у меня опускаются руки, хоть я, как
говорят, мухи никогда не обидел и хорошо знаю, что урядник -- такой же
человек, как и все прочие. Наоборот, я знаю евреев, которые с урядником
живут в большой дружбе, ходят друг к другу в гости, на праздниках урядник
ест у еврея рыбу и, в свою очередь, угощает его яйцами, и еврей нахвалиться
не может, какой прекрасный человек урядник! И все же я, как увижу урядника,
убегаю. Видно, это у меня наследственное, потому что происхожу я от "битых",
от славутских, от настоящих славутских времен Васильчикова, о которых можно
бы рассказывать и рассказывать! Однако хватит! Я, кажется, опять забрался
неизвестно куда.
Итак, стал меня урядник допрашивать: кто я такой, что я такое, куда
еду? Поди расскажи ему, что живу я в Звогиле у тестя на хлебах, а сейчас еду
в Радомысль получать паспорт. Дай бог долголетия старостам, они выручили
меня из беды: один из тех двоих, маленький, с выщипанной бородкой, отозвал
урядника в сторону, о чем-то с ним стал шептаться, а долговязый, что с
длинными пальцами, тем временем учил меня, что говорить.
-- Осторожнее! Скажите, что вы здешний, но живете неподалеку за
городом, а это ваша теща, она умерла, и вы приехали сюда ее похоронить. А
когда будете давать ему, придумайте какое-нибудь имя... А вашего мужичка мы
позовем в дом и угостим стаканом водки, чтоб не вертелся перед глазами,--
тогда все будет очень хорошо.
Урядник вошел со мной в дом и принялся составлять протокол. Знать бы
мне так горести вместе с вами, как я знаю, что я там наболтал ему. Помню
только, что я лопотал языком, а он записывал.
-- Как тебя звать?
Речь идет о событии в Славуте, где владельцы местной еврейской
типографии были в 1835 году обвинены в убийстве и приговорены к наказанию
кнутом и поселению в Сибирь.
-- Мовша.
-- Отца?
-- Ицко.
-- Сколько лет?
-- Девятнадцать.
-- Женат?
-- Женат.
-- Дети есть?
-- Есть.
-- Чем занимаешься?
-- Купец.
-- Кто это помер?
-- Теща.
-- Как ее звали?
-- Ента.
-- Отца ее?
-- Герш.
-- Сколько ей было лет?
-- Сорок.
-- Отчего умерла?
-- От испуга.
-- От испуга?
-- От испуга.
-- Как это -- от испуга? -- спросил он, отложил перо, закурил и стал
разглядывать меня с головы до ног, а я чувствую, что вот-вот язык прилипнет
к нёбу. Тогда я подумал: все равно лгу почем зря, буду продолжать! И
рассказал ему целую историю о том, как моя теща сидела одна за работой,
вязала чулок и забыла, что в комнате сидит ее мальчик Эфраим, парнишка лет
тринадцати, но придурковатый, недотепа, все еще играет со своей тенью. И вот
зашел он за тещину спину, сложил руки и сделал на стенке "козу", а потом как
раскроет рот да как заблеет: "Ме-е-е!" -- и теща свалилась со стула и тут же
померла.
Так вот и сочиняю я ему эту историю, а он глаз с меня не сводит...
Выслушал до конца, сплюнул, вытер рыжие усы и выходит вместе со мной на
улицу. Подошел к носилкам, приподнял черное покрывало, посмотрел на лицо
покойницы и покачал головой, будто желая сказать: "Что-то здесь не так!.." Я
смотрю на него, он -- на меня, потом он обращается к старостам:
-- Ну, покойницу можете похоронить, а его, этого молодца, придется
задержать, пока я не расследую все дело, правда ли, что это его теща и что
она умерла от испуга...
Можете себе представить, каково мне было, когда я услыхал это! От горя
я отвернулся в сторонку и расплакался, -- но как расплакался? Как малое
дитя!
-- Молодой человек, чего вы плачете? -- обращается ко мне тот, которого
зовут реб Иося, и начинает утешать меня, уверяя, что ничего мне не будет.
Одно из двух: если я чист, чего же мне бояться? "Кто чесноку не ел, у того
изо рта не пахнет",-- добавляет реб Шепсл с такой усмешечкой, что мне
хочется закатить ему парочку горячих оплеух в обе пухлые щеки... Господи! К
чему было мне придумывать такую грубую ложь, примешивать мою тещу? Не
хватало еще мне, чтобы вся история дошла до нее, чтобы она узнала, как я ее
заживо похоронил!..
Перестаньте! Не пугайтесь так, бог с вами! Барин вовсе не такой
сердитый, как вы думаете. Вы только суньте ему в руку... И скажите, чтобы он
с протоколом покончил... Он умный начальник и пройдоха... Он отлично
понимает, что все, что вы ему наговорили, -- ложь и враки. Так говорит мне
реб Лейзер-Мойше и тычет своими тонкими пальцами. Если бы я только мог, я бы
разорвал его пополам, как селедку. Ведь это же он сам надоумил меня врать,
прах его побери!..
Больше рассказывать не могу. Я даже вспомнить не могу, что пришлось мне
тогда пережить. Вы сами, конечно, понимаете, что деньги у меня забрали, в
кутузку засадили, судили... Но все это ерунда в сравнении с тем, что я
получил потом, когда до моей тещи и тестя дошло, что их зять сидит из-за
трупа, который он откуда-то привез... Они, понятно, тут же приехали,
заявили, что они мои тесть и теща,-- и тут только и заварилась настоящая
каша: с одной стороны, полиция берет меня на цугундер: "Как же так, мил
человек? Коль скоро твоя теща, Ента, дочь Герша, жива и здорова, так кто же
была умершая?.." Это -- одно. А во-вторых -- за меня принялась моя теща:
-- Я спрашиваю только об одном: скажи, что ты имел против меня, за что
ты похоронил меня заживо?!
На суде, понятно, выяснилось, что я чист, как золото. Это стоило денег,
привезли корчмаря с детьми, и меня из заключения освободили. Но того, что я
тогда натерпелся, и главным образом от тещи, -- я и лютому своему врагу не
пожелаю!..
С тех пор я бегу от всего, что сулит царствие небесное.
---
Шолом Алейхем
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ. Рассказы. М., Политиздат. 1964.
63 с. (Худож. атеистич. б-ка).
На обороте тит. л.: сост. В. Гейшин.
С(Евр.) 1
Оригинал-макет брошюры подготовлен на печатно-кодирующем устройстве
ВНИИПП Министерства культуры СССР
Редактор А. Белов
Художественный редактор Г. Семиреченко
Технический редактор О. Семенова
Сдано в набор-печать 14 января 1964 г. Формат 70 X 1087з2-
Физ. печ. л. 2. Условн. печ. л. 2,74. Учетно-изд. л. 2,53.
Тираж 150 тыс. экз.
А 01008. Заказ No 1873.
Цена 6 коп.
Работа объявлена в Т. п. 1964 г., стр.311--320.
Политиздат, Москва, А-47, Миусская пл., 7.
Отпечатано с матриц типографии "Красный пролетарий", Москва,
Краснопролетарская. 16 в типографии "Радянська Украiна",
Киев, Анри Барбюса, 51/2. 3. 477.
Хотите, расскажу вам интересную историю о том, как я сам однажды
взвалил себе на плечи обузу и чуть-чуть не навлек на себя несчастье! А из-за
чего, думаете? Только из-за того, что был я молодым человеком, еще
неопытным, не слишком изощренным, то есть возможно, что мне и сейчас еще
далеко до умного, потому что, будь я умным, у меня, как вы говорите,
водились бы деньги... Ведь тот, кто имеет деньги, и умен, и хорош, и даже
петь умеет.
Был я, стало быть, молодым мужем, жил у тестя с тещей на всем готовом,
сидел над фолиантами, заглядывал тайком, по секрету от тестя и тещи, в
светские книжки, и не столько по секрету от тестя, сколько от тещи. У меня,
надо вам сказать, теща -- мужчина, то есть женщина, но в штанах... Она одна
ведет все дела, сама детей просватала, выбирала женихов для дочерей. И меня
она сама выбирала, проверила, что я знаю, сама привезла в Звогиль из
Радомысля -- я-то радомысльский, слыхали, наверное, недавно о моем городе
писали в газетах...
И вот сидел я в Звогиле на готовых харчах, корпел над "Море-Небухим" не
вылезал за порог, пока не пришло время, когда нужно было приписаться к
призывному участку, -- тут уж ничего не поделаешь, надо съездить домой, в
Радомысль, привести в порядок бумаги, похлопотать насчет льготы, получить
паспорт, как полагается. Это был, можно сказать, мой первый выезд в свет.
Пошел я на базар нанимать подводу, тоже сам, чтоб показать, что я человек
самостоятельный. И бог послал мне удачу: я нашел мужичка из Радомысля --
дело было зимой -- с крашеными санями, широкой спинкой и крыльями по бокам,
как у орла... Только упустил из виду, что лошадка была белая, а белая
лошадка, говорит теща, приносит несчастье.
-- Дай бог, -- сказала она, -- соврать, но боюсь, что эта поездка
окончится большой неприятностью...
-- Типун тебе на язык! -- сорвалось с языка у тестя,
о чем он тут же пожалел, так как получил нагоняй. Но мне он шепнул:
"Бабьи сказки!" И я начал готовиться в дорогу: взял талес и филактерии
(Особые коробочки с вложенными внутрь текстами из библии; укрепляются на лбу
и предплечье левой руки религиозными евреями во время молитвы), печенье,
несколько рублей на расходы, три подушки: одну --под сиденье, одну -- за
спину, одну -- на ноги, и давай прощаться. Дошло дело до прощания -- нет
слов! Так уж у меня всегда: когда надо прощаться, лишаюсь языка! Не
знаю, что и сказать! И получается как будто грубовато: как это можно
повернуться к каждому, извините, задом и оставить просто так? Не знаю, как
вам, но для меня до сих пор прощание -- дело очень неприятное! Однако
погодите! Я, кажется, залез бог знает куда...
И вот, значит, распрощался я честь-честью и рано утром отправился в
путь-дорогу, на Радомысль. Было это в начале зимы, снег лег рано, санный
путь был хорош. Лошадка, хоть и белая, а бежала резво. Извозчик попался мне
молчаливый, из тех, что на все отвечают либо "Эге!" -- что означает "да",
либо: "Бо-ни", что означает "нет", а больше -- хоть режь его! Выехал я из
дому поевши, настроение хорошее, подушка внизу, подушка за спиной, подушка
на ногах. Лошадка, скачет, извозчик причмокивает, сани скользят, ветер дует,
снежок сыплет сверху и ложится пухом на широкий тракт, и на душе у меня
хорошо, замечательно хорошо, свободно, широко, светло... Все-таки впервые
вылез на божий свет один, сам себе хозяин! Откидываюсь на спинку и
разваливаюсь в санях барином... Но зимой как бы тепло ни оделся, мороз
пробирает и хочется остановиться, погреться, перехватить что-нибудь и ехать
дальше. И представляется мне, в мыслях конечно, теплая корчма, кипящий
самовар, свежее тушеное мясо и горячий бульон... От таких мыслей начинает
сосать под ложечкой, хочется попросту закусить. Заговариваю насчет корчмы с
моим возницей, хочу узнать, далеко ли еще ехать? А он отвечает: "Бо-ни", --
то есть нет. Спрашиваю: "Уж близко?" А он отвечает: "Эге!" -- стало быть,
да! Сколько все-таки до корчмы? Это трудно вытянуть из него, хоть ложись и
помирай! И я представляю себе, что было бы, если бы, скажем, на месте этого
мужичка сидел еврей. Ведь он растолковал бы мне не только, где находится
корчма, он рассказал бы, кто содержит корчму, как его звать, и сколько у
него детей, и сколько он платит за аренду корчмы, и сколько корчма ему
приносит, и сколько лет он уже здесь живет, и кто жил здесь до него, --
конца-краю не было бы рассказам! Экий странный народ! То есть я имею в виду
наших евреев! Совсем какая-то другая кровь, право!..
Мечтал я, стало быть, о теплой корчме, фантазировал о горячем самоваре
и тому подобных хороших вещах, покуда господь не сжалился. Мой мужичок
зачмокал, свернул чуть в сторону, и я увидел небольшой серый домишко, сверху
донизу засыпанный снегом, полевую корчму, которая среди заснеженного белого
поля выглядела как-то очень уж одиноко и больше походила на заброшенное,
забытое надгробие... Лихо подъехав к корчме, мой извозчик с лошадью и санями
направился в сарай, а я двинулся прямо в избу, отворил дверь и...
остановился на пороге -- ни туда, ни сюда! В чем дело? Замечательная
история! Посреди корчмы на полу лежит покойник, накрытый черным, у изголовья
-- два медных подсвечника с маленькими свечками, а кругом сидят ребятишки
оборванные, обшарпанные, колотят себя ручонками по голове, плачут, рыдают,
голосят: "Мама! Ма-ма!" А некто высокий, длинноногий, в летней рваной
накидке, совсем не по сезону, шагает по комнате, ломает руки и говорит
самому себе: "Что делать? Что делать? Как быть?" Я, конечно, понял, на какое
торжество меня принесло! Первой мыслью моей было: "Нойах, беги!" Я подался
назад и хотел убраться. Но дверь за мной закрылась, меня словно приковало к
порогу, и я не мог двинуться с места.
Увидав перед собою свежего человека, высокий устремился ко мне,
протянул обе руки, как человек, молящий о спасении.
-- Что вы скажете о моем несчастии? -- проговорил он, указывая на
плачущих детей. -- Умерла у них, у бедняжек, мать! Что делать? Что делать?
Как быть?
-- Благословен судия праведный! -- произнес я и хотел, как водится,
утешить его добрым словом. Но он перебил меня и говорит:
-- Понимаете ли, дело-то, собственно, такое... Она, жена моя, уже с
прошлого года все равно что мертвая. У нее была проклятая болезнь --
чахотка... Она сама молила бога о смерти. Но горе в том, что живем мы здесь,
в глуши, посреди поля. Что делать? Что делать? Как быть? Пойти куда-нибудь в
деревню, поискать подводу и отвезти ее в город, но как бросить детей одних
посреди поля? А тут дело к ночи. Боже мой, ну что же делать? Что делать? Как
быть?
При этом человек расплакался как-то странно, без слез, будто смеялся,
взвизгивая не своим голосом... Душа болела, глядя на него! Где уж там голод!
Где холод! Забыл я обо всем на свете и говорю:
-- Я еду из Звогиля в Радомысль, сани у меня очень хорошие. Если
местечко, как вы говорите, недалеко отсюда, я могу дать вам мои сани, а сам
подожду здесь, если это недолго.
Ой, дай вам бог долгих лет за ваше благодеяние! Царствие небесное
купите себе, честное слово! Царствие небесное! -- воскликнул он и чуть не
бросился меня целовать. -- Местечко совсем недалеко отсюда, всего версты
четыре или пять. На дорогу понадобится не больше часа, я тут же отошлю сани
обратно. Царствие небесное заслужите, честное слово! Дети! Встаньте,
благодарите, целуйте руки этого молодого человека, в ноги кланяйтесь, он
дает нам свою подводу, я отвезу маму в святое место! Царствие небесное,
честное слово, царствие небесное!..
Слово "радость" было здесь, конечно, не к месту, потому что дети,
услыхав, что отец "отвезет маму", снова припали к покойнице и опять стали
рыдать с еще большей силой. Все же для них было доброй вестью, что нашелся
человек, который окажет им услугу. Сам бог привел его сюда! На меня
смотрели, как на избавителя, как на некоего Илью-пророка, и должен вам
сказать по чистой совести, что и сам я в это время смотрел на себя, как на
необыкновенного человека, я сразу вырос в собственных глазах, стал что
называется "героем". В эту минуту я был готов переносить горы,
переворачивать миры. Не было, кажется, для меня ничего трудного. И у меня
сорвалось с языка:
-- Знаете что? Я сам ее отвезу, с моим извозчиком то есть. Зачем вам
трудиться, отрываться от детей?
И чем дальше, тем больше вся эта семья смотрела на меня, как на ангела,
посланного с неба, а я сам в своих глазах вырастал все выше и выше, чуть ли
не до облаков. Позабыл я в ту минуту, что боюсь прикасаться к покойникам, и
сам своими руками помог вынести жену корчмаря и положить в сани, пообещав
своему мужичку лишний полтинник и лишнюю рюмку водки. Поначалу извозчик
почесывал затылок и что-то ворчал под нос, но после третьей рюмки смягчился,
и мы втроем поехали, то есть я, извозчик и покойная жена корчмаря
Хаве-Нехама (так ее звали), Хаве-Нехама, дочь Рефоел-Михла, помню это как
сегодня, потому что всю дорогу повторял ее имя... Муж несколько раз повторил
мне его, потому что, когда ее будут хоронить, воздавать ей должное и просить
у нее прощения, непременно надо знать ее имя. И я всю дорогу повторял, учил
наизусть: Хаве-Нехама, дочь Рефоел-Михла! Хаве-Нехама, дочь Рефоел-Михла! А
повторяя, я забыл, как зовут ее мужа, хоть голову сними! А он назвал мне
свое имя и говорил, что в местечке, как только я назову его, у меня сейчас
же заберут покойницу. Он в этом местечке уже много лет подряд бывает на
осенних праздниках и тратит массу денег в синагоге, когда собирают
пожертвования, и в бане, не будь она рядом помянута, и везде и всюду! И еще
что-то говорил он мне, этот корчмарь, натрещал полную голову -- куда заехать
и что сказать, но у меня все это сразу вылетело из памяти, не оставив и
следа! Все мои мысли вертелись вокруг одного: я везу покойницу -- этого было
достаточно, чтобы все в голове у меня перепуталось, чтобы я забыл даже, как
меня зовут, потому что с детства я смертельно боюсь покойников! До сих пор
не могу оставаться один с покойником -- хоть озолотите меня! Мне все
кажется, что полуприкрытые, якобы закатившиеся глаза смотрят и видят меня,
что сомкнутые мертвые губы вот-вот откроются и послышится дикий голос, как
из-под земли. От одних этих фантазий можно в обморок упасть! Недаром у нас
рассказывают истории о покойниках, о том, как люди от страха падали в
обморок, сходили с ума, а то и вовсе помирали на месте.
Ехали мы, значит, втроем с покойницей. Ей я уступил одну из моих
подушек и положил ее поперек саней у себя в ногах. А чтобы отвлечься от
мрачных мыслей, я начал разглядывать небо и повторять про себя:
"Хаве-Нехама, дочь Рефоел-Михла! Хаве-Нехама, дочь Рефоел-Михла!" -- до тех
пор пока имена стали путаться у меня в памяти и уже получалось:
"Хаве-Рефоел, дочь Нехама-Михла" и "Рефоел-Михл, дочь Хаве-Нехамы..." Я
совсем не замечал, что вокруг как-то становится все темнее и темнее, ветер
крепчает, а снег, не переставая, сыплет и сыплет и заносит дорогу, так что
сани идут неизвестно куда, а мой мужичок чего-то ворчит с каждым разом все
громче и громче, и я готов поклясться, что он произносит по моему адресу
трехэтажное благословение... Спрашиваю: "Ну, что там у тебя?" А он в ответ с
озлоблением плюет, упаси и помилуй бог! И. вдруг у него раскрывается рот, и
он начинает сыпать: я, мол, погубил его вместе с лошадкой! Из-за того, что
мы взяли в сани покойницу,, лошадка потеряла дорогу, и мы сбились с пути, и
бог знает до каких пор будем блуждать, вот-вот настанет ночь,-- тогда мы
пропали!..
Веселая весть, что и говорить! Я готов был ехать обратно в корчму,
отказаться от благодеяния и от заслуженного царствия небесного! Но извозчик
сказал, что теперь уже поздно, теперь ни вперед, ни назад, ехать некуда,
потому что мы кружим где-то посреди поля, черт его ведает где!.. Дорогу
занесло, небо потемнело, уке глубокая ночь, и лошадь замучена до смерти!
Черт бы побрал корчмаря, погибель на всех корчмарей во всем свете! Пусть бы
он, говорит извозчик, лучше ногу себе сломал прежде, чем остановиться в этой
корчме! Нехай бы ему поперек горла встала первая стопка водки, нежели дать
себя уговорить и сделать такую глупость, взять к себе в сани этакую беду,
из-за поганого "полшмардованца" пропадать тут в поле, ко всем чертям, с
конякою вместе! Да уж он-то сам ладно, может, ему и суждено тут вот
окочуриться, а лошадка, бедняга, при чем? И что им от нее понадобилось?
Безвинная животина, скотинка, с нее спрос небольшой.
Готов поклясться, что в голосе его слышались слезы... Хотел я излить
перед ним душу, обещал еще полтину и две стопки водки, но он вскипел и
заявил, что, если я не замолчу, он и вовсе выбросит из саней нашу
"находку"!.. И я подумал: а что я буду делать, если он и в самом деле
выбросит покойницу из саней со мной вместе? Мало ли что может сделать
извозчик, если рассердится? Пришлось замолчать и сидеть в санях, зарывшись в
подушки, остерегаться, как бы не заснуть, потому что как же можно спать,
когда перед глазами лежит труп? А во-вторых, я слыхал, что зимой на морозе
спать нельзя: можно незаметно уснуть навеки...
Но словно назло, глаза у меня слипаются, хочется вздремнуть. Я бы,
кажется, в ту минуту ничего не пожалел, только бы подремать!.. Я с силой
раскрываю глаза, но они не слушаются и постепенно закрываются, снова
открываются и опять слипаются... А сани скользят по белому, глубокому и
рыхлому снегу, и по всему телу разливается какая-то странная истома, и
хочется, чтобы это состояние продолжалось как можно дольше... Но другая
сила, не знаю откуда, тормошит меня: "Не спи, Нойах, не спи!" Я с трудом
раздираю веки, и от блаженного состояния не остается и следа, оно сменяется
холодом, пронизывающим все внутри, меланхолией, страхом и ужасом, -- не
приведи господь! Кажется, что моя покойница шевелится, раскрывается и
смотрит на меня полузакрытыми глазами, словно хочет сказать: "Что ты имеешь
против меня, молодой человек? За что ты хочешь загубить мертвую женщину,
мать маленьких детей, не предаешь ее земле, как по закону положено?" А ветер
завывает человеческим голосом, свистит прямо в ухо, поверяет страшную
тайну... И страшные мысли, думы, опасения лезут в голову, и чудится мне, что
все мы под снегом -- я, извозчик, его лошадка и покойница... Мы все мертвы,
и только покойница -- поразительно! -- одна только покойница, жена корчмаря,
жива...
Но вдруг я слышу, мой мужичок причмокивает как- то очень весело,
благодарит бога, крестится в темноте и вздыхает. Словно новую душу вдохнул
он в меня, я вижу вдалеке мелькает огонек, он то покажется, то погаснет, то
снова вспыхнет. "Селение!" -- думаю я и от всего сердца благодарю бога и
обращаюсь к моему вознице:
-- Выбрались как будто на дорогу? Пожалуй, скоро будем в местечке?
-- Эге! -- отвечает он, как и прежде кратко, но уже спокойно, без
злобы, и хочется его обнять сзади, поцеловать в плечо за добрую весть, за
его доброе и тихое "эге", которое сейчас мне дороже самой умной проповеди!
-- Тебя как звать? -- спрашиваю я и удивляюсь, почему я до сих пор не
узнал его имени.
-- Микита, -- отвечает он, по своему обыкновению, кратко.
-- Микита? -- переспрашиваю я, и это имя кажется мне особенно
симпатичным.
-- Эге! -- отвечает он, как обычно.
И мне очень хочется, чтоб Микита сказал еще что- нибудь, хотя бы
два-три слова хотелось от него услышать. Он становится мне дорог, и лошадка
его мне дорога... Я завожу с ним разговор о лошадке, говорю, что лошадка у
него хороша. Очень славная лошадка!
-- Эге! -- отвечает Микита.
-- И сани у тебя, Микита, очень хорошие!
-- Эге! -- соглашается он и больше ни слова сказать не хочет, хоть режь
его.
-- Не любишь, -- говорю я, -- разговоры водить, Ми- кита-сердце?
-- Эге! -- отвечает он.
Я смеюсь, мне весело, хорошо и весело, словно я взял Очаков, или нашел
клад, или открыл что-то новое, еще никому не известное,-- словом, я счастлив
сверх всякой меры! А по какой причине, не скажете ли вы? Хочется петь во
весь голос, честное слово! У меня вообще такая манера: когда хорошо на душе,
я пою. Жена знает уже мой характер, она спрашивает: "Что случилось, Нойах?
Сколько ты заработал, что так распелся?" Женщинам по женскому их разумению
представляется, что человеку может быть весело только в том случае, если он
что-нибудь заработал. А иначе у человека не может быть хорошего настроения.
Откуда это берется, что наши жены гораздо больше жадны до денег, чем мы,
мужчины? Казалось бы, кто работает ради денег? Мы или они? Однако хватит! Я
снова, кажется, залез бог знает куда...
Приехали мы, стало быть, с божьей помощью, в местечко раным-рано. Все
еще спали, до рассвета было далеко, нигде огонька не видать. Наконец увидели
домишко с большими воротами и веником на одной из створок -- примета
заезжего дома. Мы остановились, вылезли из саней и стали с Микитой колотить
кулаками в ворота. Стучали, стучали, наконец бог помог, увидели в окне
огонек. Потом услыхали -- кто-то шлепает и спрашивает из-за ворот:
-- Кто там?
-- Отворите, -- отвечаю, -- дяденька! Заслужите царствие небесное!
-- Царствие небесное? А кто вы такие? -- произносит голос и принимается
отпирать замок.
-- Отворите, -- говорю я. -- Я привез сюда покойника.
-- Кого?
-- Покойника!
-- Что значит -- покойника?
-- Покойника -- значит умершего. Умершую женщину привез я из деревни,
из корчмы.
По ту сторону ворот стало тихо. Слышно было только, как замок снова
заперли, ноги прошлепали, видимо, обратно, а потом погас и огонек -- и поди
жалуйся господу богу! Это меня разозлило, и я попросил моего мужичка помочь
мне стучать кулаками в окно. Принялись мы оба стучать так энергично, что
огонек снова загорелся и снова послышался голос из-за ворот:
-- Чего вы от меня хотите? Что еще за напасть?
-- Ради бога! -- умоляю я его, как разбойника. -- Сжальтесь, я здесь с
покойником!
-- С каким покойником?
-- С женой корчмаря.
-- Какого корчмаря?
-- Я забыл, как его зовут, но ее зовут Хаве-Михл, дочь Ханы-Рефоела, то
есть Хане-Рефоел, дочь Хавы-Михл, то есть Хана-Хана-Хана...
-- Если не уйдете отсюда, несчастный, сейчас ведром воды окачу!
Так отвечает хозяин заезжего дома и уходит от окна, гасит огонек, и
поди делай с ним что хочешь!.. И только через час, когда начало светать,
открылась калитка, высунулась черная голова в белых перьях и обратилась ко
мне:
-- Это вы барабанили в окно?
-- Я, а кто же?
-- Чего вы хотели?
-- Я привез покойника.
-- Покойника? Везите его к служке погребального братства.
-- А где он живет, ваш служка? Как его звать?
-- Зовут его Ехиел, а живет он под горой, недалеко от бани.
-- А где тут у вас баня?
-- Баню не знаете? Вы, наверное, не здешний? Откуда будете?
-- Откуда? Из Радомысля, радомысльский я, но еду я из Звогиля, а
покойника везу из корчмы, здесь неподалеку, это жена корчмаря, она умерла от
чахотки.
-- Не про нас будь сказано! А вы тут, собственно, причем?
-- Я? Да ни при чем! Я ехал мимо, а он меня попросил, корчемник то
есть. Живет он посреди поля с малыми детишками, негде похоронить... Вот я и
подумал: человек просит, сулит царствие небесное,-- почему не сделать?
-- Что-то здесь не все ладно! -- отвечает он. -- Придется вам прежде
всего повидаться со старостами.
-- А кто у вас старосты? Где они живут?
-- Старост не знаете? Реб Шепсл, староста, живет он по ту сторону
базара. Реб Лейзер-Мойше, староста, живет по самой середине базара. Реб
Иося, тоже староста, живет около старой синагоги. Но прежде всего надо вам
повидаться с реб Шепслом, он у нас самый главный. Человек жесткий,
предупреждаю вас, его не так-то скоро разжуешь.
-- Спасибо! -- говорю. -- Дай вам бог сообщать более веселые вести. А
когда я смогу с ними повидаться?
-- Что значит, когда? Утром, бог даст, после моления.
-- Поздравляю! А что мне делать до тех пор? Пустите хоть войти
погреться. У вас тут, видимо, хороший Содом?
Услыхав такие слова, хозяин заезжего дома тут же снова запер ворота, и
снова стало тихо, как на кладбище. Что же делать дальше? Стоим с санями
посреди улицы.
Микита злится, ворчит, почесывает затылок, плюется и сыплет
трехэтажными благословениями: "Погибель, -- говорит он, -- на этого
корчмаря, да и на всех корчмарей во всем свете! Уж я-то сам -- ладно, черт
меня не возьмет! Но конягу! Какого беса морят голодом и холодом несчастную
лошадку? Безвинную животину, скотинку... Она тут при чем?.."
Стыд и срам перед этим крестьянином. Мне приходит в голову: что, к
примеру, думает он о нас, евреях? Как выглядим мы, "милосердные из
милосердных" (Талмудическая поговорка о евреях), в сравнении с ними, людьми
грубыми, когда еврей еврею не желает дверь открыть, не пускает даже
погреться,-- ну, разве не стоим мы втрое больше того, что имеем? Так я
оправдываю все, что выпало на нашу долю, и обвиняю всех, как это обычно
делает еврей, когда другой еврей отказывает ему в одолжении. Никто так много
худого не говорит о нас, сколько мы сами. Тысячу раз на дню можно услышать
из уст каких угодно евреев такие слова: "С евреем не шути!", "С евреем
хотите столковаться?", "С евреями хорошо кугл кушать!", "На это способен
только еврей!", "Так ведь на то он и еврей!", "Ох, еврей, еврей!" -- и тому
подобные аттестации и комплименты. Я хотел бы знать, как у других, когда
случается, что один другому не хочет помочь? Тоже нападают на всех и
говорят: весь народ не стоит того, что его земля носит? Однако хватит! Опять
я, кажется, залез неизвестно куда...
Стоим мы, стало быть, с санями посреди базара и ждем, покуда станет
совсем светло и город начнет проявлять признаки жизни. И вот наконец где-то
послышался скрип отворяемой двери, звякнуло ведро, из двух-трех труб
показался дым, и пение петухов становилось с каждым разом громче и живее, на
улице стали показываться божьи создания в образе коров, телят, коз и, не
будь рядом помянуты, мужчины, женщины и девушки, закутанные в теплые шали,
завернутые, словно куклы, согнувшиеся втрое, похожие на замороженные
кислицы, -- словом местечко ожило, как живой человек, к примеру. Проснулось,
ополоснуло руки, накинуло на себя одежду и принялось за работу: мужчины --
служить создателю, молиться, сидеть над фолиантами, читать псалмы, а женщины
-- у печей, у квашеного теста, у телят и коз. Я начал расспрашивать о
старостах: где живет реб Шепсл, реб Лейзер-Мойше, реб Иося? Спрашивают, в
свою очередь, и меня: какой Шепсл? Какой Лейзер-Мойше? Какой Иося? У нас,
говорят они, в местечке есть несколько Шепслов, несколько Лейзер-Мойшей,
несколько Иосей. А когда я сказал, что мне нужны старосты погребального
братства, они испугались и стали выпытывать, зачем молодому человеку в такую
рань старосты погребального братства? Но я не дал себя расспрашивать,
выложил все начистоту, рассказал им, какую обузу я взял на себя.
И надо было вам видеть, что тут началось! Думаете, все заторопились
освободить меня от несчастья? Как бы не так! Они выбегали на улицу, чтобы
взглянуть на сани, лежит ли там в самом деле мертвое тело или все это вообще
выдуманная история? Тем временем вокруг нас собралась толпа, но люди все
время менялись, так как холод не давал стоять подолгу на одном месте. И все
заглядывали в сани, качали головами, пожимали плечами и спрашивали, кто
покойница и откуда, кто я и кем я ей прихожусь, но помочь мне никто и не
думал. Кое-как я добился, чтобы мне указали, где живет староста Шепсл. Я
застал его стоящим лидом к стене, в молитвенном облачении, молящимся с такой
горячностью, с таким сладостным напевом и с таким экстазом, что казалось,
будто сами стены поют. Он щелкал пальцами, охал и ахал, извивался и
гримасничал. Я прямо-таки наслаждался, потому что, во-первых, очень люблю
слушать такую молитву, а во-вторых, мог пока что согреть немного свои
промерзшие кости. А когда реб Шепсл повернулся ко мне лицом, в глазах у него
все еще стояли слезы, и казался он мне божественным человеком, святым, у
которого душа так далеко от земли, как далеко его большое и тучное тело от
неба. Но так как молиться он еще не кончил, а прерывать молитву не хотел, то
разговаривал со мной по-древнееврейски, на "священном языке", то есть
размахивал руками, подмигивал, пожимал плечами, кивал головой, шмыгал носом,
а также произносил изредка кое-какие древнееврейские слова. Если хотите,
могу передать этот разговор слово в слово, Вы сами, наверно, поймете, что
говорил я и что говорил он.
-- Мир вам, реб Шепсл!
-- Алейхем шолом! И-о... Ал гасафсол... (На скамейку, древнееврейск.)
-- Спасибо, уж я достаточно насиделся.
-- Ну-о? Ма? Ма?
-- У меня к вам просьба, реб Шепсл. Заслужите царствие небесное.
-- Царствие небесное? Хорошо... Но что? Что?
-- Я вам привез покойника.
-- Покойника? Кто покойник?
-- Неподалеку отсюда есть корчма, снимает ее еврей, бедняк... И вот у
него, понимаете, умерла жена от чахотки, оставила маленьких детей... Жалость
ужасная! Если бы я не пожалел их, не знаю, что бы он, бедняга" стал делать,
этот корчмарь, с трупом посреди поля...
-- Благословен судия праведный... Но... ну... Деньги? Погребальное
братство?..
-- Какие деньги? Откуда деньги? Он -- бедняк, нищий, с кучей ребят!
Заслужите себе царствие небесное, реб Шепсл.
-- Царствие небесное? Хорошо, очень хорошо... Но что? Что? Богадельня?
Евреи? Ну? Тоже нищие? И-о! Ну, фе!
Но так как я не понял, что он хочет сказать, реб Шепсл разозлился,
снова повернулся лицом к стене и стал молиться уже не с такой горячностью,
как прежде, но немного спокойнее, тоном ниже, почти фальцетом, раскачиваясь
быстро-быстро... Потом снял с себя талес и филактерии и налетел на меня с
таким озлоблением, как если бы я ему помешал в торговых делах, чуть что не
зарезал... Помилуйте, говорил он, местечко и без того нищее, хватает ему и
своих бедняков, для которых надо собирать на саван, когда кто-нибудь из них
умирает, -- а тут еще приезжают из чужих краев, со всего света! И все --
сюда! Все -- сюда!
Я оправдывался как мог, уверял, что я тут ни при чем, покойница
одинокая, -- это все равно, сказал я, что найти на дороге труп, -- надо же
воздать ему должное, предать земле, как полагается по закону. Ведь вы же
честный человек, набожный, ведь это же сулит царствие небесное! Но он еще
пуще прежнего налетел на меня, чуть ли не прогнал вон. То есть не прогнал
буквально, но начал донимать словами:
-- Вот как? Вы стараетесь ради царствия небесного! Пройдитесь,
пожалуйста, по нашему местечку, сделайте что-нибудь, чтобы люди не так часто
умирали от голода, не замерзали бы от холода, -- и вы заслужите царствие
небесное! Человек небесного царствия! Молодой человек, торгующий райским
блаженством! Обратитесь с вашим товаром к безбожникам, может быть, они купят
у вас царствие небесное? У нас имеются свои благодеяния и заслуги, а если
нам захочется получить долю царствия небесного, мы как-нибудь и без вас
обойдемся!
Так говорит мне староста реб Шепсл и выпроваживает меня, со злостью
хлопнув дверью, и, клянусь вам честью,-- ведь мы видимся с вами в первый и,
может быть, в последний раз,-- с того дня я как-то особенно возненавидел
"порядочных", ортодоксальных евреев, невзлюбил тех, что молятся громко,
смакуют каждое слово, напевают и гримасничают, терпеть не могу святош и тех,
что разговаривают с богом, служат богу, делают все во имя бога и якобы ради
него! Правда, вы, пожалуй, скажете, что у нынешних, у свободомыслящих, не
больше, а может быть, и меньше справедливости, чем у прежних, у ханжей?
Может быть, вы и правы, но тут не так и досадно: они хоть не разговаривают с
богом. Вы спросите, почему же нынешние так дерутся за правду, распинаются,
будто сам черт их за душу хватает, а как дойдет до дела, оказывается, что
все это ломаного гроша не стоит? Однако хватит! Я, кажется, опять залез
неизвестно куда...
Стало быть, главный староста, реб Шепсл, меня, с позволения сказать,
выгнал. Что же теперь делать? Надо идти к остальным... Но тут произошло
чудо: мне не пришлось ходить к старостам, потому что старосты пришли сами,
встретились со мной носом к носу у самых дверей и обратились ко мне:
-- Уж не вы ли тот молодой человек, который с козой?
-- С какой козой? -- спросил я.
-- То есть молодой человек, который привез покойника, это вы?
-- Да, я. А что такое?
-- Идемте обратно, к реб Шепслу. Все вместе посоветуемся.
-- Посоветуемся? -- сказал я. -- А что тут советоваться? Заберите у
меня покойницу и отпустите меня. Заслужите царствие небесное.
-- А разве вас кто-нибудь держит? Можете ехать с вашей покойницей куда
угодно, хоть в Радомысль, -- мы вам еще спасибо скажем.
-- Спасибо за совет! -- ответил я.
-- Не за что! -- говорят они, и все мы пошли к реб Шепслу.
Трое старост начали разговаривать между собой, спорить, ссориться, чуть
ли не ругаться. Те говорят реб Шепслу, что он всегда препятствует, что
человек он жесткий, его не укусишь. А реб Шепсл злится, капризничает,
привередничает, доказывает, что даже в священных книгах сказано: "Нищие
твоего города в первую очередь". Тогда те двое нападают на него:
-- Ну и что же из этого? Вы, стало быть, хотите, чтобы этот молодой
человек ехал обратно с трупом?
-- Ни в коем случае! -- воскликнул я. -- Как это я повезу труп обратно?
Я приехал сюда чуть живой, мог погибнуть в поле. Крестьянин, дай ему бог
долгие годы, хотел меня выбросить из саней посреди дороги. Я прошу вас,
сжальтесь надо мной, освободите меня от покойницы,-- вы заслужите царствие
небесное!
Царствие небесное -- это, конечно, лакомый кусок! -- ответил один из
тех двоих, высокий человек с тонкими пальцами, по имени Лейзер-Мойше. --
Труп мы у вас заберем, предадим его земле, но несколько рублей это вам будет
стоить.
-- Как это? -- сказал я. -- Мало того, что я взял на себя такое доброе
дело, чуть не погиб в поле, мужичок, жить бы ему долго, хотел меня из саней
выбросить, а вы говорите -- деньги?
-- Зато вам обеспечено царствие небесное! -- ответил мне реб Шепсл с
такой поганой усмешкой, что так и захотелось огреть его хорошенько... Однако
пришлось сделать над собою огромное усилие и воздержаться, потому что я ведь
был у них в руках!
-- Позвольте! -- сказал второй из тех двоих, которого звали реб Иося,
человек небольшого роста с наполовину выщипанной бородкой. -- Надо вам
знать, молодой человек, что это еще не все: ведь у вас никаких бумаг нет!
Ведь бумаг у вас никаких!
-- Каких бумаг? -- спросил я.
-- А откуда мы знаем, кто она, эта покойница? А может быть, это совсем
не та, о которой вы говорите? -- сказал высокий, с длинными пальцами,
Лейзер-Мойше.
Я стоял, смотрел то на одного, то на другого, а Лейзер-Мойше покачивал
головой, указывал куда-то своими длинными пальцами и говорил:
-- Да, да, да... А может быть, это вы сами зарезали женщину, и может
быть, как раз вашу собственную жену, и привезли ее сюда и рассказываете
байки: полевая корчма, корчмаря жена, чахотка, малые дети, царствие
небесное?..
Я, вероятно, здорово помертвел от этих слов, потому что второй, реб
Иося, заговорил о том, что, собственно, они сами ничего не имели бы
против... Они меня, упаси бог, ни в чем не подозревают, они отлично
понимают, что я не разбойник и не злодей, но ведь я все-таки чужой человек,
а труп -- это ведь не мешок картошки, тут имеешь дело с мертвым человеком, с
покойником... Есть у нас, говорит он, казенный раввин и, не будь рядом
помянут, урядник... Протокол необходимо составить...
-- Да, да, да! Протокол! Протокол!--вмешался долговязый, которого звали
Лейзер-Мойше, и тыкает пальцем и смотрит на меня сверху вниз такими глазами,
как если бы я и в самом деле совершил преступление...
Я не мог ничего ответить. Чувствовал только, что пот выступил у меня на
лбу, и нехорошо мне стало, чуть ли не до обморока. Я хорошо понял, в каком
ужасном положении я очутился, как попался... И стыдно было мне, и досадно, и
больно. Тогда я подумал: что тут тянуть? Достал кошелек и обратился к трем
старостам погребального братства:
-- Выслушайте меня. Дело обстоит так: вижу, что я здорово попался.
Угораздила меня нелегкая остановиться в полевой корчме и попасть туда как
раз тогда, когда жене корчмаря вздумалось умереть, и услышать, как бедный
человек, обремененный кучей детей, умоляет меня заслужить себе царствие
небесное... Вот и приходится за все это расплачиваться. Вот вам мой кошелек
с деньгами, есть у меня всего-навсего рублей семьдесят с лишним. Возьмите и
поступайте, как понимаете. Оставьте мне только на дорогу до Радомысля,
заберите у меня покойницу и отпустите мою душу.
Видимо, слова мои были произнесены горячо, потому что все трое
переглянулись, не притронулись к моему кошельку и сказали, что здесь, упаси
бог, не Содом. Правда, местечко у них бедное, нищих здесь гораздо больше,
чем богатых, но напасть на чужого человека и сказать ему: "Жид, давай
гроши!" -- этого делать они не собираются. Сколько дам по доброй своей воле,
столько и ладно. Но ничего не взять -- это не пройдет, потому что местечко
нищее. Ну, а служкам, носильщикам, на саван, на водку, за могилу надо будет
дать, конечно, понемногу, сыпать деньгами незачем, потому что
расточительству конца-края нет!
Ну, что же мне вам еще рассказать? Будь у корчмаря хоть двести тысяч, у
его жены не было бы таких похорон! Все местечко сбежалось смотреть на
молодого человека, который привез покойницу. Один другому передавал историю
о молодом человеке и очень богатой покойнице, богатой теще (с чего они
взяли, что это моя теща?), и все пришли приветствовать богатого зятя,
который привез свою богатую тещу и сорит деньгами... На меня прямо-таки
указывали пальцами. А нищих! Как песчинок на морском берегу! С тех пор как
живу на свете, с тех пор как стою на ногах, я столько нищих не видал!
Накануне Судного дня возле синагоги их столько не бывает -- даже сравнить
нельзя! Меня таскали за полы, рвали на куски. Шутка ли, молодой человек,
который сыплет деньгами! Счастье, что старосты заступились за меня, не
позволили раздать все деньги. Особенно старался долговязый староста, что с
длинными пальцами, Лейзер-Мойше. Он не отходил от меня ни на минуту и не
переставал твердить и тыкать пальцами: "Молодой человек, не надо сыпать
деньгами! Этому конца-края не будет!" Но чем больше он меня удерживал, тем
больше собиралось вокруг меня нищих, и все они житья мне не давали.
-- Ничего! -- кричали они. -- Когда хоронят такую богатую тещу, можно
себе позволить истратить пару лишних грошей! Теща оставила ему немало! Дай
бог нам не хуже!..
-- Молодой человек! -- кричал какой-то оборванец -- Молодой человек!
Дайте нам на двоих полтинник! Хотя бы двугривенный дайте! Мы двое калек от
рождения, один слепой, другой кривой... Дайте хотя бы пятиалтынный,
пятиалтынный на двоих, двое калек стоят небось пятиалтынного!
-- Да вы слушайте больше, что они будут вам рассказывать! Калеки? --
кричал другой, лягая тех ногами.-- Это у него называется "калека"! Вот жена
моя -- это калека, без рук, без ног, чудом жива, да еще с малыми детьми,
тоже больными! Дайте мне, молодой человек, хотя бы еще пятак, я буду читать
поминальную молитву по вашей теще, да будет ей земля пухом!
Сейчас мне смешно. Но тогда мне было не до смеха, потому что орава
нищих росла, как на дрожжах. За полчаса всю базарную площадь запрудили,
невозможно было двигаться с носилками. Служки были вынуждены палками
разгонять толпу. Началась драка. Стали собираться русские люди, крестьянки,
мальчики и девочки, пока дело не дошло до начальства: на площади, верхом на
коне, показался урядник с нагайкой в руке. Он одним взглядом и несколькими
ударами нагайки разогнал весь народ, как птиц, а сам слез с коня, подошел к
носилкам посмотреть, в чем дело, кто такой умер и почему запрудили весь
базар? Прежде всего ему угодно было спросить у меня, кто я такой, откуда и
куда я еду? У меня душа готова была выскочить, я лишился языка. Не знаю, что
это значит: только увижу урядника, у меня опускаются руки, хоть я, как
говорят, мухи никогда не обидел и хорошо знаю, что урядник -- такой же
человек, как и все прочие. Наоборот, я знаю евреев, которые с урядником
живут в большой дружбе, ходят друг к другу в гости, на праздниках урядник
ест у еврея рыбу и, в свою очередь, угощает его яйцами, и еврей нахвалиться
не может, какой прекрасный человек урядник! И все же я, как увижу урядника,
убегаю. Видно, это у меня наследственное, потому что происхожу я от "битых",
от славутских, от настоящих славутских времен Васильчикова, о которых можно
бы рассказывать и рассказывать! Однако хватит! Я, кажется, опять забрался
неизвестно куда.
Итак, стал меня урядник допрашивать: кто я такой, что я такое, куда
еду? Поди расскажи ему, что живу я в Звогиле у тестя на хлебах, а сейчас еду
в Радомысль получать паспорт. Дай бог долголетия старостам, они выручили
меня из беды: один из тех двоих, маленький, с выщипанной бородкой, отозвал
урядника в сторону, о чем-то с ним стал шептаться, а долговязый, что с
длинными пальцами, тем временем учил меня, что говорить.
-- Осторожнее! Скажите, что вы здешний, но живете неподалеку за
городом, а это ваша теща, она умерла, и вы приехали сюда ее похоронить. А
когда будете давать ему, придумайте какое-нибудь имя... А вашего мужичка мы
позовем в дом и угостим стаканом водки, чтоб не вертелся перед глазами,--
тогда все будет очень хорошо.
Урядник вошел со мной в дом и принялся составлять протокол. Знать бы
мне так горести вместе с вами, как я знаю, что я там наболтал ему. Помню
только, что я лопотал языком, а он записывал.
-- Как тебя звать?
Речь идет о событии в Славуте, где владельцы местной еврейской
типографии были в 1835 году обвинены в убийстве и приговорены к наказанию
кнутом и поселению в Сибирь.
-- Мовша.
-- Отца?
-- Ицко.
-- Сколько лет?
-- Девятнадцать.
-- Женат?
-- Женат.
-- Дети есть?
-- Есть.
-- Чем занимаешься?
-- Купец.
-- Кто это помер?
-- Теща.
-- Как ее звали?
-- Ента.
-- Отца ее?
-- Герш.
-- Сколько ей было лет?
-- Сорок.
-- Отчего умерла?
-- От испуга.
-- От испуга?
-- От испуга.
-- Как это -- от испуга? -- спросил он, отложил перо, закурил и стал
разглядывать меня с головы до ног, а я чувствую, что вот-вот язык прилипнет
к нёбу. Тогда я подумал: все равно лгу почем зря, буду продолжать! И
рассказал ему целую историю о том, как моя теща сидела одна за работой,
вязала чулок и забыла, что в комнате сидит ее мальчик Эфраим, парнишка лет
тринадцати, но придурковатый, недотепа, все еще играет со своей тенью. И вот
зашел он за тещину спину, сложил руки и сделал на стенке "козу", а потом как
раскроет рот да как заблеет: "Ме-е-е!" -- и теща свалилась со стула и тут же
померла.
Так вот и сочиняю я ему эту историю, а он глаз с меня не сводит...
Выслушал до конца, сплюнул, вытер рыжие усы и выходит вместе со мной на
улицу. Подошел к носилкам, приподнял черное покрывало, посмотрел на лицо
покойницы и покачал головой, будто желая сказать: "Что-то здесь не так!.." Я
смотрю на него, он -- на меня, потом он обращается к старостам:
-- Ну, покойницу можете похоронить, а его, этого молодца, придется
задержать, пока я не расследую все дело, правда ли, что это его теща и что
она умерла от испуга...
Можете себе представить, каково мне было, когда я услыхал это! От горя
я отвернулся в сторонку и расплакался, -- но как расплакался? Как малое
дитя!
-- Молодой человек, чего вы плачете? -- обращается ко мне тот, которого
зовут реб Иося, и начинает утешать меня, уверяя, что ничего мне не будет.
Одно из двух: если я чист, чего же мне бояться? "Кто чесноку не ел, у того
изо рта не пахнет",-- добавляет реб Шепсл с такой усмешечкой, что мне
хочется закатить ему парочку горячих оплеух в обе пухлые щеки... Господи! К
чему было мне придумывать такую грубую ложь, примешивать мою тещу? Не
хватало еще мне, чтобы вся история дошла до нее, чтобы она узнала, как я ее
заживо похоронил!..
Перестаньте! Не пугайтесь так, бог с вами! Барин вовсе не такой
сердитый, как вы думаете. Вы только суньте ему в руку... И скажите, чтобы он
с протоколом покончил... Он умный начальник и пройдоха... Он отлично
понимает, что все, что вы ему наговорили, -- ложь и враки. Так говорит мне
реб Лейзер-Мойше и тычет своими тонкими пальцами. Если бы я только мог, я бы
разорвал его пополам, как селедку. Ведь это же он сам надоумил меня врать,
прах его побери!..
Больше рассказывать не могу. Я даже вспомнить не могу, что пришлось мне
тогда пережить. Вы сами, конечно, понимаете, что деньги у меня забрали, в
кутузку засадили, судили... Но все это ерунда в сравнении с тем, что я
получил потом, когда до моей тещи и тестя дошло, что их зять сидит из-за
трупа, который он откуда-то привез... Они, понятно, тут же приехали,
заявили, что они мои тесть и теща,-- и тут только и заварилась настоящая
каша: с одной стороны, полиция берет меня на цугундер: "Как же так, мил
человек? Коль скоро твоя теща, Ента, дочь Герша, жива и здорова, так кто же
была умершая?.." Это -- одно. А во-вторых -- за меня принялась моя теща:
-- Я спрашиваю только об одном: скажи, что ты имел против меня, за что
ты похоронил меня заживо?!
На суде, понятно, выяснилось, что я чист, как золото. Это стоило денег,
привезли корчмаря с детьми, и меня из заключения освободили. Но того, что я
тогда натерпелся, и главным образом от тещи, -- я и лютому своему врагу не
пожелаю!..
С тех пор я бегу от всего, что сулит царствие небесное.
---
Шолом Алейхем
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ. Рассказы. М., Политиздат. 1964.
63 с. (Худож. атеистич. б-ка).
На обороте тит. л.: сост. В. Гейшин.
С(Евр.) 1
Оригинал-макет брошюры подготовлен на печатно-кодирующем устройстве
ВНИИПП Министерства культуры СССР
Редактор А. Белов
Художественный редактор Г. Семиреченко
Технический редактор О. Семенова
Сдано в набор-печать 14 января 1964 г. Формат 70 X 1087з2-
Физ. печ. л. 2. Условн. печ. л. 2,74. Учетно-изд. л. 2,53.
Тираж 150 тыс. экз.
А 01008. Заказ No 1873.
Цена 6 коп.
Работа объявлена в Т. п. 1964 г., стр.311--320.
Политиздат, Москва, А-47, Миусская пл., 7.
Отпечатано с матриц типографии "Красный пролетарий", Москва,
Краснопролетарская. 16 в типографии "Радянська Украiна",
Киев, Анри Барбюса, 51/2. 3. 477.

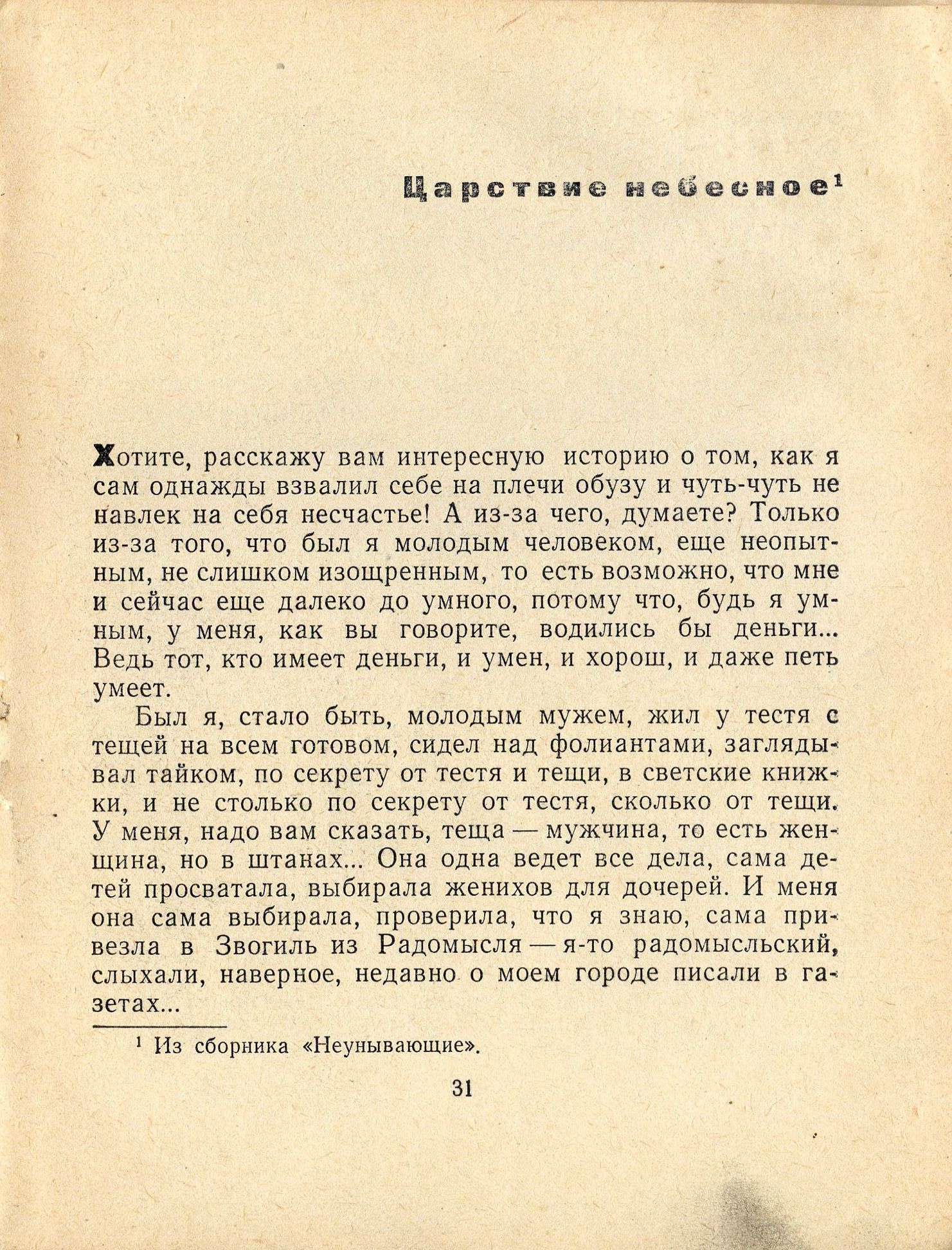
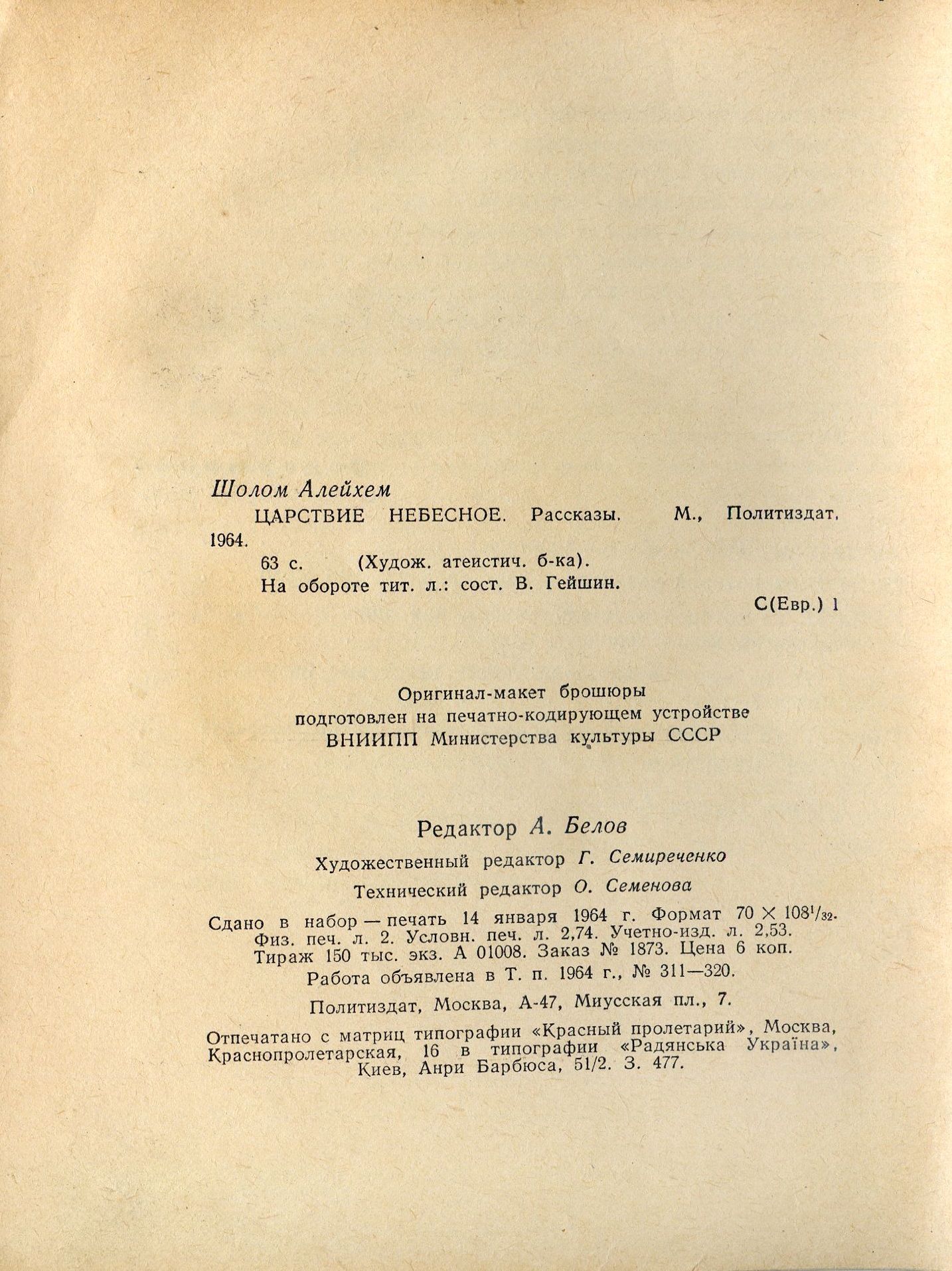
Популярность: 1, Last-modified: Wed, 28 Feb 2024 10:03:02 GmT
 Хотите, расскажу вам интересную историю о том, как я сам однажды
взвалил себе на плечи обузу и чуть-чуть не навлек на себя несчастье! А из-за
чего, думаете? Только из-за того, что был я молодым человеком, еще
неопытным, не слишком изощренным, то есть возможно, что мне и сейчас еще
далеко до умного, потому что, будь я умным, у меня, как вы говорите,
водились бы деньги... Ведь тот, кто имеет деньги, и умен, и хорош, и даже
петь умеет.
Был я, стало быть, молодым мужем, жил у тестя с тещей на всем готовом,
сидел над фолиантами, заглядывал тайком, по секрету от тестя и тещи, в
светские книжки, и не столько по секрету от тестя, сколько от тещи. У меня,
надо вам сказать, теща -- мужчина, то есть женщина, но в штанах... Она одна
ведет все дела, сама детей просватала, выбирала женихов для дочерей. И меня
она сама выбирала, проверила, что я знаю, сама привезла в Звогиль из
Радомысля -- я-то радомысльский, слыхали, наверное, недавно о моем городе
писали в газетах...
И вот сидел я в Звогиле на готовых харчах, корпел над "Море-Небухим" не
вылезал за порог, пока не пришло время, когда нужно было приписаться к
призывному участку, -- тут уж ничего не поделаешь, надо съездить домой, в
Радомысль, привести в порядок бумаги, похлопотать насчет льготы, получить
паспорт, как полагается. Это был, можно сказать, мой первый выезд в свет.
Пошел я на базар нанимать подводу, тоже сам, чтоб показать, что я человек
самостоятельный. И бог послал мне удачу: я нашел мужичка из Радомысля --
дело было зимой -- с крашеными санями, широкой спинкой и крыльями по бокам,
как у орла... Только упустил из виду, что лошадка была белая, а белая
лошадка, говорит теща, приносит несчастье.
-- Дай бог, -- сказала она, -- соврать, но боюсь, что эта поездка
окончится большой неприятностью...
-- Типун тебе на язык! -- сорвалось с языка у тестя,
о чем он тут же пожалел, так как получил нагоняй. Но мне он шепнул:
"Бабьи сказки!" И я начал готовиться в дорогу: взял талес и филактерии
(Особые коробочки с вложенными внутрь текстами из библии; укрепляются на лбу
и предплечье левой руки религиозными евреями во время молитвы), печенье,
несколько рублей на расходы, три подушки: одну --под сиденье, одну -- за
спину, одну -- на ноги, и давай прощаться. Дошло дело до прощания -- нет
слов! Так уж у меня всегда: когда надо прощаться, лишаюсь языка! Не
знаю, что и сказать! И получается как будто грубовато: как это можно
повернуться к каждому, извините, задом и оставить просто так? Не знаю, как
вам, но для меня до сих пор прощание -- дело очень неприятное! Однако
погодите! Я, кажется, залез бог знает куда...
И вот, значит, распрощался я честь-честью и рано утром отправился в
путь-дорогу, на Радомысль. Было это в начале зимы, снег лег рано, санный
путь был хорош. Лошадка, хоть и белая, а бежала резво. Извозчик попался мне
молчаливый, из тех, что на все отвечают либо "Эге!" -- что означает "да",
либо: "Бо-ни", что означает "нет", а больше -- хоть режь его! Выехал я из
дому поевши, настроение хорошее, подушка внизу, подушка за спиной, подушка
на ногах. Лошадка, скачет, извозчик причмокивает, сани скользят, ветер дует,
снежок сыплет сверху и ложится пухом на широкий тракт, и на душе у меня
хорошо, замечательно хорошо, свободно, широко, светло... Все-таки впервые
вылез на божий свет один, сам себе хозяин! Откидываюсь на спинку и
разваливаюсь в санях барином... Но зимой как бы тепло ни оделся, мороз
пробирает и хочется остановиться, погреться, перехватить что-нибудь и ехать
дальше. И представляется мне, в мыслях конечно, теплая корчма, кипящий
самовар, свежее тушеное мясо и горячий бульон... От таких мыслей начинает
сосать под ложечкой, хочется попросту закусить. Заговариваю насчет корчмы с
моим возницей, хочу узнать, далеко ли еще ехать? А он отвечает: "Бо-ни", --
то есть нет. Спрашиваю: "Уж близко?" А он отвечает: "Эге!" -- стало быть,
да! Сколько все-таки до корчмы? Это трудно вытянуть из него, хоть ложись и
помирай! И я представляю себе, что было бы, если бы, скажем, на месте этого
мужичка сидел еврей. Ведь он растолковал бы мне не только, где находится
корчма, он рассказал бы, кто содержит корчму, как его звать, и сколько у
него детей, и сколько он платит за аренду корчмы, и сколько корчма ему
приносит, и сколько лет он уже здесь живет, и кто жил здесь до него, --
конца-краю не было бы рассказам! Экий странный народ! То есть я имею в виду
наших евреев! Совсем какая-то другая кровь, право!..
Мечтал я, стало быть, о теплой корчме, фантазировал о горячем самоваре
и тому подобных хороших вещах, покуда господь не сжалился. Мой мужичок
зачмокал, свернул чуть в сторону, и я увидел небольшой серый домишко, сверху
донизу засыпанный снегом, полевую корчму, которая среди заснеженного белого
поля выглядела как-то очень уж одиноко и больше походила на заброшенное,
забытое надгробие... Лихо подъехав к корчме, мой извозчик с лошадью и санями
направился в сарай, а я двинулся прямо в избу, отворил дверь и...
остановился на пороге -- ни туда, ни сюда! В чем дело? Замечательная
история! Посреди корчмы на полу лежит покойник, накрытый черным, у изголовья
-- два медных подсвечника с маленькими свечками, а кругом сидят ребятишки
оборванные, обшарпанные, колотят себя ручонками по голове, плачут, рыдают,
голосят: "Мама! Ма-ма!" А некто высокий, длинноногий, в летней рваной
накидке, совсем не по сезону, шагает по комнате, ломает руки и говорит
самому себе: "Что делать? Что делать? Как быть?" Я, конечно, понял, на какое
торжество меня принесло! Первой мыслью моей было: "Нойах, беги!" Я подался
назад и хотел убраться. Но дверь за мной закрылась, меня словно приковало к
порогу, и я не мог двинуться с места.
Увидав перед собою свежего человека, высокий устремился ко мне,
протянул обе руки, как человек, молящий о спасении.
-- Что вы скажете о моем несчастии? -- проговорил он, указывая на
плачущих детей. -- Умерла у них, у бедняжек, мать! Что делать? Что делать?
Как быть?
-- Благословен судия праведный! -- произнес я и хотел, как водится,
утешить его добрым словом. Но он перебил меня и говорит:
-- Понимаете ли, дело-то, собственно, такое... Она, жена моя, уже с
прошлого года все равно что мертвая. У нее была проклятая болезнь --
чахотка... Она сама молила бога о смерти. Но горе в том, что живем мы здесь,
в глуши, посреди поля. Что делать? Что делать? Как быть? Пойти куда-нибудь в
деревню, поискать подводу и отвезти ее в город, но как бросить детей одних
посреди поля? А тут дело к ночи. Боже мой, ну что же делать? Что делать? Как
быть?
При этом человек расплакался как-то странно, без слез, будто смеялся,
взвизгивая не своим голосом... Душа болела, глядя на него! Где уж там голод!
Где холод! Забыл я обо всем на свете и говорю:
-- Я еду из Звогиля в Радомысль, сани у меня очень хорошие. Если
местечко, как вы говорите, недалеко отсюда, я могу дать вам мои сани, а сам
подожду здесь, если это недолго.
Ой, дай вам бог долгих лет за ваше благодеяние! Царствие небесное
купите себе, честное слово! Царствие небесное! -- воскликнул он и чуть не
бросился меня целовать. -- Местечко совсем недалеко отсюда, всего версты
четыре или пять. На дорогу понадобится не больше часа, я тут же отошлю сани
обратно. Царствие небесное заслужите, честное слово! Дети! Встаньте,
благодарите, целуйте руки этого молодого человека, в ноги кланяйтесь, он
дает нам свою подводу, я отвезу маму в святое место! Царствие небесное,
честное слово, царствие небесное!..
Слово "радость" было здесь, конечно, не к месту, потому что дети,
услыхав, что отец "отвезет маму", снова припали к покойнице и опять стали
рыдать с еще большей силой. Все же для них было доброй вестью, что нашелся
человек, который окажет им услугу. Сам бог привел его сюда! На меня
смотрели, как на избавителя, как на некоего Илью-пророка, и должен вам
сказать по чистой совести, что и сам я в это время смотрел на себя, как на
необыкновенного человека, я сразу вырос в собственных глазах, стал что
называется "героем". В эту минуту я был готов переносить горы,
переворачивать миры. Не было, кажется, для меня ничего трудного. И у меня
сорвалось с языка:
-- Знаете что? Я сам ее отвезу, с моим извозчиком то есть. Зачем вам
трудиться, отрываться от детей?
И чем дальше, тем больше вся эта семья смотрела на меня, как на ангела,
посланного с неба, а я сам в своих глазах вырастал все выше и выше, чуть ли
не до облаков. Позабыл я в ту минуту, что боюсь прикасаться к покойникам, и
сам своими руками помог вынести жену корчмаря и положить в сани, пообещав
своему мужичку лишний полтинник и лишнюю рюмку водки. Поначалу извозчик
почесывал затылок и что-то ворчал под нос, но после третьей рюмки смягчился,
и мы втроем поехали, то есть я, извозчик и покойная жена корчмаря
Хаве-Нехама (так ее звали), Хаве-Нехама, дочь Рефоел-Михла, помню это как
сегодня, потому что всю дорогу повторял ее имя... Муж несколько раз повторил
мне его, потому что, когда ее будут хоронить, воздавать ей должное и просить
у нее прощения, непременно надо знать ее имя. И я всю дорогу повторял, учил
наизусть: Хаве-Нехама, дочь Рефоел-Михла! Хаве-Нехама, дочь Рефоел-Михла! А
повторяя, я забыл, как зовут ее мужа, хоть голову сними! А он назвал мне
свое имя и говорил, что в местечке, как только я назову его, у меня сейчас
же заберут покойницу. Он в этом местечке уже много лет подряд бывает на
осенних праздниках и тратит массу денег в синагоге, когда собирают
пожертвования, и в бане, не будь она рядом помянута, и везде и всюду! И еще
что-то говорил он мне, этот корчмарь, натрещал полную голову -- куда заехать
и что сказать, но у меня все это сразу вылетело из памяти, не оставив и
следа! Все мои мысли вертелись вокруг одного: я везу покойницу -- этого было
достаточно, чтобы все в голове у меня перепуталось, чтобы я забыл даже, как
меня зовут, потому что с детства я смертельно боюсь покойников! До сих пор
не могу оставаться один с покойником -- хоть озолотите меня! Мне все
кажется, что полуприкрытые, якобы закатившиеся глаза смотрят и видят меня,
что сомкнутые мертвые губы вот-вот откроются и послышится дикий голос, как
из-под земли. От одних этих фантазий можно в обморок упасть! Недаром у нас
рассказывают истории о покойниках, о том, как люди от страха падали в
обморок, сходили с ума, а то и вовсе помирали на месте.
Ехали мы, значит, втроем с покойницей. Ей я уступил одну из моих
подушек и положил ее поперек саней у себя в ногах. А чтобы отвлечься от
мрачных мыслей, я начал разглядывать небо и повторять про себя:
"Хаве-Нехама, дочь Рефоел-Михла! Хаве-Нехама, дочь Рефоел-Михла!" -- до тех
пор пока имена стали путаться у меня в памяти и уже получалось:
"Хаве-Рефоел, дочь Нехама-Михла" и "Рефоел-Михл, дочь Хаве-Нехамы..." Я
совсем не замечал, что вокруг как-то становится все темнее и темнее, ветер
крепчает, а снег, не переставая, сыплет и сыплет и заносит дорогу, так что
сани идут неизвестно куда, а мой мужичок чего-то ворчит с каждым разом все
громче и громче, и я готов поклясться, что он произносит по моему адресу
трехэтажное благословение... Спрашиваю: "Ну, что там у тебя?" А он в ответ с
озлоблением плюет, упаси и помилуй бог! И. вдруг у него раскрывается рот, и
он начинает сыпать: я, мол, погубил его вместе с лошадкой! Из-за того, что
мы взяли в сани покойницу,, лошадка потеряла дорогу, и мы сбились с пути, и
бог знает до каких пор будем блуждать, вот-вот настанет ночь,-- тогда мы
пропали!..
Веселая весть, что и говорить! Я готов был ехать обратно в корчму,
отказаться от благодеяния и от заслуженного царствия небесного! Но извозчик
сказал, что теперь уже поздно, теперь ни вперед, ни назад, ехать некуда,
потому что мы кружим где-то посреди поля, черт его ведает где!.. Дорогу
занесло, небо потемнело, уке глубокая ночь, и лошадь замучена до смерти!
Черт бы побрал корчмаря, погибель на всех корчмарей во всем свете! Пусть бы
он, говорит извозчик, лучше ногу себе сломал прежде, чем остановиться в этой
корчме! Нехай бы ему поперек горла встала первая стопка водки, нежели дать
себя уговорить и сделать такую глупость, взять к себе в сани этакую беду,
из-за поганого "полшмардованца" пропадать тут в поле, ко всем чертям, с
конякою вместе! Да уж он-то сам ладно, может, ему и суждено тут вот
окочуриться, а лошадка, бедняга, при чем? И что им от нее понадобилось?
Безвинная животина, скотинка, с нее спрос небольшой.
Готов поклясться, что в голосе его слышались слезы... Хотел я излить
перед ним душу, обещал еще полтину и две стопки водки, но он вскипел и
заявил, что, если я не замолчу, он и вовсе выбросит из саней нашу
"находку"!.. И я подумал: а что я буду делать, если он и в самом деле
выбросит покойницу из саней со мной вместе? Мало ли что может сделать
извозчик, если рассердится? Пришлось замолчать и сидеть в санях, зарывшись в
подушки, остерегаться, как бы не заснуть, потому что как же можно спать,
когда перед глазами лежит труп? А во-вторых, я слыхал, что зимой на морозе
спать нельзя: можно незаметно уснуть навеки...
Но словно назло, глаза у меня слипаются, хочется вздремнуть. Я бы,
кажется, в ту минуту ничего не пожалел, только бы подремать!.. Я с силой
раскрываю глаза, но они не слушаются и постепенно закрываются, снова
открываются и опять слипаются... А сани скользят по белому, глубокому и
рыхлому снегу, и по всему телу разливается какая-то странная истома, и
хочется, чтобы это состояние продолжалось как можно дольше... Но другая
сила, не знаю откуда, тормошит меня: "Не спи, Нойах, не спи!" Я с трудом
раздираю веки, и от блаженного состояния не остается и следа, оно сменяется
холодом, пронизывающим все внутри, меланхолией, страхом и ужасом, -- не
приведи господь! Кажется, что моя покойница шевелится, раскрывается и
смотрит на меня полузакрытыми глазами, словно хочет сказать: "Что ты имеешь
против меня, молодой человек? За что ты хочешь загубить мертвую женщину,
мать маленьких детей, не предаешь ее земле, как по закону положено?" А ветер
завывает человеческим голосом, свистит прямо в ухо, поверяет страшную
тайну... И страшные мысли, думы, опасения лезут в голову, и чудится мне, что
все мы под снегом -- я, извозчик, его лошадка и покойница... Мы все мертвы,
и только покойница -- поразительно! -- одна только покойница, жена корчмаря,
жива...
Но вдруг я слышу, мой мужичок причмокивает как- то очень весело,
благодарит бога, крестится в темноте и вздыхает. Словно новую душу вдохнул
он в меня, я вижу вдалеке мелькает огонек, он то покажется, то погаснет, то
снова вспыхнет. "Селение!" -- думаю я и от всего сердца благодарю бога и
обращаюсь к моему вознице:
-- Выбрались как будто на дорогу? Пожалуй, скоро будем в местечке?
-- Эге! -- отвечает он, как и прежде кратко, но уже спокойно, без
злобы, и хочется его обнять сзади, поцеловать в плечо за добрую весть, за
его доброе и тихое "эге", которое сейчас мне дороже самой умной проповеди!
-- Тебя как звать? -- спрашиваю я и удивляюсь, почему я до сих пор не
узнал его имени.
-- Микита, -- отвечает он, по своему обыкновению, кратко.
-- Микита? -- переспрашиваю я, и это имя кажется мне особенно
симпатичным.
-- Эге! -- отвечает он, как обычно.
И мне очень хочется, чтоб Микита сказал еще что- нибудь, хотя бы
два-три слова хотелось от него услышать. Он становится мне дорог, и лошадка
его мне дорога... Я завожу с ним разговор о лошадке, говорю, что лошадка у
него хороша. Очень славная лошадка!
-- Эге! -- отвечает Микита.
-- И сани у тебя, Микита, очень хорошие!
-- Эге! -- соглашается он и больше ни слова сказать не хочет, хоть режь
его.
-- Не любишь, -- говорю я, -- разговоры водить, Ми- кита-сердце?
-- Эге! -- отвечает он.
Я смеюсь, мне весело, хорошо и весело, словно я взял Очаков, или нашел
клад, или открыл что-то новое, еще никому не известное,-- словом, я счастлив
сверх всякой меры! А по какой причине, не скажете ли вы? Хочется петь во
весь голос, честное слово! У меня вообще такая манера: когда хорошо на душе,
я пою. Жена знает уже мой характер, она спрашивает: "Что случилось, Нойах?
Сколько ты заработал, что так распелся?" Женщинам по женскому их разумению
представляется, что человеку может быть весело только в том случае, если он
что-нибудь заработал. А иначе у человека не может быть хорошего настроения.
Откуда это берется, что наши жены гораздо больше жадны до денег, чем мы,
мужчины? Казалось бы, кто работает ради денег? Мы или они? Однако хватит! Я
снова, кажется, залез бог знает куда...
Приехали мы, стало быть, с божьей помощью, в местечко раным-рано. Все
еще спали, до рассвета было далеко, нигде огонька не видать. Наконец увидели
домишко с большими воротами и веником на одной из створок -- примета
заезжего дома. Мы остановились, вылезли из саней и стали с Микитой колотить
кулаками в ворота. Стучали, стучали, наконец бог помог, увидели в окне
огонек. Потом услыхали -- кто-то шлепает и спрашивает из-за ворот:
-- Кто там?
-- Отворите, -- отвечаю, -- дяденька! Заслужите царствие небесное!
-- Царствие небесное? А кто вы такие? -- произносит голос и принимается
отпирать замок.
-- Отворите, -- говорю я. -- Я привез сюда покойника.
-- Кого?
-- Покойника!
-- Что значит -- покойника?
-- Покойника -- значит умершего. Умершую женщину привез я из деревни,
из корчмы.
По ту сторону ворот стало тихо. Слышно было только, как замок снова
заперли, ноги прошлепали, видимо, обратно, а потом погас и огонек -- и поди
жалуйся господу богу! Это меня разозлило, и я попросил моего мужичка помочь
мне стучать кулаками в окно. Принялись мы оба стучать так энергично, что
огонек снова загорелся и снова послышался голос из-за ворот:
-- Чего вы от меня хотите? Что еще за напасть?
-- Ради бога! -- умоляю я его, как разбойника. -- Сжальтесь, я здесь с
покойником!
-- С каким покойником?
-- С женой корчмаря.
-- Какого корчмаря?
-- Я забыл, как его зовут, но ее зовут Хаве-Михл, дочь Ханы-Рефоела, то
есть Хане-Рефоел, дочь Хавы-Михл, то есть Хана-Хана-Хана...
-- Если не уйдете отсюда, несчастный, сейчас ведром воды окачу!
Так отвечает хозяин заезжего дома и уходит от окна, гасит огонек, и
поди делай с ним что хочешь!.. И только через час, когда начало светать,
открылась калитка, высунулась черная голова в белых перьях и обратилась ко
мне:
-- Это вы барабанили в окно?
-- Я, а кто же?
-- Чего вы хотели?
-- Я привез покойника.
-- Покойника? Везите его к служке погребального братства.
-- А где он живет, ваш служка? Как его звать?
-- Зовут его Ехиел, а живет он под горой, недалеко от бани.
-- А где тут у вас баня?
-- Баню не знаете? Вы, наверное, не здешний? Откуда будете?
-- Откуда? Из Радомысля, радомысльский я, но еду я из Звогиля, а
покойника везу из корчмы, здесь неподалеку, это жена корчмаря, она умерла от
чахотки.
-- Не про нас будь сказано! А вы тут, собственно, причем?
-- Я? Да ни при чем! Я ехал мимо, а он меня попросил, корчемник то
есть. Живет он посреди поля с малыми детишками, негде похоронить... Вот я и
подумал: человек просит, сулит царствие небесное,-- почему не сделать?
-- Что-то здесь не все ладно! -- отвечает он. -- Придется вам прежде
всего повидаться со старостами.
-- А кто у вас старосты? Где они живут?
-- Старост не знаете? Реб Шепсл, староста, живет он по ту сторону
базара. Реб Лейзер-Мойше, староста, живет по самой середине базара. Реб
Иося, тоже староста, живет около старой синагоги. Но прежде всего надо вам
повидаться с реб Шепслом, он у нас самый главный. Человек жесткий,
предупреждаю вас, его не так-то скоро разжуешь.
-- Спасибо! -- говорю. -- Дай вам бог сообщать более веселые вести. А
когда я смогу с ними повидаться?
-- Что значит, когда? Утром, бог даст, после моления.
-- Поздравляю! А что мне делать до тех пор? Пустите хоть войти
погреться. У вас тут, видимо, хороший Содом?
Услыхав такие слова, хозяин заезжего дома тут же снова запер ворота, и
снова стало тихо, как на кладбище. Что же делать дальше? Стоим с санями
посреди улицы.
Микита злится, ворчит, почесывает затылок, плюется и сыплет
трехэтажными благословениями: "Погибель, -- говорит он, -- на этого
корчмаря, да и на всех корчмарей во всем свете! Уж я-то сам -- ладно, черт
меня не возьмет! Но конягу! Какого беса морят голодом и холодом несчастную
лошадку? Безвинную животину, скотинку... Она тут при чем?.."
Стыд и срам перед этим крестьянином. Мне приходит в голову: что, к
примеру, думает он о нас, евреях? Как выглядим мы, "милосердные из
милосердных" (Талмудическая поговорка о евреях), в сравнении с ними, людьми
грубыми, когда еврей еврею не желает дверь открыть, не пускает даже
погреться,-- ну, разве не стоим мы втрое больше того, что имеем? Так я
оправдываю все, что выпало на нашу долю, и обвиняю всех, как это обычно
делает еврей, когда другой еврей отказывает ему в одолжении. Никто так много
худого не говорит о нас, сколько мы сами. Тысячу раз на дню можно услышать
из уст каких угодно евреев такие слова: "С евреем не шути!", "С евреем
хотите столковаться?", "С евреями хорошо кугл кушать!", "На это способен
только еврей!", "Так ведь на то он и еврей!", "Ох, еврей, еврей!" -- и тому
подобные аттестации и комплименты. Я хотел бы знать, как у других, когда
случается, что один другому не хочет помочь? Тоже нападают на всех и
говорят: весь народ не стоит того, что его земля носит? Однако хватит! Опять
я, кажется, залез неизвестно куда...
Стоим мы, стало быть, с санями посреди базара и ждем, покуда станет
совсем светло и город начнет проявлять признаки жизни. И вот наконец где-то
послышался скрип отворяемой двери, звякнуло ведро, из двух-трех труб
показался дым, и пение петухов становилось с каждым разом громче и живее, на
улице стали показываться божьи создания в образе коров, телят, коз и, не
будь рядом помянуты, мужчины, женщины и девушки, закутанные в теплые шали,
завернутые, словно куклы, согнувшиеся втрое, похожие на замороженные
кислицы, -- словом местечко ожило, как живой человек, к примеру. Проснулось,
ополоснуло руки, накинуло на себя одежду и принялось за работу: мужчины --
служить создателю, молиться, сидеть над фолиантами, читать псалмы, а женщины
-- у печей, у квашеного теста, у телят и коз. Я начал расспрашивать о
старостах: где живет реб Шепсл, реб Лейзер-Мойше, реб Иося? Спрашивают, в
свою очередь, и меня: какой Шепсл? Какой Лейзер-Мойше? Какой Иося? У нас,
говорят они, в местечке есть несколько Шепслов, несколько Лейзер-Мойшей,
несколько Иосей. А когда я сказал, что мне нужны старосты погребального
братства, они испугались и стали выпытывать, зачем молодому человеку в такую
рань старосты погребального братства? Но я не дал себя расспрашивать,
выложил все начистоту, рассказал им, какую обузу я взял на себя.
И надо было вам видеть, что тут началось! Думаете, все заторопились
освободить меня от несчастья? Как бы не так! Они выбегали на улицу, чтобы
взглянуть на сани, лежит ли там в самом деле мертвое тело или все это вообще
выдуманная история? Тем временем вокруг нас собралась толпа, но люди все
время менялись, так как холод не давал стоять подолгу на одном месте. И все
заглядывали в сани, качали головами, пожимали плечами и спрашивали, кто
покойница и откуда, кто я и кем я ей прихожусь, но помочь мне никто и не
думал. Кое-как я добился, чтобы мне указали, где живет староста Шепсл. Я
застал его стоящим лидом к стене, в молитвенном облачении, молящимся с такой
горячностью, с таким сладостным напевом и с таким экстазом, что казалось,
будто сами стены поют. Он щелкал пальцами, охал и ахал, извивался и
гримасничал. Я прямо-таки наслаждался, потому что, во-первых, очень люблю
слушать такую молитву, а во-вторых, мог пока что согреть немного свои
промерзшие кости. А когда реб Шепсл повернулся ко мне лицом, в глазах у него
все еще стояли слезы, и казался он мне божественным человеком, святым, у
которого душа так далеко от земли, как далеко его большое и тучное тело от
неба. Но так как молиться он еще не кончил, а прерывать молитву не хотел, то
разговаривал со мной по-древнееврейски, на "священном языке", то есть
размахивал руками, подмигивал, пожимал плечами, кивал головой, шмыгал носом,
а также произносил изредка кое-какие древнееврейские слова. Если хотите,
могу передать этот разговор слово в слово, Вы сами, наверно, поймете, что
говорил я и что говорил он.
-- Мир вам, реб Шепсл!
-- Алейхем шолом! И-о... Ал гасафсол... (На скамейку, древнееврейск.)
-- Спасибо, уж я достаточно насиделся.
-- Ну-о? Ма? Ма?
-- У меня к вам просьба, реб Шепсл. Заслужите царствие небесное.
-- Царствие небесное? Хорошо... Но что? Что?
-- Я вам привез покойника.
-- Покойника? Кто покойник?
-- Неподалеку отсюда есть корчма, снимает ее еврей, бедняк... И вот у
него, понимаете, умерла жена от чахотки, оставила маленьких детей... Жалость
ужасная! Если бы я не пожалел их, не знаю, что бы он, бедняга" стал делать,
этот корчмарь, с трупом посреди поля...
-- Благословен судия праведный... Но... ну... Деньги? Погребальное
братство?..
-- Какие деньги? Откуда деньги? Он -- бедняк, нищий, с кучей ребят!
Заслужите себе царствие небесное, реб Шепсл.
-- Царствие небесное? Хорошо, очень хорошо... Но что? Что? Богадельня?
Евреи? Ну? Тоже нищие? И-о! Ну, фе!
Но так как я не понял, что он хочет сказать, реб Шепсл разозлился,
снова повернулся лицом к стене и стал молиться уже не с такой горячностью,
как прежде, но немного спокойнее, тоном ниже, почти фальцетом, раскачиваясь
быстро-быстро... Потом снял с себя талес и филактерии и налетел на меня с
таким озлоблением, как если бы я ему помешал в торговых делах, чуть что не
зарезал... Помилуйте, говорил он, местечко и без того нищее, хватает ему и
своих бедняков, для которых надо собирать на саван, когда кто-нибудь из них
умирает, -- а тут еще приезжают из чужих краев, со всего света! И все --
сюда! Все -- сюда!
Я оправдывался как мог, уверял, что я тут ни при чем, покойница
одинокая, -- это все равно, сказал я, что найти на дороге труп, -- надо же
воздать ему должное, предать земле, как полагается по закону. Ведь вы же
честный человек, набожный, ведь это же сулит царствие небесное! Но он еще
пуще прежнего налетел на меня, чуть ли не прогнал вон. То есть не прогнал
буквально, но начал донимать словами:
-- Вот как? Вы стараетесь ради царствия небесного! Пройдитесь,
пожалуйста, по нашему местечку, сделайте что-нибудь, чтобы люди не так часто
умирали от голода, не замерзали бы от холода, -- и вы заслужите царствие
небесное! Человек небесного царствия! Молодой человек, торгующий райским
блаженством! Обратитесь с вашим товаром к безбожникам, может быть, они купят
у вас царствие небесное? У нас имеются свои благодеяния и заслуги, а если
нам захочется получить долю царствия небесного, мы как-нибудь и без вас
обойдемся!
Так говорит мне староста реб Шепсл и выпроваживает меня, со злостью
хлопнув дверью, и, клянусь вам честью,-- ведь мы видимся с вами в первый и,
может быть, в последний раз,-- с того дня я как-то особенно возненавидел
"порядочных", ортодоксальных евреев, невзлюбил тех, что молятся громко,
смакуют каждое слово, напевают и гримасничают, терпеть не могу святош и тех,
что разговаривают с богом, служат богу, делают все во имя бога и якобы ради
него! Правда, вы, пожалуй, скажете, что у нынешних, у свободомыслящих, не
больше, а может быть, и меньше справедливости, чем у прежних, у ханжей?
Может быть, вы и правы, но тут не так и досадно: они хоть не разговаривают с
богом. Вы спросите, почему же нынешние так дерутся за правду, распинаются,
будто сам черт их за душу хватает, а как дойдет до дела, оказывается, что
все это ломаного гроша не стоит? Однако хватит! Я, кажется, опять залез
неизвестно куда...
Стало быть, главный староста, реб Шепсл, меня, с позволения сказать,
выгнал. Что же теперь делать? Надо идти к остальным... Но тут произошло
чудо: мне не пришлось ходить к старостам, потому что старосты пришли сами,
встретились со мной носом к носу у самых дверей и обратились ко мне:
-- Уж не вы ли тот молодой человек, который с козой?
-- С какой козой? -- спросил я.
-- То есть молодой человек, который привез покойника, это вы?
-- Да, я. А что такое?
-- Идемте обратно, к реб Шепслу. Все вместе посоветуемся.
-- Посоветуемся? -- сказал я. -- А что тут советоваться? Заберите у
меня покойницу и отпустите меня. Заслужите царствие небесное.
-- А разве вас кто-нибудь держит? Можете ехать с вашей покойницей куда
угодно, хоть в Радомысль, -- мы вам еще спасибо скажем.
-- Спасибо за совет! -- ответил я.
-- Не за что! -- говорят они, и все мы пошли к реб Шепслу.
Трое старост начали разговаривать между собой, спорить, ссориться, чуть
ли не ругаться. Те говорят реб Шепслу, что он всегда препятствует, что
человек он жесткий, его не укусишь. А реб Шепсл злится, капризничает,
привередничает, доказывает, что даже в священных книгах сказано: "Нищие
твоего города в первую очередь". Тогда те двое нападают на него:
-- Ну и что же из этого? Вы, стало быть, хотите, чтобы этот молодой
человек ехал обратно с трупом?
-- Ни в коем случае! -- воскликнул я. -- Как это я повезу труп обратно?
Я приехал сюда чуть живой, мог погибнуть в поле. Крестьянин, дай ему бог
долгие годы, хотел меня выбросить из саней посреди дороги. Я прошу вас,
сжальтесь надо мной, освободите меня от покойницы,-- вы заслужите царствие
небесное!
Царствие небесное -- это, конечно, лакомый кусок! -- ответил один из
тех двоих, высокий человек с тонкими пальцами, по имени Лейзер-Мойше. --
Труп мы у вас заберем, предадим его земле, но несколько рублей это вам будет
стоить.
-- Как это? -- сказал я. -- Мало того, что я взял на себя такое доброе
дело, чуть не погиб в поле, мужичок, жить бы ему долго, хотел меня из саней
выбросить, а вы говорите -- деньги?
-- Зато вам обеспечено царствие небесное! -- ответил мне реб Шепсл с
такой поганой усмешкой, что так и захотелось огреть его хорошенько... Однако
пришлось сделать над собою огромное усилие и воздержаться, потому что я ведь
был у них в руках!
-- Позвольте! -- сказал второй из тех двоих, которого звали реб Иося,
человек небольшого роста с наполовину выщипанной бородкой. -- Надо вам
знать, молодой человек, что это еще не все: ведь у вас никаких бумаг нет!
Ведь бумаг у вас никаких!
-- Каких бумаг? -- спросил я.
-- А откуда мы знаем, кто она, эта покойница? А может быть, это совсем
не та, о которой вы говорите? -- сказал высокий, с длинными пальцами,
Лейзер-Мойше.
Я стоял, смотрел то на одного, то на другого, а Лейзер-Мойше покачивал
головой, указывал куда-то своими длинными пальцами и говорил:
-- Да, да, да... А может быть, это вы сами зарезали женщину, и может
быть, как раз вашу собственную жену, и привезли ее сюда и рассказываете
байки: полевая корчма, корчмаря жена, чахотка, малые дети, царствие
небесное?..
Я, вероятно, здорово помертвел от этих слов, потому что второй, реб
Иося, заговорил о том, что, собственно, они сами ничего не имели бы
против... Они меня, упаси бог, ни в чем не подозревают, они отлично
понимают, что я не разбойник и не злодей, но ведь я все-таки чужой человек,
а труп -- это ведь не мешок картошки, тут имеешь дело с мертвым человеком, с
покойником... Есть у нас, говорит он, казенный раввин и, не будь рядом
помянут, урядник... Протокол необходимо составить...
-- Да, да, да! Протокол! Протокол!--вмешался долговязый, которого звали
Лейзер-Мойше, и тыкает пальцем и смотрит на меня сверху вниз такими глазами,
как если бы я и в самом деле совершил преступление...
Я не мог ничего ответить. Чувствовал только, что пот выступил у меня на
лбу, и нехорошо мне стало, чуть ли не до обморока. Я хорошо понял, в каком
ужасном положении я очутился, как попался... И стыдно было мне, и досадно, и
больно. Тогда я подумал: что тут тянуть? Достал кошелек и обратился к трем
старостам погребального братства:
-- Выслушайте меня. Дело обстоит так: вижу, что я здорово попался.
Угораздила меня нелегкая остановиться в полевой корчме и попасть туда как
раз тогда, когда жене корчмаря вздумалось умереть, и услышать, как бедный
человек, обремененный кучей детей, умоляет меня заслужить себе царствие
небесное... Вот и приходится за все это расплачиваться. Вот вам мой кошелек
с деньгами, есть у меня всего-навсего рублей семьдесят с лишним. Возьмите и
поступайте, как понимаете. Оставьте мне только на дорогу до Радомысля,
заберите у меня покойницу и отпустите мою душу.
Видимо, слова мои были произнесены горячо, потому что все трое
переглянулись, не притронулись к моему кошельку и сказали, что здесь, упаси
бог, не Содом. Правда, местечко у них бедное, нищих здесь гораздо больше,
чем богатых, но напасть на чужого человека и сказать ему: "Жид, давай
гроши!" -- этого делать они не собираются. Сколько дам по доброй своей воле,
столько и ладно. Но ничего не взять -- это не пройдет, потому что местечко
нищее. Ну, а служкам, носильщикам, на саван, на водку, за могилу надо будет
дать, конечно, понемногу, сыпать деньгами незачем, потому что
расточительству конца-края нет!
Ну, что же мне вам еще рассказать? Будь у корчмаря хоть двести тысяч, у
его жены не было бы таких похорон! Все местечко сбежалось смотреть на
молодого человека, который привез покойницу. Один другому передавал историю
о молодом человеке и очень богатой покойнице, богатой теще (с чего они
взяли, что это моя теща?), и все пришли приветствовать богатого зятя,
который привез свою богатую тещу и сорит деньгами... На меня прямо-таки
указывали пальцами. А нищих! Как песчинок на морском берегу! С тех пор как
живу на свете, с тех пор как стою на ногах, я столько нищих не видал!
Накануне Судного дня возле синагоги их столько не бывает -- даже сравнить
нельзя! Меня таскали за полы, рвали на куски. Шутка ли, молодой человек,
который сыплет деньгами! Счастье, что старосты заступились за меня, не
позволили раздать все деньги. Особенно старался долговязый староста, что с
длинными пальцами, Лейзер-Мойше. Он не отходил от меня ни на минуту и не
переставал твердить и тыкать пальцами: "Молодой человек, не надо сыпать
деньгами! Этому конца-края не будет!" Но чем больше он меня удерживал, тем
больше собиралось вокруг меня нищих, и все они житья мне не давали.
-- Ничего! -- кричали они. -- Когда хоронят такую богатую тещу, можно
себе позволить истратить пару лишних грошей! Теща оставила ему немало! Дай
бог нам не хуже!..
-- Молодой человек! -- кричал какой-то оборванец -- Молодой человек!
Дайте нам на двоих полтинник! Хотя бы двугривенный дайте! Мы двое калек от
рождения, один слепой, другой кривой... Дайте хотя бы пятиалтынный,
пятиалтынный на двоих, двое калек стоят небось пятиалтынного!
-- Да вы слушайте больше, что они будут вам рассказывать! Калеки? --
кричал другой, лягая тех ногами.-- Это у него называется "калека"! Вот жена
моя -- это калека, без рук, без ног, чудом жива, да еще с малыми детьми,
тоже больными! Дайте мне, молодой человек, хотя бы еще пятак, я буду читать
поминальную молитву по вашей теще, да будет ей земля пухом!
Сейчас мне смешно. Но тогда мне было не до смеха, потому что орава
нищих росла, как на дрожжах. За полчаса всю базарную площадь запрудили,
невозможно было двигаться с носилками. Служки были вынуждены палками
разгонять толпу. Началась драка. Стали собираться русские люди, крестьянки,
мальчики и девочки, пока дело не дошло до начальства: на площади, верхом на
коне, показался урядник с нагайкой в руке. Он одним взглядом и несколькими
ударами нагайки разогнал весь народ, как птиц, а сам слез с коня, подошел к
носилкам посмотреть, в чем дело, кто такой умер и почему запрудили весь
базар? Прежде всего ему угодно было спросить у меня, кто я такой, откуда и
куда я еду? У меня душа готова была выскочить, я лишился языка. Не знаю, что
это значит: только увижу урядника, у меня опускаются руки, хоть я, как
говорят, мухи никогда не обидел и хорошо знаю, что урядник -- такой же
человек, как и все прочие. Наоборот, я знаю евреев, которые с урядником
живут в большой дружбе, ходят друг к другу в гости, на праздниках урядник
ест у еврея рыбу и, в свою очередь, угощает его яйцами, и еврей нахвалиться
не может, какой прекрасный человек урядник! И все же я, как увижу урядника,
убегаю. Видно, это у меня наследственное, потому что происхожу я от "битых",
от славутских, от настоящих славутских времен Васильчикова, о которых можно
бы рассказывать и рассказывать! Однако хватит! Я, кажется, опять забрался
неизвестно куда.
Итак, стал меня урядник допрашивать: кто я такой, что я такое, куда
еду? Поди расскажи ему, что живу я в Звогиле у тестя на хлебах, а сейчас еду
в Радомысль получать паспорт. Дай бог долголетия старостам, они выручили
меня из беды: один из тех двоих, маленький, с выщипанной бородкой, отозвал
урядника в сторону, о чем-то с ним стал шептаться, а долговязый, что с
длинными пальцами, тем временем учил меня, что говорить.
-- Осторожнее! Скажите, что вы здешний, но живете неподалеку за
городом, а это ваша теща, она умерла, и вы приехали сюда ее похоронить. А
когда будете давать ему, придумайте какое-нибудь имя... А вашего мужичка мы
позовем в дом и угостим стаканом водки, чтоб не вертелся перед глазами,--
тогда все будет очень хорошо.
Урядник вошел со мной в дом и принялся составлять протокол. Знать бы
мне так горести вместе с вами, как я знаю, что я там наболтал ему. Помню
только, что я лопотал языком, а он записывал.
-- Как тебя звать?
Речь идет о событии в Славуте, где владельцы местной еврейской
типографии были в 1835 году обвинены в убийстве и приговорены к наказанию
кнутом и поселению в Сибирь.
-- Мовша.
-- Отца?
-- Ицко.
-- Сколько лет?
-- Девятнадцать.
-- Женат?
-- Женат.
-- Дети есть?
-- Есть.
-- Чем занимаешься?
-- Купец.
-- Кто это помер?
-- Теща.
-- Как ее звали?
-- Ента.
-- Отца ее?
-- Герш.
-- Сколько ей было лет?
-- Сорок.
-- Отчего умерла?
-- От испуга.
-- От испуга?
-- От испуга.
-- Как это -- от испуга? -- спросил он, отложил перо, закурил и стал
разглядывать меня с головы до ног, а я чувствую, что вот-вот язык прилипнет
к нёбу. Тогда я подумал: все равно лгу почем зря, буду продолжать! И
рассказал ему целую историю о том, как моя теща сидела одна за работой,
вязала чулок и забыла, что в комнате сидит ее мальчик Эфраим, парнишка лет
тринадцати, но придурковатый, недотепа, все еще играет со своей тенью. И вот
зашел он за тещину спину, сложил руки и сделал на стенке "козу", а потом как
раскроет рот да как заблеет: "Ме-е-е!" -- и теща свалилась со стула и тут же
померла.
Так вот и сочиняю я ему эту историю, а он глаз с меня не сводит...
Выслушал до конца, сплюнул, вытер рыжие усы и выходит вместе со мной на
улицу. Подошел к носилкам, приподнял черное покрывало, посмотрел на лицо
покойницы и покачал головой, будто желая сказать: "Что-то здесь не так!.." Я
смотрю на него, он -- на меня, потом он обращается к старостам:
-- Ну, покойницу можете похоронить, а его, этого молодца, придется
задержать, пока я не расследую все дело, правда ли, что это его теща и что
она умерла от испуга...
Можете себе представить, каково мне было, когда я услыхал это! От горя
я отвернулся в сторонку и расплакался, -- но как расплакался? Как малое
дитя!
-- Молодой человек, чего вы плачете? -- обращается ко мне тот, которого
зовут реб Иося, и начинает утешать меня, уверяя, что ничего мне не будет.
Одно из двух: если я чист, чего же мне бояться? "Кто чесноку не ел, у того
изо рта не пахнет",-- добавляет реб Шепсл с такой усмешечкой, что мне
хочется закатить ему парочку горячих оплеух в обе пухлые щеки... Господи! К
чему было мне придумывать такую грубую ложь, примешивать мою тещу? Не
хватало еще мне, чтобы вся история дошла до нее, чтобы она узнала, как я ее
заживо похоронил!..
Перестаньте! Не пугайтесь так, бог с вами! Барин вовсе не такой
сердитый, как вы думаете. Вы только суньте ему в руку... И скажите, чтобы он
с протоколом покончил... Он умный начальник и пройдоха... Он отлично
понимает, что все, что вы ему наговорили, -- ложь и враки. Так говорит мне
реб Лейзер-Мойше и тычет своими тонкими пальцами. Если бы я только мог, я бы
разорвал его пополам, как селедку. Ведь это же он сам надоумил меня врать,
прах его побери!..
Больше рассказывать не могу. Я даже вспомнить не могу, что пришлось мне
тогда пережить. Вы сами, конечно, понимаете, что деньги у меня забрали, в
кутузку засадили, судили... Но все это ерунда в сравнении с тем, что я
получил потом, когда до моей тещи и тестя дошло, что их зять сидит из-за
трупа, который он откуда-то привез... Они, понятно, тут же приехали,
заявили, что они мои тесть и теща,-- и тут только и заварилась настоящая
каша: с одной стороны, полиция берет меня на цугундер: "Как же так, мил
человек? Коль скоро твоя теща, Ента, дочь Герша, жива и здорова, так кто же
была умершая?.." Это -- одно. А во-вторых -- за меня принялась моя теща:
-- Я спрашиваю только об одном: скажи, что ты имел против меня, за что
ты похоронил меня заживо?!
На суде, понятно, выяснилось, что я чист, как золото. Это стоило денег,
привезли корчмаря с детьми, и меня из заключения освободили. Но того, что я
тогда натерпелся, и главным образом от тещи, -- я и лютому своему врагу не
пожелаю!..
С тех пор я бегу от всего, что сулит царствие небесное.
---
Шолом Алейхем
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ. Рассказы. М., Политиздат. 1964.
63 с. (Худож. атеистич. б-ка).
На обороте тит. л.: сост. В. Гейшин.
С(Евр.) 1
Оригинал-макет брошюры подготовлен на печатно-кодирующем устройстве
ВНИИПП Министерства культуры СССР
Редактор А. Белов
Художественный редактор Г. Семиреченко
Технический редактор О. Семенова
Сдано в набор-печать 14 января 1964 г. Формат 70 X 1087з2-
Физ. печ. л. 2. Условн. печ. л. 2,74. Учетно-изд. л. 2,53.
Тираж 150 тыс. экз.
А 01008. Заказ No 1873.
Цена 6 коп.
Работа объявлена в Т. п. 1964 г., стр.311--320.
Политиздат, Москва, А-47, Миусская пл., 7.
Отпечатано с матриц типографии "Красный пролетарий", Москва,
Краснопролетарская. 16 в типографии "Радянська Украiна",
Киев, Анри Барбюса, 51/2. 3. 477.
Хотите, расскажу вам интересную историю о том, как я сам однажды
взвалил себе на плечи обузу и чуть-чуть не навлек на себя несчастье! А из-за
чего, думаете? Только из-за того, что был я молодым человеком, еще
неопытным, не слишком изощренным, то есть возможно, что мне и сейчас еще
далеко до умного, потому что, будь я умным, у меня, как вы говорите,
водились бы деньги... Ведь тот, кто имеет деньги, и умен, и хорош, и даже
петь умеет.
Был я, стало быть, молодым мужем, жил у тестя с тещей на всем готовом,
сидел над фолиантами, заглядывал тайком, по секрету от тестя и тещи, в
светские книжки, и не столько по секрету от тестя, сколько от тещи. У меня,
надо вам сказать, теща -- мужчина, то есть женщина, но в штанах... Она одна
ведет все дела, сама детей просватала, выбирала женихов для дочерей. И меня
она сама выбирала, проверила, что я знаю, сама привезла в Звогиль из
Радомысля -- я-то радомысльский, слыхали, наверное, недавно о моем городе
писали в газетах...
И вот сидел я в Звогиле на готовых харчах, корпел над "Море-Небухим" не
вылезал за порог, пока не пришло время, когда нужно было приписаться к
призывному участку, -- тут уж ничего не поделаешь, надо съездить домой, в
Радомысль, привести в порядок бумаги, похлопотать насчет льготы, получить
паспорт, как полагается. Это был, можно сказать, мой первый выезд в свет.
Пошел я на базар нанимать подводу, тоже сам, чтоб показать, что я человек
самостоятельный. И бог послал мне удачу: я нашел мужичка из Радомысля --
дело было зимой -- с крашеными санями, широкой спинкой и крыльями по бокам,
как у орла... Только упустил из виду, что лошадка была белая, а белая
лошадка, говорит теща, приносит несчастье.
-- Дай бог, -- сказала она, -- соврать, но боюсь, что эта поездка
окончится большой неприятностью...
-- Типун тебе на язык! -- сорвалось с языка у тестя,
о чем он тут же пожалел, так как получил нагоняй. Но мне он шепнул:
"Бабьи сказки!" И я начал готовиться в дорогу: взял талес и филактерии
(Особые коробочки с вложенными внутрь текстами из библии; укрепляются на лбу
и предплечье левой руки религиозными евреями во время молитвы), печенье,
несколько рублей на расходы, три подушки: одну --под сиденье, одну -- за
спину, одну -- на ноги, и давай прощаться. Дошло дело до прощания -- нет
слов! Так уж у меня всегда: когда надо прощаться, лишаюсь языка! Не
знаю, что и сказать! И получается как будто грубовато: как это можно
повернуться к каждому, извините, задом и оставить просто так? Не знаю, как
вам, но для меня до сих пор прощание -- дело очень неприятное! Однако
погодите! Я, кажется, залез бог знает куда...
И вот, значит, распрощался я честь-честью и рано утром отправился в
путь-дорогу, на Радомысль. Было это в начале зимы, снег лег рано, санный
путь был хорош. Лошадка, хоть и белая, а бежала резво. Извозчик попался мне
молчаливый, из тех, что на все отвечают либо "Эге!" -- что означает "да",
либо: "Бо-ни", что означает "нет", а больше -- хоть режь его! Выехал я из
дому поевши, настроение хорошее, подушка внизу, подушка за спиной, подушка
на ногах. Лошадка, скачет, извозчик причмокивает, сани скользят, ветер дует,
снежок сыплет сверху и ложится пухом на широкий тракт, и на душе у меня
хорошо, замечательно хорошо, свободно, широко, светло... Все-таки впервые
вылез на божий свет один, сам себе хозяин! Откидываюсь на спинку и
разваливаюсь в санях барином... Но зимой как бы тепло ни оделся, мороз
пробирает и хочется остановиться, погреться, перехватить что-нибудь и ехать
дальше. И представляется мне, в мыслях конечно, теплая корчма, кипящий
самовар, свежее тушеное мясо и горячий бульон... От таких мыслей начинает
сосать под ложечкой, хочется попросту закусить. Заговариваю насчет корчмы с
моим возницей, хочу узнать, далеко ли еще ехать? А он отвечает: "Бо-ни", --
то есть нет. Спрашиваю: "Уж близко?" А он отвечает: "Эге!" -- стало быть,
да! Сколько все-таки до корчмы? Это трудно вытянуть из него, хоть ложись и
помирай! И я представляю себе, что было бы, если бы, скажем, на месте этого
мужичка сидел еврей. Ведь он растолковал бы мне не только, где находится
корчма, он рассказал бы, кто содержит корчму, как его звать, и сколько у
него детей, и сколько он платит за аренду корчмы, и сколько корчма ему
приносит, и сколько лет он уже здесь живет, и кто жил здесь до него, --
конца-краю не было бы рассказам! Экий странный народ! То есть я имею в виду
наших евреев! Совсем какая-то другая кровь, право!..
Мечтал я, стало быть, о теплой корчме, фантазировал о горячем самоваре
и тому подобных хороших вещах, покуда господь не сжалился. Мой мужичок
зачмокал, свернул чуть в сторону, и я увидел небольшой серый домишко, сверху
донизу засыпанный снегом, полевую корчму, которая среди заснеженного белого
поля выглядела как-то очень уж одиноко и больше походила на заброшенное,
забытое надгробие... Лихо подъехав к корчме, мой извозчик с лошадью и санями
направился в сарай, а я двинулся прямо в избу, отворил дверь и...
остановился на пороге -- ни туда, ни сюда! В чем дело? Замечательная
история! Посреди корчмы на полу лежит покойник, накрытый черным, у изголовья
-- два медных подсвечника с маленькими свечками, а кругом сидят ребятишки
оборванные, обшарпанные, колотят себя ручонками по голове, плачут, рыдают,
голосят: "Мама! Ма-ма!" А некто высокий, длинноногий, в летней рваной
накидке, совсем не по сезону, шагает по комнате, ломает руки и говорит
самому себе: "Что делать? Что делать? Как быть?" Я, конечно, понял, на какое
торжество меня принесло! Первой мыслью моей было: "Нойах, беги!" Я подался
назад и хотел убраться. Но дверь за мной закрылась, меня словно приковало к
порогу, и я не мог двинуться с места.
Увидав перед собою свежего человека, высокий устремился ко мне,
протянул обе руки, как человек, молящий о спасении.
-- Что вы скажете о моем несчастии? -- проговорил он, указывая на
плачущих детей. -- Умерла у них, у бедняжек, мать! Что делать? Что делать?
Как быть?
-- Благословен судия праведный! -- произнес я и хотел, как водится,
утешить его добрым словом. Но он перебил меня и говорит:
-- Понимаете ли, дело-то, собственно, такое... Она, жена моя, уже с
прошлого года все равно что мертвая. У нее была проклятая болезнь --
чахотка... Она сама молила бога о смерти. Но горе в том, что живем мы здесь,
в глуши, посреди поля. Что делать? Что делать? Как быть? Пойти куда-нибудь в
деревню, поискать подводу и отвезти ее в город, но как бросить детей одних
посреди поля? А тут дело к ночи. Боже мой, ну что же делать? Что делать? Как
быть?
При этом человек расплакался как-то странно, без слез, будто смеялся,
взвизгивая не своим голосом... Душа болела, глядя на него! Где уж там голод!
Где холод! Забыл я обо всем на свете и говорю:
-- Я еду из Звогиля в Радомысль, сани у меня очень хорошие. Если
местечко, как вы говорите, недалеко отсюда, я могу дать вам мои сани, а сам
подожду здесь, если это недолго.
Ой, дай вам бог долгих лет за ваше благодеяние! Царствие небесное
купите себе, честное слово! Царствие небесное! -- воскликнул он и чуть не
бросился меня целовать. -- Местечко совсем недалеко отсюда, всего версты
четыре или пять. На дорогу понадобится не больше часа, я тут же отошлю сани
обратно. Царствие небесное заслужите, честное слово! Дети! Встаньте,
благодарите, целуйте руки этого молодого человека, в ноги кланяйтесь, он
дает нам свою подводу, я отвезу маму в святое место! Царствие небесное,
честное слово, царствие небесное!..
Слово "радость" было здесь, конечно, не к месту, потому что дети,
услыхав, что отец "отвезет маму", снова припали к покойнице и опять стали
рыдать с еще большей силой. Все же для них было доброй вестью, что нашелся
человек, который окажет им услугу. Сам бог привел его сюда! На меня
смотрели, как на избавителя, как на некоего Илью-пророка, и должен вам
сказать по чистой совести, что и сам я в это время смотрел на себя, как на
необыкновенного человека, я сразу вырос в собственных глазах, стал что
называется "героем". В эту минуту я был готов переносить горы,
переворачивать миры. Не было, кажется, для меня ничего трудного. И у меня
сорвалось с языка:
-- Знаете что? Я сам ее отвезу, с моим извозчиком то есть. Зачем вам
трудиться, отрываться от детей?
И чем дальше, тем больше вся эта семья смотрела на меня, как на ангела,
посланного с неба, а я сам в своих глазах вырастал все выше и выше, чуть ли
не до облаков. Позабыл я в ту минуту, что боюсь прикасаться к покойникам, и
сам своими руками помог вынести жену корчмаря и положить в сани, пообещав
своему мужичку лишний полтинник и лишнюю рюмку водки. Поначалу извозчик
почесывал затылок и что-то ворчал под нос, но после третьей рюмки смягчился,
и мы втроем поехали, то есть я, извозчик и покойная жена корчмаря
Хаве-Нехама (так ее звали), Хаве-Нехама, дочь Рефоел-Михла, помню это как
сегодня, потому что всю дорогу повторял ее имя... Муж несколько раз повторил
мне его, потому что, когда ее будут хоронить, воздавать ей должное и просить
у нее прощения, непременно надо знать ее имя. И я всю дорогу повторял, учил
наизусть: Хаве-Нехама, дочь Рефоел-Михла! Хаве-Нехама, дочь Рефоел-Михла! А
повторяя, я забыл, как зовут ее мужа, хоть голову сними! А он назвал мне
свое имя и говорил, что в местечке, как только я назову его, у меня сейчас
же заберут покойницу. Он в этом местечке уже много лет подряд бывает на
осенних праздниках и тратит массу денег в синагоге, когда собирают
пожертвования, и в бане, не будь она рядом помянута, и везде и всюду! И еще
что-то говорил он мне, этот корчмарь, натрещал полную голову -- куда заехать
и что сказать, но у меня все это сразу вылетело из памяти, не оставив и
следа! Все мои мысли вертелись вокруг одного: я везу покойницу -- этого было
достаточно, чтобы все в голове у меня перепуталось, чтобы я забыл даже, как
меня зовут, потому что с детства я смертельно боюсь покойников! До сих пор
не могу оставаться один с покойником -- хоть озолотите меня! Мне все
кажется, что полуприкрытые, якобы закатившиеся глаза смотрят и видят меня,
что сомкнутые мертвые губы вот-вот откроются и послышится дикий голос, как
из-под земли. От одних этих фантазий можно в обморок упасть! Недаром у нас
рассказывают истории о покойниках, о том, как люди от страха падали в
обморок, сходили с ума, а то и вовсе помирали на месте.
Ехали мы, значит, втроем с покойницей. Ей я уступил одну из моих
подушек и положил ее поперек саней у себя в ногах. А чтобы отвлечься от
мрачных мыслей, я начал разглядывать небо и повторять про себя:
"Хаве-Нехама, дочь Рефоел-Михла! Хаве-Нехама, дочь Рефоел-Михла!" -- до тех
пор пока имена стали путаться у меня в памяти и уже получалось:
"Хаве-Рефоел, дочь Нехама-Михла" и "Рефоел-Михл, дочь Хаве-Нехамы..." Я
совсем не замечал, что вокруг как-то становится все темнее и темнее, ветер
крепчает, а снег, не переставая, сыплет и сыплет и заносит дорогу, так что
сани идут неизвестно куда, а мой мужичок чего-то ворчит с каждым разом все
громче и громче, и я готов поклясться, что он произносит по моему адресу
трехэтажное благословение... Спрашиваю: "Ну, что там у тебя?" А он в ответ с
озлоблением плюет, упаси и помилуй бог! И. вдруг у него раскрывается рот, и
он начинает сыпать: я, мол, погубил его вместе с лошадкой! Из-за того, что
мы взяли в сани покойницу,, лошадка потеряла дорогу, и мы сбились с пути, и
бог знает до каких пор будем блуждать, вот-вот настанет ночь,-- тогда мы
пропали!..
Веселая весть, что и говорить! Я готов был ехать обратно в корчму,
отказаться от благодеяния и от заслуженного царствия небесного! Но извозчик
сказал, что теперь уже поздно, теперь ни вперед, ни назад, ехать некуда,
потому что мы кружим где-то посреди поля, черт его ведает где!.. Дорогу
занесло, небо потемнело, уке глубокая ночь, и лошадь замучена до смерти!
Черт бы побрал корчмаря, погибель на всех корчмарей во всем свете! Пусть бы
он, говорит извозчик, лучше ногу себе сломал прежде, чем остановиться в этой
корчме! Нехай бы ему поперек горла встала первая стопка водки, нежели дать
себя уговорить и сделать такую глупость, взять к себе в сани этакую беду,
из-за поганого "полшмардованца" пропадать тут в поле, ко всем чертям, с
конякою вместе! Да уж он-то сам ладно, может, ему и суждено тут вот
окочуриться, а лошадка, бедняга, при чем? И что им от нее понадобилось?
Безвинная животина, скотинка, с нее спрос небольшой.
Готов поклясться, что в голосе его слышались слезы... Хотел я излить
перед ним душу, обещал еще полтину и две стопки водки, но он вскипел и
заявил, что, если я не замолчу, он и вовсе выбросит из саней нашу
"находку"!.. И я подумал: а что я буду делать, если он и в самом деле
выбросит покойницу из саней со мной вместе? Мало ли что может сделать
извозчик, если рассердится? Пришлось замолчать и сидеть в санях, зарывшись в
подушки, остерегаться, как бы не заснуть, потому что как же можно спать,
когда перед глазами лежит труп? А во-вторых, я слыхал, что зимой на морозе
спать нельзя: можно незаметно уснуть навеки...
Но словно назло, глаза у меня слипаются, хочется вздремнуть. Я бы,
кажется, в ту минуту ничего не пожалел, только бы подремать!.. Я с силой
раскрываю глаза, но они не слушаются и постепенно закрываются, снова
открываются и опять слипаются... А сани скользят по белому, глубокому и
рыхлому снегу, и по всему телу разливается какая-то странная истома, и
хочется, чтобы это состояние продолжалось как можно дольше... Но другая
сила, не знаю откуда, тормошит меня: "Не спи, Нойах, не спи!" Я с трудом
раздираю веки, и от блаженного состояния не остается и следа, оно сменяется
холодом, пронизывающим все внутри, меланхолией, страхом и ужасом, -- не
приведи господь! Кажется, что моя покойница шевелится, раскрывается и
смотрит на меня полузакрытыми глазами, словно хочет сказать: "Что ты имеешь
против меня, молодой человек? За что ты хочешь загубить мертвую женщину,
мать маленьких детей, не предаешь ее земле, как по закону положено?" А ветер
завывает человеческим голосом, свистит прямо в ухо, поверяет страшную
тайну... И страшные мысли, думы, опасения лезут в голову, и чудится мне, что
все мы под снегом -- я, извозчик, его лошадка и покойница... Мы все мертвы,
и только покойница -- поразительно! -- одна только покойница, жена корчмаря,
жива...
Но вдруг я слышу, мой мужичок причмокивает как- то очень весело,
благодарит бога, крестится в темноте и вздыхает. Словно новую душу вдохнул
он в меня, я вижу вдалеке мелькает огонек, он то покажется, то погаснет, то
снова вспыхнет. "Селение!" -- думаю я и от всего сердца благодарю бога и
обращаюсь к моему вознице:
-- Выбрались как будто на дорогу? Пожалуй, скоро будем в местечке?
-- Эге! -- отвечает он, как и прежде кратко, но уже спокойно, без
злобы, и хочется его обнять сзади, поцеловать в плечо за добрую весть, за
его доброе и тихое "эге", которое сейчас мне дороже самой умной проповеди!
-- Тебя как звать? -- спрашиваю я и удивляюсь, почему я до сих пор не
узнал его имени.
-- Микита, -- отвечает он, по своему обыкновению, кратко.
-- Микита? -- переспрашиваю я, и это имя кажется мне особенно
симпатичным.
-- Эге! -- отвечает он, как обычно.
И мне очень хочется, чтоб Микита сказал еще что- нибудь, хотя бы
два-три слова хотелось от него услышать. Он становится мне дорог, и лошадка
его мне дорога... Я завожу с ним разговор о лошадке, говорю, что лошадка у
него хороша. Очень славная лошадка!
-- Эге! -- отвечает Микита.
-- И сани у тебя, Микита, очень хорошие!
-- Эге! -- соглашается он и больше ни слова сказать не хочет, хоть режь
его.
-- Не любишь, -- говорю я, -- разговоры водить, Ми- кита-сердце?
-- Эге! -- отвечает он.
Я смеюсь, мне весело, хорошо и весело, словно я взял Очаков, или нашел
клад, или открыл что-то новое, еще никому не известное,-- словом, я счастлив
сверх всякой меры! А по какой причине, не скажете ли вы? Хочется петь во
весь голос, честное слово! У меня вообще такая манера: когда хорошо на душе,
я пою. Жена знает уже мой характер, она спрашивает: "Что случилось, Нойах?
Сколько ты заработал, что так распелся?" Женщинам по женскому их разумению
представляется, что человеку может быть весело только в том случае, если он
что-нибудь заработал. А иначе у человека не может быть хорошего настроения.
Откуда это берется, что наши жены гораздо больше жадны до денег, чем мы,
мужчины? Казалось бы, кто работает ради денег? Мы или они? Однако хватит! Я
снова, кажется, залез бог знает куда...
Приехали мы, стало быть, с божьей помощью, в местечко раным-рано. Все
еще спали, до рассвета было далеко, нигде огонька не видать. Наконец увидели
домишко с большими воротами и веником на одной из створок -- примета
заезжего дома. Мы остановились, вылезли из саней и стали с Микитой колотить
кулаками в ворота. Стучали, стучали, наконец бог помог, увидели в окне
огонек. Потом услыхали -- кто-то шлепает и спрашивает из-за ворот:
-- Кто там?
-- Отворите, -- отвечаю, -- дяденька! Заслужите царствие небесное!
-- Царствие небесное? А кто вы такие? -- произносит голос и принимается
отпирать замок.
-- Отворите, -- говорю я. -- Я привез сюда покойника.
-- Кого?
-- Покойника!
-- Что значит -- покойника?
-- Покойника -- значит умершего. Умершую женщину привез я из деревни,
из корчмы.
По ту сторону ворот стало тихо. Слышно было только, как замок снова
заперли, ноги прошлепали, видимо, обратно, а потом погас и огонек -- и поди
жалуйся господу богу! Это меня разозлило, и я попросил моего мужичка помочь
мне стучать кулаками в окно. Принялись мы оба стучать так энергично, что
огонек снова загорелся и снова послышался голос из-за ворот:
-- Чего вы от меня хотите? Что еще за напасть?
-- Ради бога! -- умоляю я его, как разбойника. -- Сжальтесь, я здесь с
покойником!
-- С каким покойником?
-- С женой корчмаря.
-- Какого корчмаря?
-- Я забыл, как его зовут, но ее зовут Хаве-Михл, дочь Ханы-Рефоела, то
есть Хане-Рефоел, дочь Хавы-Михл, то есть Хана-Хана-Хана...
-- Если не уйдете отсюда, несчастный, сейчас ведром воды окачу!
Так отвечает хозяин заезжего дома и уходит от окна, гасит огонек, и
поди делай с ним что хочешь!.. И только через час, когда начало светать,
открылась калитка, высунулась черная голова в белых перьях и обратилась ко
мне:
-- Это вы барабанили в окно?
-- Я, а кто же?
-- Чего вы хотели?
-- Я привез покойника.
-- Покойника? Везите его к служке погребального братства.
-- А где он живет, ваш служка? Как его звать?
-- Зовут его Ехиел, а живет он под горой, недалеко от бани.
-- А где тут у вас баня?
-- Баню не знаете? Вы, наверное, не здешний? Откуда будете?
-- Откуда? Из Радомысля, радомысльский я, но еду я из Звогиля, а
покойника везу из корчмы, здесь неподалеку, это жена корчмаря, она умерла от
чахотки.
-- Не про нас будь сказано! А вы тут, собственно, причем?
-- Я? Да ни при чем! Я ехал мимо, а он меня попросил, корчемник то
есть. Живет он посреди поля с малыми детишками, негде похоронить... Вот я и
подумал: человек просит, сулит царствие небесное,-- почему не сделать?
-- Что-то здесь не все ладно! -- отвечает он. -- Придется вам прежде
всего повидаться со старостами.
-- А кто у вас старосты? Где они живут?
-- Старост не знаете? Реб Шепсл, староста, живет он по ту сторону
базара. Реб Лейзер-Мойше, староста, живет по самой середине базара. Реб
Иося, тоже староста, живет около старой синагоги. Но прежде всего надо вам
повидаться с реб Шепслом, он у нас самый главный. Человек жесткий,
предупреждаю вас, его не так-то скоро разжуешь.
-- Спасибо! -- говорю. -- Дай вам бог сообщать более веселые вести. А
когда я смогу с ними повидаться?
-- Что значит, когда? Утром, бог даст, после моления.
-- Поздравляю! А что мне делать до тех пор? Пустите хоть войти
погреться. У вас тут, видимо, хороший Содом?
Услыхав такие слова, хозяин заезжего дома тут же снова запер ворота, и
снова стало тихо, как на кладбище. Что же делать дальше? Стоим с санями
посреди улицы.
Микита злится, ворчит, почесывает затылок, плюется и сыплет
трехэтажными благословениями: "Погибель, -- говорит он, -- на этого
корчмаря, да и на всех корчмарей во всем свете! Уж я-то сам -- ладно, черт
меня не возьмет! Но конягу! Какого беса морят голодом и холодом несчастную
лошадку? Безвинную животину, скотинку... Она тут при чем?.."
Стыд и срам перед этим крестьянином. Мне приходит в голову: что, к
примеру, думает он о нас, евреях? Как выглядим мы, "милосердные из
милосердных" (Талмудическая поговорка о евреях), в сравнении с ними, людьми
грубыми, когда еврей еврею не желает дверь открыть, не пускает даже
погреться,-- ну, разве не стоим мы втрое больше того, что имеем? Так я
оправдываю все, что выпало на нашу долю, и обвиняю всех, как это обычно
делает еврей, когда другой еврей отказывает ему в одолжении. Никто так много
худого не говорит о нас, сколько мы сами. Тысячу раз на дню можно услышать
из уст каких угодно евреев такие слова: "С евреем не шути!", "С евреем
хотите столковаться?", "С евреями хорошо кугл кушать!", "На это способен
только еврей!", "Так ведь на то он и еврей!", "Ох, еврей, еврей!" -- и тому
подобные аттестации и комплименты. Я хотел бы знать, как у других, когда
случается, что один другому не хочет помочь? Тоже нападают на всех и
говорят: весь народ не стоит того, что его земля носит? Однако хватит! Опять
я, кажется, залез неизвестно куда...
Стоим мы, стало быть, с санями посреди базара и ждем, покуда станет
совсем светло и город начнет проявлять признаки жизни. И вот наконец где-то
послышался скрип отворяемой двери, звякнуло ведро, из двух-трех труб
показался дым, и пение петухов становилось с каждым разом громче и живее, на
улице стали показываться божьи создания в образе коров, телят, коз и, не
будь рядом помянуты, мужчины, женщины и девушки, закутанные в теплые шали,
завернутые, словно куклы, согнувшиеся втрое, похожие на замороженные
кислицы, -- словом местечко ожило, как живой человек, к примеру. Проснулось,
ополоснуло руки, накинуло на себя одежду и принялось за работу: мужчины --
служить создателю, молиться, сидеть над фолиантами, читать псалмы, а женщины
-- у печей, у квашеного теста, у телят и коз. Я начал расспрашивать о
старостах: где живет реб Шепсл, реб Лейзер-Мойше, реб Иося? Спрашивают, в
свою очередь, и меня: какой Шепсл? Какой Лейзер-Мойше? Какой Иося? У нас,
говорят они, в местечке есть несколько Шепслов, несколько Лейзер-Мойшей,
несколько Иосей. А когда я сказал, что мне нужны старосты погребального
братства, они испугались и стали выпытывать, зачем молодому человеку в такую
рань старосты погребального братства? Но я не дал себя расспрашивать,
выложил все начистоту, рассказал им, какую обузу я взял на себя.
И надо было вам видеть, что тут началось! Думаете, все заторопились
освободить меня от несчастья? Как бы не так! Они выбегали на улицу, чтобы
взглянуть на сани, лежит ли там в самом деле мертвое тело или все это вообще
выдуманная история? Тем временем вокруг нас собралась толпа, но люди все
время менялись, так как холод не давал стоять подолгу на одном месте. И все
заглядывали в сани, качали головами, пожимали плечами и спрашивали, кто
покойница и откуда, кто я и кем я ей прихожусь, но помочь мне никто и не
думал. Кое-как я добился, чтобы мне указали, где живет староста Шепсл. Я
застал его стоящим лидом к стене, в молитвенном облачении, молящимся с такой
горячностью, с таким сладостным напевом и с таким экстазом, что казалось,
будто сами стены поют. Он щелкал пальцами, охал и ахал, извивался и
гримасничал. Я прямо-таки наслаждался, потому что, во-первых, очень люблю
слушать такую молитву, а во-вторых, мог пока что согреть немного свои
промерзшие кости. А когда реб Шепсл повернулся ко мне лицом, в глазах у него
все еще стояли слезы, и казался он мне божественным человеком, святым, у
которого душа так далеко от земли, как далеко его большое и тучное тело от
неба. Но так как молиться он еще не кончил, а прерывать молитву не хотел, то
разговаривал со мной по-древнееврейски, на "священном языке", то есть
размахивал руками, подмигивал, пожимал плечами, кивал головой, шмыгал носом,
а также произносил изредка кое-какие древнееврейские слова. Если хотите,
могу передать этот разговор слово в слово, Вы сами, наверно, поймете, что
говорил я и что говорил он.
-- Мир вам, реб Шепсл!
-- Алейхем шолом! И-о... Ал гасафсол... (На скамейку, древнееврейск.)
-- Спасибо, уж я достаточно насиделся.
-- Ну-о? Ма? Ма?
-- У меня к вам просьба, реб Шепсл. Заслужите царствие небесное.
-- Царствие небесное? Хорошо... Но что? Что?
-- Я вам привез покойника.
-- Покойника? Кто покойник?
-- Неподалеку отсюда есть корчма, снимает ее еврей, бедняк... И вот у
него, понимаете, умерла жена от чахотки, оставила маленьких детей... Жалость
ужасная! Если бы я не пожалел их, не знаю, что бы он, бедняга" стал делать,
этот корчмарь, с трупом посреди поля...
-- Благословен судия праведный... Но... ну... Деньги? Погребальное
братство?..
-- Какие деньги? Откуда деньги? Он -- бедняк, нищий, с кучей ребят!
Заслужите себе царствие небесное, реб Шепсл.
-- Царствие небесное? Хорошо, очень хорошо... Но что? Что? Богадельня?
Евреи? Ну? Тоже нищие? И-о! Ну, фе!
Но так как я не понял, что он хочет сказать, реб Шепсл разозлился,
снова повернулся лицом к стене и стал молиться уже не с такой горячностью,
как прежде, но немного спокойнее, тоном ниже, почти фальцетом, раскачиваясь
быстро-быстро... Потом снял с себя талес и филактерии и налетел на меня с
таким озлоблением, как если бы я ему помешал в торговых делах, чуть что не
зарезал... Помилуйте, говорил он, местечко и без того нищее, хватает ему и
своих бедняков, для которых надо собирать на саван, когда кто-нибудь из них
умирает, -- а тут еще приезжают из чужих краев, со всего света! И все --
сюда! Все -- сюда!
Я оправдывался как мог, уверял, что я тут ни при чем, покойница
одинокая, -- это все равно, сказал я, что найти на дороге труп, -- надо же
воздать ему должное, предать земле, как полагается по закону. Ведь вы же
честный человек, набожный, ведь это же сулит царствие небесное! Но он еще
пуще прежнего налетел на меня, чуть ли не прогнал вон. То есть не прогнал
буквально, но начал донимать словами:
-- Вот как? Вы стараетесь ради царствия небесного! Пройдитесь,
пожалуйста, по нашему местечку, сделайте что-нибудь, чтобы люди не так часто
умирали от голода, не замерзали бы от холода, -- и вы заслужите царствие
небесное! Человек небесного царствия! Молодой человек, торгующий райским
блаженством! Обратитесь с вашим товаром к безбожникам, может быть, они купят
у вас царствие небесное? У нас имеются свои благодеяния и заслуги, а если
нам захочется получить долю царствия небесного, мы как-нибудь и без вас
обойдемся!
Так говорит мне староста реб Шепсл и выпроваживает меня, со злостью
хлопнув дверью, и, клянусь вам честью,-- ведь мы видимся с вами в первый и,
может быть, в последний раз,-- с того дня я как-то особенно возненавидел
"порядочных", ортодоксальных евреев, невзлюбил тех, что молятся громко,
смакуют каждое слово, напевают и гримасничают, терпеть не могу святош и тех,
что разговаривают с богом, служат богу, делают все во имя бога и якобы ради
него! Правда, вы, пожалуй, скажете, что у нынешних, у свободомыслящих, не
больше, а может быть, и меньше справедливости, чем у прежних, у ханжей?
Может быть, вы и правы, но тут не так и досадно: они хоть не разговаривают с
богом. Вы спросите, почему же нынешние так дерутся за правду, распинаются,
будто сам черт их за душу хватает, а как дойдет до дела, оказывается, что
все это ломаного гроша не стоит? Однако хватит! Я, кажется, опять залез
неизвестно куда...
Стало быть, главный староста, реб Шепсл, меня, с позволения сказать,
выгнал. Что же теперь делать? Надо идти к остальным... Но тут произошло
чудо: мне не пришлось ходить к старостам, потому что старосты пришли сами,
встретились со мной носом к носу у самых дверей и обратились ко мне:
-- Уж не вы ли тот молодой человек, который с козой?
-- С какой козой? -- спросил я.
-- То есть молодой человек, который привез покойника, это вы?
-- Да, я. А что такое?
-- Идемте обратно, к реб Шепслу. Все вместе посоветуемся.
-- Посоветуемся? -- сказал я. -- А что тут советоваться? Заберите у
меня покойницу и отпустите меня. Заслужите царствие небесное.
-- А разве вас кто-нибудь держит? Можете ехать с вашей покойницей куда
угодно, хоть в Радомысль, -- мы вам еще спасибо скажем.
-- Спасибо за совет! -- ответил я.
-- Не за что! -- говорят они, и все мы пошли к реб Шепслу.
Трое старост начали разговаривать между собой, спорить, ссориться, чуть
ли не ругаться. Те говорят реб Шепслу, что он всегда препятствует, что
человек он жесткий, его не укусишь. А реб Шепсл злится, капризничает,
привередничает, доказывает, что даже в священных книгах сказано: "Нищие
твоего города в первую очередь". Тогда те двое нападают на него:
-- Ну и что же из этого? Вы, стало быть, хотите, чтобы этот молодой
человек ехал обратно с трупом?
-- Ни в коем случае! -- воскликнул я. -- Как это я повезу труп обратно?
Я приехал сюда чуть живой, мог погибнуть в поле. Крестьянин, дай ему бог
долгие годы, хотел меня выбросить из саней посреди дороги. Я прошу вас,
сжальтесь надо мной, освободите меня от покойницы,-- вы заслужите царствие
небесное!
Царствие небесное -- это, конечно, лакомый кусок! -- ответил один из
тех двоих, высокий человек с тонкими пальцами, по имени Лейзер-Мойше. --
Труп мы у вас заберем, предадим его земле, но несколько рублей это вам будет
стоить.
-- Как это? -- сказал я. -- Мало того, что я взял на себя такое доброе
дело, чуть не погиб в поле, мужичок, жить бы ему долго, хотел меня из саней
выбросить, а вы говорите -- деньги?
-- Зато вам обеспечено царствие небесное! -- ответил мне реб Шепсл с
такой поганой усмешкой, что так и захотелось огреть его хорошенько... Однако
пришлось сделать над собою огромное усилие и воздержаться, потому что я ведь
был у них в руках!
-- Позвольте! -- сказал второй из тех двоих, которого звали реб Иося,
человек небольшого роста с наполовину выщипанной бородкой. -- Надо вам
знать, молодой человек, что это еще не все: ведь у вас никаких бумаг нет!
Ведь бумаг у вас никаких!
-- Каких бумаг? -- спросил я.
-- А откуда мы знаем, кто она, эта покойница? А может быть, это совсем
не та, о которой вы говорите? -- сказал высокий, с длинными пальцами,
Лейзер-Мойше.
Я стоял, смотрел то на одного, то на другого, а Лейзер-Мойше покачивал
головой, указывал куда-то своими длинными пальцами и говорил:
-- Да, да, да... А может быть, это вы сами зарезали женщину, и может
быть, как раз вашу собственную жену, и привезли ее сюда и рассказываете
байки: полевая корчма, корчмаря жена, чахотка, малые дети, царствие
небесное?..
Я, вероятно, здорово помертвел от этих слов, потому что второй, реб
Иося, заговорил о том, что, собственно, они сами ничего не имели бы
против... Они меня, упаси бог, ни в чем не подозревают, они отлично
понимают, что я не разбойник и не злодей, но ведь я все-таки чужой человек,
а труп -- это ведь не мешок картошки, тут имеешь дело с мертвым человеком, с
покойником... Есть у нас, говорит он, казенный раввин и, не будь рядом
помянут, урядник... Протокол необходимо составить...
-- Да, да, да! Протокол! Протокол!--вмешался долговязый, которого звали
Лейзер-Мойше, и тыкает пальцем и смотрит на меня сверху вниз такими глазами,
как если бы я и в самом деле совершил преступление...
Я не мог ничего ответить. Чувствовал только, что пот выступил у меня на
лбу, и нехорошо мне стало, чуть ли не до обморока. Я хорошо понял, в каком
ужасном положении я очутился, как попался... И стыдно было мне, и досадно, и
больно. Тогда я подумал: что тут тянуть? Достал кошелек и обратился к трем
старостам погребального братства:
-- Выслушайте меня. Дело обстоит так: вижу, что я здорово попался.
Угораздила меня нелегкая остановиться в полевой корчме и попасть туда как
раз тогда, когда жене корчмаря вздумалось умереть, и услышать, как бедный
человек, обремененный кучей детей, умоляет меня заслужить себе царствие
небесное... Вот и приходится за все это расплачиваться. Вот вам мой кошелек
с деньгами, есть у меня всего-навсего рублей семьдесят с лишним. Возьмите и
поступайте, как понимаете. Оставьте мне только на дорогу до Радомысля,
заберите у меня покойницу и отпустите мою душу.
Видимо, слова мои были произнесены горячо, потому что все трое
переглянулись, не притронулись к моему кошельку и сказали, что здесь, упаси
бог, не Содом. Правда, местечко у них бедное, нищих здесь гораздо больше,
чем богатых, но напасть на чужого человека и сказать ему: "Жид, давай
гроши!" -- этого делать они не собираются. Сколько дам по доброй своей воле,
столько и ладно. Но ничего не взять -- это не пройдет, потому что местечко
нищее. Ну, а служкам, носильщикам, на саван, на водку, за могилу надо будет
дать, конечно, понемногу, сыпать деньгами незачем, потому что
расточительству конца-края нет!
Ну, что же мне вам еще рассказать? Будь у корчмаря хоть двести тысяч, у
его жены не было бы таких похорон! Все местечко сбежалось смотреть на
молодого человека, который привез покойницу. Один другому передавал историю
о молодом человеке и очень богатой покойнице, богатой теще (с чего они
взяли, что это моя теща?), и все пришли приветствовать богатого зятя,
который привез свою богатую тещу и сорит деньгами... На меня прямо-таки
указывали пальцами. А нищих! Как песчинок на морском берегу! С тех пор как
живу на свете, с тех пор как стою на ногах, я столько нищих не видал!
Накануне Судного дня возле синагоги их столько не бывает -- даже сравнить
нельзя! Меня таскали за полы, рвали на куски. Шутка ли, молодой человек,
который сыплет деньгами! Счастье, что старосты заступились за меня, не
позволили раздать все деньги. Особенно старался долговязый староста, что с
длинными пальцами, Лейзер-Мойше. Он не отходил от меня ни на минуту и не
переставал твердить и тыкать пальцами: "Молодой человек, не надо сыпать
деньгами! Этому конца-края не будет!" Но чем больше он меня удерживал, тем
больше собиралось вокруг меня нищих, и все они житья мне не давали.
-- Ничего! -- кричали они. -- Когда хоронят такую богатую тещу, можно
себе позволить истратить пару лишних грошей! Теща оставила ему немало! Дай
бог нам не хуже!..
-- Молодой человек! -- кричал какой-то оборванец -- Молодой человек!
Дайте нам на двоих полтинник! Хотя бы двугривенный дайте! Мы двое калек от
рождения, один слепой, другой кривой... Дайте хотя бы пятиалтынный,
пятиалтынный на двоих, двое калек стоят небось пятиалтынного!
-- Да вы слушайте больше, что они будут вам рассказывать! Калеки? --
кричал другой, лягая тех ногами.-- Это у него называется "калека"! Вот жена
моя -- это калека, без рук, без ног, чудом жива, да еще с малыми детьми,
тоже больными! Дайте мне, молодой человек, хотя бы еще пятак, я буду читать
поминальную молитву по вашей теще, да будет ей земля пухом!
Сейчас мне смешно. Но тогда мне было не до смеха, потому что орава
нищих росла, как на дрожжах. За полчаса всю базарную площадь запрудили,
невозможно было двигаться с носилками. Служки были вынуждены палками
разгонять толпу. Началась драка. Стали собираться русские люди, крестьянки,
мальчики и девочки, пока дело не дошло до начальства: на площади, верхом на
коне, показался урядник с нагайкой в руке. Он одним взглядом и несколькими
ударами нагайки разогнал весь народ, как птиц, а сам слез с коня, подошел к
носилкам посмотреть, в чем дело, кто такой умер и почему запрудили весь
базар? Прежде всего ему угодно было спросить у меня, кто я такой, откуда и
куда я еду? У меня душа готова была выскочить, я лишился языка. Не знаю, что
это значит: только увижу урядника, у меня опускаются руки, хоть я, как
говорят, мухи никогда не обидел и хорошо знаю, что урядник -- такой же
человек, как и все прочие. Наоборот, я знаю евреев, которые с урядником
живут в большой дружбе, ходят друг к другу в гости, на праздниках урядник
ест у еврея рыбу и, в свою очередь, угощает его яйцами, и еврей нахвалиться
не может, какой прекрасный человек урядник! И все же я, как увижу урядника,
убегаю. Видно, это у меня наследственное, потому что происхожу я от "битых",
от славутских, от настоящих славутских времен Васильчикова, о которых можно
бы рассказывать и рассказывать! Однако хватит! Я, кажется, опять забрался
неизвестно куда.
Итак, стал меня урядник допрашивать: кто я такой, что я такое, куда
еду? Поди расскажи ему, что живу я в Звогиле у тестя на хлебах, а сейчас еду
в Радомысль получать паспорт. Дай бог долголетия старостам, они выручили
меня из беды: один из тех двоих, маленький, с выщипанной бородкой, отозвал
урядника в сторону, о чем-то с ним стал шептаться, а долговязый, что с
длинными пальцами, тем временем учил меня, что говорить.
-- Осторожнее! Скажите, что вы здешний, но живете неподалеку за
городом, а это ваша теща, она умерла, и вы приехали сюда ее похоронить. А
когда будете давать ему, придумайте какое-нибудь имя... А вашего мужичка мы
позовем в дом и угостим стаканом водки, чтоб не вертелся перед глазами,--
тогда все будет очень хорошо.
Урядник вошел со мной в дом и принялся составлять протокол. Знать бы
мне так горести вместе с вами, как я знаю, что я там наболтал ему. Помню
только, что я лопотал языком, а он записывал.
-- Как тебя звать?
Речь идет о событии в Славуте, где владельцы местной еврейской
типографии были в 1835 году обвинены в убийстве и приговорены к наказанию
кнутом и поселению в Сибирь.
-- Мовша.
-- Отца?
-- Ицко.
-- Сколько лет?
-- Девятнадцать.
-- Женат?
-- Женат.
-- Дети есть?
-- Есть.
-- Чем занимаешься?
-- Купец.
-- Кто это помер?
-- Теща.
-- Как ее звали?
-- Ента.
-- Отца ее?
-- Герш.
-- Сколько ей было лет?
-- Сорок.
-- Отчего умерла?
-- От испуга.
-- От испуга?
-- От испуга.
-- Как это -- от испуга? -- спросил он, отложил перо, закурил и стал
разглядывать меня с головы до ног, а я чувствую, что вот-вот язык прилипнет
к нёбу. Тогда я подумал: все равно лгу почем зря, буду продолжать! И
рассказал ему целую историю о том, как моя теща сидела одна за работой,
вязала чулок и забыла, что в комнате сидит ее мальчик Эфраим, парнишка лет
тринадцати, но придурковатый, недотепа, все еще играет со своей тенью. И вот
зашел он за тещину спину, сложил руки и сделал на стенке "козу", а потом как
раскроет рот да как заблеет: "Ме-е-е!" -- и теща свалилась со стула и тут же
померла.
Так вот и сочиняю я ему эту историю, а он глаз с меня не сводит...
Выслушал до конца, сплюнул, вытер рыжие усы и выходит вместе со мной на
улицу. Подошел к носилкам, приподнял черное покрывало, посмотрел на лицо
покойницы и покачал головой, будто желая сказать: "Что-то здесь не так!.." Я
смотрю на него, он -- на меня, потом он обращается к старостам:
-- Ну, покойницу можете похоронить, а его, этого молодца, придется
задержать, пока я не расследую все дело, правда ли, что это его теща и что
она умерла от испуга...
Можете себе представить, каково мне было, когда я услыхал это! От горя
я отвернулся в сторонку и расплакался, -- но как расплакался? Как малое
дитя!
-- Молодой человек, чего вы плачете? -- обращается ко мне тот, которого
зовут реб Иося, и начинает утешать меня, уверяя, что ничего мне не будет.
Одно из двух: если я чист, чего же мне бояться? "Кто чесноку не ел, у того
изо рта не пахнет",-- добавляет реб Шепсл с такой усмешечкой, что мне
хочется закатить ему парочку горячих оплеух в обе пухлые щеки... Господи! К
чему было мне придумывать такую грубую ложь, примешивать мою тещу? Не
хватало еще мне, чтобы вся история дошла до нее, чтобы она узнала, как я ее
заживо похоронил!..
Перестаньте! Не пугайтесь так, бог с вами! Барин вовсе не такой
сердитый, как вы думаете. Вы только суньте ему в руку... И скажите, чтобы он
с протоколом покончил... Он умный начальник и пройдоха... Он отлично
понимает, что все, что вы ему наговорили, -- ложь и враки. Так говорит мне
реб Лейзер-Мойше и тычет своими тонкими пальцами. Если бы я только мог, я бы
разорвал его пополам, как селедку. Ведь это же он сам надоумил меня врать,
прах его побери!..
Больше рассказывать не могу. Я даже вспомнить не могу, что пришлось мне
тогда пережить. Вы сами, конечно, понимаете, что деньги у меня забрали, в
кутузку засадили, судили... Но все это ерунда в сравнении с тем, что я
получил потом, когда до моей тещи и тестя дошло, что их зять сидит из-за
трупа, который он откуда-то привез... Они, понятно, тут же приехали,
заявили, что они мои тесть и теща,-- и тут только и заварилась настоящая
каша: с одной стороны, полиция берет меня на цугундер: "Как же так, мил
человек? Коль скоро твоя теща, Ента, дочь Герша, жива и здорова, так кто же
была умершая?.." Это -- одно. А во-вторых -- за меня принялась моя теща:
-- Я спрашиваю только об одном: скажи, что ты имел против меня, за что
ты похоронил меня заживо?!
На суде, понятно, выяснилось, что я чист, как золото. Это стоило денег,
привезли корчмаря с детьми, и меня из заключения освободили. Но того, что я
тогда натерпелся, и главным образом от тещи, -- я и лютому своему врагу не
пожелаю!..
С тех пор я бегу от всего, что сулит царствие небесное.
---
Шолом Алейхем
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ. Рассказы. М., Политиздат. 1964.
63 с. (Худож. атеистич. б-ка).
На обороте тит. л.: сост. В. Гейшин.
С(Евр.) 1
Оригинал-макет брошюры подготовлен на печатно-кодирующем устройстве
ВНИИПП Министерства культуры СССР
Редактор А. Белов
Художественный редактор Г. Семиреченко
Технический редактор О. Семенова
Сдано в набор-печать 14 января 1964 г. Формат 70 X 1087з2-
Физ. печ. л. 2. Условн. печ. л. 2,74. Учетно-изд. л. 2,53.
Тираж 150 тыс. экз.
А 01008. Заказ No 1873.
Цена 6 коп.
Работа объявлена в Т. п. 1964 г., стр.311--320.
Политиздат, Москва, А-47, Миусская пл., 7.
Отпечатано с матриц типографии "Красный пролетарий", Москва,
Краснопролетарская. 16 в типографии "Радянська Украiна",
Киев, Анри Барбюса, 51/2. 3. 477.