---------------------------------------------------------------
© Copyright Павел Пепперштейн
© Изд: AdMarginem, 1998
Date: 09 Nov 2008
Scan & spellcheck: niti
---------------------------------------------------------------
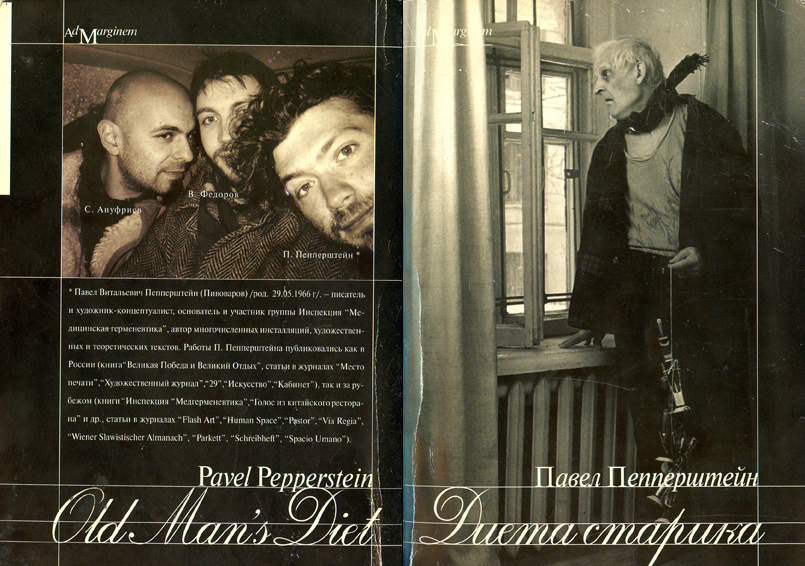 Содержание
Михаил Рыклин
Триумф детриумфатора 2
I. Кумирня мертвеца 23
II. Холод и вещи
Пассо и детриумфация 67
Знак 77
История потерянного зеркальца 91
История потерянного крестика 108
История потерянной куклы 126
Лед в снегу 133
III. Еда
Около молока 150
Супы 158
Яйцо 161
Горячее 192
Грибы 196
Ватрушечка 204
Кекс 212
Бублик 217
Колобок 224
Каша с медом, лед с медом, холодец 267
IV. Мой путь к Белоснежному дому
День рождения Гитлера 286
Мой путь к Белоснежному дому 289
Бинокль и Монокль I 294
Комментарий 312
Бинокль и Монокль II 318
Инструкция по пользованию Биноклем и Моноклем 339
Предатель Ада 340
Философствующая группа и музей философии 357
Голос из китайского ресторана 364
Эпилог 372
Михаил Рыклин
Триумф детриумфатора
Линия и буква
В свой тридцать один год Павел Пепперштейн не просто писатель со
стажем. Я вообще не знаю, когда он начал писать. Первый из публикуемых здесь
текстов был написан еще при жизни Брежнева (в 1982 году), в эпоху, которая и
людям постарше теперь представляется почти мифологической. И хотя автору
было тогда всего шестнадцать, он утверждает, что это далеко не первый из
написанных им рассказов. Паша -- случай в истории литературы довольно редкий
-- приходит к нам со своим письмом прямо из детства. Такое невообразимо
раннее начало составляет часть его литературного проекта. Автор "Диеты
старика" решил, что вместо того, чтобы, подобно Набокову и Прусту, постоянно
обретать утраченное детство, вступая в сложные игры с Мнемозиной, лучше
вообще из него не выходить, оставаться в нем. Это можно расшифровать и так:
постоянно созревать внутри собственного детства, давать взрослеть эйдосу
детства, не расставаться с игрушками и тогда, когда рисуешь, пишешь, делаешь
инсталляцию или создаешь "тексты дискурса" (так Паша называет свои более
поздние теоретические вещи). Конечно, подобной эйдетизации поддается не
всякое детство, но такое, которое содержало в себе возможность практически
бесконечного опосредования -- и притом еще ребенок должен суметь
воспользоваться стечением обстоятельств. Уникальность случая Паши в том, что
оба эти условия совпали. Он был ребенком внутри очень важной отрасли
советского книжного производства, иллюстрирования и написания детских книг.
Мифология детства создавалась В.Пивоваровым, И. Пивоваровой (родителями П.
Пепперштейна), И.Кабаковым, Э.Булатовым, Г. Сапгиром и другими членами
концептуального крута одновременно с критической рефлексией по поводу
возможностей такой мифологии, ее законов, степени вмешательства идеологии и
т.д. Как русская литература вышла из гоголевской "Шинели", так московский
концептуализм во многом вышел из иллюстрирования детских книжек. Павел
Пепперштейн рос, можно сказать, в эпицентре этого процесса, вещи приходили к
нему вместе со своими эйдосами. Экспериментальность его детства -- в том,
что оно располагалось внутри "индустрии детства", было многократно
опосредовано; в результате непосредственно воспринимался сам акт
иллюстрирования. Ближайшим эквилентом такого детства является не состояние
взрослости, когда принцип реальности, прикрываясь щитом ответственности,
доминирует в той или иной форме , а некая былинная старость, по сравнению с
которой столетний юбилей -- это просто детская шалость. Старик в "Диете
старика" не только не отучился лепетать, но изрядно усовершенствовал это
умение и ценой длительного упражнения в лепете обрел право говорить вещи,
которые конвенция строго-настрого запрещает произносить взрослому (зрелому)
человеку. Впрочем, для прямого выпадания из детства в баснословную старость
необходимо соблюсти одно условие: жизнь в таком случае должна с самого
начала быть перемешанной со смертью, которая не имеет возраста и поэтому
может произвольно украшать себя атрибутами детскости и стариковства.
Ребенок, упорно сопротивляющийся выпадению из поддающегося опосредованию
детства, -- тот же древний старик, отказывающийся принимать пищу и тем самым
продолжающий стареть без конца. Иначе и быть не может: ведь то, что обычно
следует за детством, здесь
a priori объявляется достоянием самого детства (становящегося как бы
метадетством). Если из обычного детства выпадают во взрослость, из
метадетства не выпадают вообще: старость является точно таким же его
атрибутом, как и младенчество. Героем рассказа "Кумирня мертвеца",
открывающего книгу, является старичок, сидящий рядом с собакой по имени Рой,
точной стеклянной копией умершей собаки. Из реплик персонажей мы понимаем,
что старичок давно умер. Да и те, кто говорят о нем, сами зависли между
жизнью и смертью (куда ближе к смерти) и не умирают разве что потому, что на
них смотрит стеклянная собака, единственный "живой" герой рассказа. Своей
стеклянностью эта собака оживляет все остальное (в тексте есть намек, что он
написан скульптором, создавшим собаку). Сумей она закрыть глаза -- и все
исчезнет, потому что повествования Пепперштейна длятся благодаря мертвому
взгляду. В рассказе "История потерянного зеркальца" героем является
небольшое зеркало с изображением Кремля, которое переходит от девочки к
симпатичному матерому бандиту, знакомится с его пистолетом, оказывается
косвенной причиной его осуждения и смерти, попадает к другой девочке, дочери
раскрывшего преступление следователя, после чего возвращается к своей
первоначальной обладательнице, чтобы среди прочего запечатлеть акт ее соития
с виолончелистом по фамилии Плеве и многие другие детали. Вся проза
Пепперштейна в той или иной мере зеркальна. Даже если зеркало не становится
действующим лицом, все непрерывно отражается во всем. Невозмутимая
зеркальность позволяет избежать психологизации и так называемой "лепки
характеров", которой обычно кичатся профессиональные литераторы. Мир зримого
и мир текста в этой прозе строго разделены. Профессиональный график,
Пепперштейн, как никто другой, осознает произвольность и тщетность любого
иллюстрирования. Линию отделяет от буквы невидимая, но несводимая дистанция.
Более того, это два радикально различных смыслообразующих принципа. Зрение и
письмо значимы друг для друга в силу разделенности, которая достигает своего
апогея в тот момент, когда они, как кому-то может пригрезиться, совпадают,
исчезают друг в друге. Пожалуй, только тексты профессионального рисовальщика
могут с такой неизменной настойчивостью демонстрировать то, чем литературное
зрение отличается от простого умения видеть и является по отношению к этому
умению разновидностью самопросветляющейся слепоты. Эта невидимая
демаркационная линия непрерывно воспроизводится актами "пустотного
иллюстрирования", иначе говоря, демонстрацией простой интенции что-то
прояснить в тексте с помощью рисунка (и, конечно, наоборот). На аутизм
обречен, собственно, не рисунок, а само стремление перекодировать линию в
букву.
В текстах Пепперштейна присутствует воля не делать литературу
профессией. В этом она асимметрична рисованию. Акт рисования график
превращает в средство обмена с миром, обеспечивающее ему условия
существования. Даже не работая на заказ, он внутренне принимает в себя
взгляд Другого (на профанном языке это также называется "учитывать чужой
вкус", воспроизводить предполагаемый вектор желания). Зато в качестве
пишущего он берет реванш, отказываясь вступать в обмен. Он не вступает с
читателем в компромисс, не подстраивается под него, вынуждая его пройти весь
путь, который преодолел автор. Для читателя такая установка крайне
непривычна: ведь на бессознательном подстраивании под него и строится
литературный успех в обычном понимании слова. Писатель принимается
аудиторией с энтузиазмом потому, что до этого он с не меньшим, хотя и
стыдливо скрываемым энтузиазмом принял эту самую аудиторию в себя. В
домогающейся успеха литературе всегда уже учтен ее читатель, и она
ограничивается тем, что просто "разрабатывает" его. Только небескорыстное
простодушие журналистов заставляет их усматривать в этой встрече некий coup
de foudre, что-то неожиданное и непредсказуемое. Пепперштейн -- редкий
писатель, который действительно не знает и даже не хочет знать, каким будет
его читатель. Со стороны он вполне может сойти за Нарцисса, тем более, что
его нарраторы, как правило, не скрывают своего нарциссизма, при виде
читателя в ужасе закрывая лицо руками. Но эти тексты не нарциссичны, если
понимать под нарциссизмом любование самим собой. Это через них, напротив,
постоянно любуются чем-то совершенно иным, калейдоскопическим струением
внешнего. Автор все время хочет разглядеть, прописать нечто настолько
мелкое, что оно может представлять разве что интеллектуальный интерес.
Принимая сторону детали, он незаметно принимает в себя смерть. Местами его
письмо является уже загробным, вестью с того света. Литература для
Пепперштейна -- это мир возможного, которое, впрочем, не следует путать с
потенциальным, с тем, чему еще только предстоит реализовать себя. Напротив,
лишь возможное, не нуждаясь в воплощении, принадлежит к сфере актуального
постоянно. Герой рассказа "Предатель Ада" изобретает оружие, позволяющее
превращать смерть в перманентное, интенсивное наслаждение, делая ее
желательной и желанной. Тем самым он, подумают некоторые, выбирает сторону
Рая. Но смерти, увы! боятся как раз потому, что она несет с собой чудовищное
по интенсивности наслаждение, граничащее с ужасом и уже не нуждающееся для
самореализации в фигуре личности. Ведь только факт воплощения ограничивает
ужас его известными формами и вообще делает известное известным: за
пределами воплощения -- почему, собственно, развоплощение, несмотря на
местами хитроумные религиозные утешения, так пугает -- не возможно, а
(намеренно не извиняюсь за этот невольный каламбур) необходимо Бог знает
что. В рассказе "Грибы", где дистанция между нарратором и автором резко
сокращается, герой всеми силами пытается стряхнуть с себя галлюциноз, в
отчаянии называя его "первобытным мозгоебством". Зачем? Потому что в его
интенсивном состоянии, "на плато", максимум наслаждения обречен совпасть с
максимумом страдания, на какое-то время делая избыточной, если не излишней
саму форму личности, включая ее аффективный пласт. Плыть в таком состоянии
на автопилоте значит стать простой фигурой бреда. Счастливо избегнув крайне
дискомфортного состояния, герой "Грибов" через несколько часов
вознаграждается целым пучком удачно сцепившихся аффектов, завершающимся
сбором мухоморов (древнейших галлюциногенов).
Теперь, возможно, станет яснее парадокс, связанный с изобретением
"предателя Ада", Койна. Он изобретает невозможное: бесконечно интенсифицируя
связанное со смертью наслаждение, его оружие (о чем ученый умалчивает или,
будучи фигурой сна, не догадывается) претендует заморозить в каком-то
невидимом холодильнике страдание, как если бы это были два разных процесса.
Паша находит из этого тупика оригинальный многоступенчатый выход: во-первых,
изобретение совершается во сне героя рассказа, почти совпадающего с автором,
во-вторых, это происходит во вполне определенном сне. Он приснился потому,
что герой-автор бессознательно хотел заработать много денег, продав свой
сновидческий сценарий Голливуду, "...мною руководило смутное чувство, что
этот несуществующий фильм и эта запись когда-нибудь принесут мне деньги. Это
беспочвенное предчувствие возникло у меня уже во время "просмотра", и оно до
сих пор меня не покинуло". А так как Голливуду можно продать нечто
"массово-развлекательное", сон вполне естественно совершает непредставимое
-- интенсифицирует наслаждение, купируя боль. По сути дела, "предателем Ада"
оказывается не герой сна, а сам сон, взыскующий голливудского Рая. Хорошо
было бы увидеть еще один, симметричный данному, сон, в котором наслаждению
без боли соответствовала бы боль без наслаждения, изобретенная каким-нибудь
угрюмым диктатором в лесах Камбоджи или Туруханского края. Наградой за такой
сон могло бы быть резкое обнищание сновидца.
Если внимательно следить за хронологическим порядком текстов, можно
заметить, что для того, чтобы поддержать акции возможных миров на достаточно
высоком уровне, автору все чаще приходится: а) заставлять своих героев
прибегать к галлюциногенным препаратам и б) под видом комментария создавать
настоящие философские диссертации. Здесь он хорошо вписывается в новейшие
тенденции интеллектуальной русской прозы, которая растворяет уже
растворенный политиками принцип реальности в Реальном (фактически понимаемом
как желание Другого). Специфическая "кислотность" становится условием
письма, стремящегося за пределы социальности, на которую, впрочем, и без
того нельзя опереться, настолько рыхлой является ее ткань.- Другими словами,
препарат довершает дереализацию мира, который и сам несет на себе черты
откровенной бредовости, развиваясь по сценарию компенсированного психоза'.
Убегая от мира, бессильно претендующего воплощать в себе принцип реальности,
герой на самом деле лишь перебегает из одного бреда в другой, скорее всего
даже менее тяжелый. Эта стратегия по-разному преломляется в
"Dostoevsky-trip" В. Сорокина, "Чапаеве и Пустоте" В.Пелевина и "Бинокле и
Монокле" Пепперштейна (написанном при участии С.Ануфриева). Герой этого
текста, фон Кранах, которому пастельные тона Ренуара милее темных фонов его
однофамильца Кранаха и которому СС поручает борьбу с партизанами, пытается
узнать истину о партизанском отряде некого Яснова (Паша расшифровывает эту
фамилию как "Я-снов", но стоит подумать и над такими вариантами: "Я-снова"
-- постоянное возвращение "я" после кислотного растворения -- и "Я-с-новым"
-- возвращение этого "я" всегда новым, но при этом сохраняющим иллюзию
собственной идентичности). Пленный врач отряда Яснова, Коконов (аллюзия
более чем понятная), соглашается "рассказать все" при одном условии: если он
вколет себе и Кранаху некий препарат, кажется, первитин. Немецкий романтик
идет на это и под действием препарата узнает многое об отряде и его
командире, но "истина" оказывается настолько яркой, что он не может ее
записать. Более того, сам критерий отделения фикции от не-фикции пропадает.
"Я" Кранаха оказывается "я-снов", которое под видом партизанского командира
искало самого себя. Проблема "я-снов" в том, что оно не может стать
"я-снова": входя в сны, оно утрачивает и одновременно обретает себя.
Исчезает Кранах, носивший монокль, любивший картины Ренуара, липовый отвар и
"Войну и мир", и явственно проступает черный фон Кранаха, графическая
изнанка его пристрастий. В сны фон Кранаха вселяется некое существо (из
комментария следует, что это Дунаев -- главный герой медгерменевтического
романа "Мифогенная любовь каст") -- или, что более вероятно, сам фон Кранах
становится частью снов этого существа -- которое в дидактических целях,
чтобы отучить его от монокулярного зрения, наносит ему удар биноклем.
Впрочем, бинокулярное зрение рискует оказаться фатальным для немца: его
шансы стать "Я-с-новым", несмотря на данное ему берлинским начальством
разрешение на отдых в Альпах, невелики; отпуск вряд ли поможет ему
"отремонтировать" поврежденное "я".
Тексты Пепперштейна псевдонарративны, в них присутствует своеобразная
воля к незавершенности. Автор не подмигивает читателю из своей ниши, намекая
на то, чтобы они-де уже прошли вместе изрядный отрезок пути и скоро
благополучно придут к финишу. Пепперштейн заменяет креативную установку,
свойственную большинству пишущих, рекреативной: он превращает письмо в
отдых, соглашаясь принять его как поражение (не случайно сборник его стихов
называется: "Великое поражение и великий отдых"). Отсутствие сговора с
читателем заставляет предположить в авторе "Диеты старика" любителя (если
относить этот термин не к качеству литературы, а к установке литератора);
зато от его читателя требуется профессионализм. Паша легко переходит с прозы
на стихи, которые иногда походят на поэмы и занимают десятки страниц,
переходя в теоретические комментарии. Местами эти стихи воспринимаются как
водные преграды, преодоление которых требует обладания подводными крыльями;
в противном случае читатель рискует сразу пойти на дно. Единство книге
придают не нарративные тексты, а комментарии, написанные в основном в
последние годы. Эти "тексты дискурса" категорически не рекомендуется
пропускать: именно в них сконцентрированы самые неожиданные
интерпретационные возможности. Иногда дешифровка на первый взгляд прозрачных
нарративов оказывается крайне сложной и многозначной. Интерпретация здесь --
не менее важный акт, чем написание интерпретируемого текста. В комментариях
все чаще встречаются имена Пруста, Набокова, Кафки, Борхеса, Юнга, Фрейда,
Хайдеггера, переориентирующие ранее написанные тексты на более широкое
культурное пространство, чем то, в котором московский концептуализм
функционировал первоначально. Думаю, что публикация "Диеты старика" бросает
ретроспективный свет на речевую и инсталляционную практику Медгерменевтики,
одним из основателей которой был Пепперштейн. Эти тексты также "не создают
отношений", как и медгерменевтические, через них читатель должен поставить
диагноз самому себе. С графическими же листами их роднит то, что они
подписаны именем собственным и отчасти восстанавливают фигуру авторства.
В фильме П. Гринуэя "Контракт для рисовальщика" дочь хозяйки поместья
роняет в разговоре с художником-графиком любопытное замечание: "Если вы
действительно талантливы, акт рисования полностью поглощает вас, и вы по
определению не понимаете того, что значит видеть. Если же, рисуя, вы
умудряетесь еще и следить за смыслом того, что вы делаете, вы, во-первых,
лишены настоящего таланта, а во-вторых, опасны, так как можете не только
зарисовать, но и заметить нечто вас не касающееся". Смерть рисовальщика в
конце фильма доказывает, что это противопоставление не работает: художник
запечатлел и одновременно заметил знаки смерти другого человека (хозяина
поместья), но не смог расшифровать знаков собственной смерти. Он оказался
талантливым рисовальщиком и неплохим наблюдателем: подвели его непростые
отношения со здравым смыслом, который большинство людей несправедливо
отождествляют с умом. Своим творчеством Пепперштейн стремится избежать
дилеммы, сформулированной английской аристократкой, как это делали до него
Кабаков, Пивоваров, Монастырский и другие художники-литераторы. Линия
дискурса составляет часть его рисования, а рисование, в свою очередь,
вызывает к жизни все новые и новые дискурсивные формации. При всей
интенсивности взаимодействия эти две практики не пересекаются ни в одной
точке, хотя иногда, особенно в инсталляциях, кажется, что они соприкасаются
краями. В результате этой несводимой двойственности ограничиваются как
идеосинкратичность рисования, так и безмерность притязаний слова,
характерная для всего русскоязычного региона (как в досоветское, так и в
советское время). Другое следствие этой двойной игры -- принципиальная
неполнота каждой из задействованных практик, которую автор не только не
стремится скрыть, но и всячески подчеркивает, выдвигает на первый план. Им
отрицается сама возможность органического письма, неизбежными стигматами
которого являются психологизм и эдипизация. Детская литература прежде всего
интересует Пепперштейна в кэрролловском смысле: как литература нонсенса.
Вместо проникновения в жизнь эта литература, прикрываясь дидактическим
алиби, с неменьшим упорством проникает в смерть. В отличие от ценимого
большинством психологизма, нонсенс, сообщником которого является автор
"Диеты старика", при виде жизни постоянно закрывает глаза, стремясь
превратить ее в игру световых пятен за веками. Не случайно у Пруста за
радужной игрой переходящих друг в друга ассоциаций он обнаруживает два
физиологических акта: испражнение и онанизм. С метафорой Паша борется
потому, что все, включая дефекацию и мастурбацию, является метафоричным
изначально, до всякой профессиональной "накрутки". Люди видят сны уже внутри
сна. Поэтому записанный сон неизбежно фальсифицирует сон увиденный. Иногда
между ними возникают странные несостыковки.
В "Толковании сновидений" Фрейд приводит ясный, по его мнению, сон. Это
не собственный сон его пациентки, а рассказанный ей кем-то, т.е. вдвойне
беллетризованный сон (она "слыхала его на одной из лекций о сновидении";
"его истинный источник остался мне не известен"). Отец умершего ребенка,
смертельно устав, лег спать в соседней комнате, но оставил дверь открытой,
чтобы из спальни видеть тело покойника, окруженное зажженными свечами. Около
тела сидел старик и бормотал молитвы. "После нескольких часов сна отцу
приснилось, что ребенок подходит к его постели, берет его за руку и с
упреком ему говорит: Отец, разве ты не видишь, что я горю? Отец просыпается,
замечает яркий свет в соседней комнате, спешит туда и видит, что старик
уснул, а одежда и одна рука тела покойника успели уже обгореть от упавшей на
него зажженной свечи". Анонимный лектор дал этому сну очень простое
истолкование: на лицо спящего отца из соседней комнаты падал яркий свет, и
он вызвал у него мысль, какая возникла бы у него и в бодрственном состоянии
-- в комнате упала свеча и вспыхнул пожар. Возможно, он уже перед сном
подозревал, что старик "не может добросовестно выполнить свою миссию". Для
Фрейда это истолкование, конечно, слишком просто и рационалистично. Он
опровергает его своим обычным, "мягким"(ведь он -- ученый, врач) способом, а
именно дополняя его, снабжая разъяснениями и комментариями ("Мы тоже ничего
не можем изменить в этом толковании, -- разве только добавим..."). Следуют
добавления: содержание этого сновидения "сложно детерминировано", т.е.
далеко от простой физиологической реакции на свет в соседней комнате. Тут
явно замешан порядок речи и бессознательное: ребенок говорит не случайные
слова, а такие, которые были "действительно сказаны им при жизни и связанные
с важными для отца переживаниями. Его жалоба: я горю, -- связана с
лихорадкой, от которой он умер, -- а слова: отец, разве ты не видишь?.. -- с
каким-то нам неизвестным, но богатым аффектами эпизодом". Итак, неизвестное
начинает наполняться аффектами, как бы становясь немного менее неизвестным.
Хотя о природе аффектов мы ничего не узнаем, важно уже то, что они есть.
Фрейд идет дальше и замечает, что в этом сновидении вызывает удивление
то, что оно могло возникнуть "в условиях, требующих, казалось бы, быстрого
пробуждения". Но и здесь можно обнаружить осуществление желания, делающее
сновидение "вполне осмысленным явлением". В чем состоит это желание? Мертвый
ребенок, отвечает Фрейд, ведет себя здесь как живой, он подходит к постели
отца, говорит с ним и берет его за руку, повторяя содержание какого-то
неизвестного воспоминания, "из которого сновидение извлекло первую часть
речи ребенка" ("Отец, разве ты не видишь..."). Отец бессознательно хочет
видеть ребенка живым и, чтобы осуществить это желание, на мгновение
продлевает сон. Он смотрит сон как фильм, в котором его ребенок, по словам
Фрейда, "показан живым". В реальности же, отождествляемой с "бодрственным
мышлением", он непоправимо мертв; поэтому возвращение к ней так травматично
для отца. Заключительная ремарка Фрейда звучит так: "Если бы отец сразу
проснулся и у него появилась мысль, которая привела его в соседнюю комнату,
то он как бы укоротил жизнь ребенка на это мгновение"4.
Все аргументы лектора остаются в силе, но вносимые усложнения
отодвигают их на задний план; они становятся фоновыми для гипотетической
существенности вторичных процессов. Продолжая видеть сон, отец на мгновение
фразы ребенка -- "Отец, разве ты не видишь,, что я горю?" -- продлил ему
жизнь. Но почему только на миг? Сколько длится во сне фраза ребенка? Сколько
фраз было забыто, вытеснено и т.д.? Как вообще увиденное становится фразой?
Фрейд, как и другие великие пророки, оставляет нас наедине с этими
вопросами, побуждая вторгнуться в неизвестное со своими интерпретациями,
дополняющими его собственные, которые, в свою очередь, всего лишь дополняют
"правильное в целом" толкование лектора.
Жак Лакан в "Четырех основных понятиях психоанализа" возвращается к
истолкованию этого сна. Он уже не дополняет, а отвергает теорию лектора,
согласно которой спящий отец пробуждается оттого, что внешнее раздражение
становится слишком сильным, а до этого он лишь реагирует на то же самое, но
более слабое раздражение с помощью образов сна. Нет, утверждает Лакан,
логика пробуждения не связана с силой внешнего раздражения; она
принципиально иная. Сначала спящий действительно защищается от реальности,
от пробуждения в ней. Но потом Реальное, понимаемое как реальность желания,
начинает видеться чем-то куда более ужасным, чем реальность, и именно
поэтому отец просыпается. Он убегает в так называемую внешнюю реальность,
чтобы продолжать спать, оставаясь слепым по отношению к Реальному желания --
действительно невыносимо именно оно. Заключительная формула звучит так:
"Реальность -- это фантастическая конструкция, которая дает возможность
замаскировать Реальное нашего желания"5.
Как видим, от интерпретации лектора не остается ничего, но и
истолкование самого Фрейда переосмысливается настолько радикально, что
становится даже не вторичным, а третичным. Отец просыпается не оттого, что
уже не может продлевать во сне жизнь своего сына, но от того, что не может
вынести Реальное собственного желания, заключенное в упреке сына "Разве ты
не видишь, что я горю?" Пробуждаясь, он совершает акт эскейпизма, перебегая
в ужасную, но выносимую реальность, где спящий старик уронил свечу и его
покойный сын обгорает. Пожар можно потушить, старика разбудить, но ответить
на упрек сына нельзя, потому что его устами говорит бессознательное самого
отца; тому просто некуда от него бежать кроме реальности. Во сне отца, по
Лакану, вообще нет сына, а есть желание отца. Это меняет статус реальности.
У Фрейда он еще довольно высок, хотя несравненно ниже, чем у анонимного
лектора. Французский аналитик играет на понижение: мертвый мальчик в
соседней комнате все же более выносим, нежели "живое" Реальное сна,
принявшее форму упрекающего мальчика.
Славой Жижек распространил выявленный Лаканом механизм на идеологию
вообще. Это вовсе не мир грез, куда можно скрыться от якобы невыносимой
реальности. Она обеспечивает не бегство от реальности, а представляет саму
эту реальность как бегство от Реального. "Идеология, -- звучит формула
Жижека, обобщающая анализ сна о горящем мальчике, -- это иллюзия,
необходимая для того, чтобы бежать от Реального нашего желания" 6..
Вот как далеко завел нас этот короткий сон. А между тем мы даже не
знаем и никогда не узнаем, кому же он, собственно говоря, приснился.
Сновидец безвозвратно потерян уже для Фрейда. Возможно, кто-то рассказал его
лектору, но тот мог сам сочинить его в дидактических целях. Не исключено,
что пациентка Фрейда придумала его для того, чтобы намекнуть на какой-то
нюанс в их личных отношениях, например, на то, что ее лечение не
продвигается так быстро, как ей бы того хотелось, или что она испытывает к
нему тайное влечение. (Тогда фраза: "Отец, разве ты не видишь, что я горю"
-- естественно, приобретает иной смысл.) А что, если бы мы узнали, что
приснилось старику, нанятому читать молитвы по покойному, но не выдержавшему
ночного бдения? Число гипотез умножаемо бесконечно. Возможно, мы так много
знаем об этом сне именно потому, что мы не знаем и не узнаем, чей это сон,
кому он приснился. В результате он является как бы собственностью
интерпретаторов: лектора, пациентки (о ее истолковании мы, правда, ничего не
знаем), Фрейда, Лакана, Жижека и многих других. Их концепции так
захватывающи, что никто, как мальчик в сказке Андерсена, уже не решается
"наивно"спросить: а был ли сам сон? Или он кому-то приснился?
Предлагаемый Пепперштейном выход из этой ситуации состоит в уподоблении
сна тексту. Оба одинаково психоделичны и в равной мере воспроизводят
пустоту. Он вспоминает, как в детстве научился засыпать под "Колымские
рассказы" Шаламова, которые читались по Би-би-си после передачи "Глядя из
Лондона". Они действовали как транквилизатор, хотя -- или именно потому что?
-- их содержание было ужасным. Думаю, это происходило не потому, что
литература-де разрывает связи с реальностью, преображая ужасное в такой же
райский дискурс, как и дискурс о райском, а потому, что в сердцевине самой
реальности лежит радикальное зияние или нехватка. Жизнь не выдерживает этой
нехватки и крошится, стремясь заполнить ее своими выделениями. Паша приводит
интересное место из книги Теренса Маккенны "Истые галлюцинации":
совокупляясь со своей девушкой под грибами, автор в момент оргазма кричит:
"За Владимира!", имея в виду Владимира Набокова. По мнению наркотизованного
здравого смысла, писатель не сумел взять от жизни что-то исключительно
существенное, и он, Маккенна, делает это за него, восполняя, как ему
кажется, то главное, чего недоставало сочинителю "Лолиты". На самом деле
отдаваемого/ возвращаемого здесь недостает не Набокову, а литературе, и
русскому писателю по ошибке благородно возвращают то, что тот и так никогда
не терял. Именно нехватка, зияние на месте того, что в момент оргазма
испытывает, как ему кажется, за писателя псиллоцибиновый гигант, и
составляет притягательность набоковских текстов.
Внутрилитературные сновидения отличаются от дидактических. Я не могу до
конца поверить ни одному рассказу о сновидении, претендующему на научный
статус. Очень интересные сновидения наводят на мысль, что их автор, тот же
Фрейд, -- человек литературно одаренный, хотя до настоящего одиночества ему
еще далеко. Текст окончателен в силу того, что вымышлен до конца, а
рассказанный сон всегда приблизителен, так как, претендуя соответствовать
увиденному сну, он снимает радикальную проблематичность связи
увиденное/записанное. Текст же автономен от порядка видимого, поскольку его
видимое полностью расположено внутри него самого; он перестал заигрывать с
реальностью и полностью черешел на сторону Реального, если пользоваться
языком Лакана. Именно неполная текстуальность "Толкования сновидений"
вызывает к жизни научные притязания его автора. Пашина же способность
сочинять сны полностью лежит в области литературы и не нуждается в
авторитете внешней аналитической инстанции.
Сложной представляется и связь литературы с психоделикой. Многие виды
психоделического опыта настолько интенсивны, что записанным оказывается
нечто иное. Возможно, именно художественная стерильность (вспомним хотя бы
"Искусственный Рай" Бодлера7) основных видов галлюциноза заставляет
испытавших их видеть в этом опыте нечто особенно ценное. Подозрительна сама
беспрецедентность такого опыта на фоне исключительно высокой степени его
повторяемости: хотя переживающие эти состояния люди часто представляются
себе поэтами в высочайшей мере, в этом опыте отсутствует как раз элемент
сделанности, поэзиса. Как можно видеть из рассказа "Грибы", галлюциноз
строится по спортивному сценарию: все определяется тем, кто может лучше
выдерживать напор деперсона-лизующих сил. Я бы назвал такой опыт, на выбор,
или буддизмом спортсменов, или попсовым вариантом просветления. Конечно,
идея литературы в таблетках, прописанная Владимиром Сорокиным в пьесе
"Dostoevsky-trip"8 интересна не только своей буквальностью, но тем, что
препараты потребляются коллективно и разыгрываются по определенному
беллетризованному сценарию. Вообще галлюциноз коммунальных тел отличается
тем, что в условиях распада насильственного коллективизма он легко
отождествляется с нормой. Возникшая эйфория запросто принимается за
"аутентичную" форму существования таких тел, за новую форму социальности и
т.д.. Непонятно, впрочем, и то, к какой норме можно пробудиться из этих
состояний. В "Dostoevsky-trip" также остается неясным, отчего погибает в
конце пьесы группа сторонников поглощения литературы в таблетках: виноват ли
в таком финале еще не опробованный наркотик под названием "Достоевский", или
сыграло роль то банальное обстоятельство, что группе просто некуда
возвращаться, потому что отношение ее участников к `смерти опосредовано не
Богом, а веществом. Пепперштейн избегает такого буквализма: рецептов
потенциального у него так много, что читателю предлагается на выбор любой.
Центральным в "Диете старика" является раздел о еде, где речь идет о молоке,
ватрушечке, супах, горячем, колобке, грибах и т.д. Интересно, что все эти
продукты, кроме галлюциногенных грибов, не съедаются. Съедаемые же грибы
относятся к нетелесному порядку: их поглощение не только не насыщает тело,
но и угрожает растворить ядро личности. Отвергая остальную пищу, персонаж
"Грибов" всеми силами старается не допустить собственной дематериализации,
вступая с грибами в единоборство внутри литературы и в каком-то смысле за
литературу. Не случайно он опирается при этом на китчевую икону Божьей
Матери, кладущую предел стерильной деперсонификации. Ведь само по себе
"грибное сияние" расшифровке и переводу в форму литературы не поддается.
Впрочем, крайний дискомфорт, как выяснилось потом, оказался путем к высшему
комфорту ( утренний эпизод блаженного слияния с природой). Акт поедания
отсутствует не только в текстах, но и в снах Пепперштейна: там сколько
угодно секса, подъемов, падений и неожиданных встреч, часто со свежими,
только что синтезированными сном существами, но что-либо съесть во сне
оказывается невозможным. Только в этом плане, собственно, сон и подобен
тексту, в остальном различия преобладают. Вообще "галлюциноз" у Пепперштейна
является собирательным термином для самых разных состояний, связанных как со
сном, так и с бодрствованием. Раньше нечто подобное именовалось грезой. У
писателя нет рецепта грезы, тем более ее химической формулы. Стало быть,
литература не может быть продуктом какого-то вещества, хотя постоянное
заклинающее повторение определенных слов -- "онейроид", "кайф", "галлюциноз"
-- наводит на ложный след, заставляя предположить, что литературу, в отличие
от пищи, можно потреблять в таблетках или в каком-либо другом виде.
Несколько раз описывается даже специальный браслет, в который вставлены
капсулы с веществами, вызывающими у героев строго определенные состояния по
прейскуранту. Но на самом деле так блаженствовать способны лишь
профессионалы страдания, преследуемые фобиями в сопровождении целой свиты
прихотливых "приколов". Уже герои первого рассказа кажутся сверхживыми,
потому что это -- мертвецы, и каждое из этих "веселых пухлых существ" готово
в любой момент превратиться в "фонтан скорби". Под прикрытием галлюциноза на
поверхность и позднее выгоняются интенсивные потоки смысла. Beщи и люди
выводятся наверх вместе со своими принадлежащими загробному миру двойниками.
Конечно, на них можно смотреть и с точки зрения жизни, но она всегда
подчинена взгляду из иного мира, составляющему "правильную" перспективу.
Только загробность придает людям и вещам приписываемый смысл.
Пепперштейн эволюционирует от приватной мифологии детства через ее
"эйдетизацию" в работах медгерменевтики к работе с продуктами массовой
культуры, со стереотипами как местного, так и западного сознания. Несмотря
на неизменную рекреативную установку, его захватывает процесс
профессионализации в его основных -- галлюциногенной, компьютерной
(обсуждение "Бинокля и Монокля") и интеллектуальной (сочинение "текстов
дискурса") -- ипостасях. Последние по времени нарративы не только
концептуальны, но и занимательны. Это увлекательное чтение, удачно
обрамливаемое многослойными комментариями. У Пепперштейна появляется свой
стиль; и если обычный писатель рассматривал бы его появление как завоевание,
то автор, чье любительство принципиально, писатель, продолжающий
ориентироваться на рекреацию (отдых, otium), а не на креацию (латинский
перевод греческого поэзиса), возможно, видит в этом приобретении нечто более
двусмысленное. Уже медгерменевтическая практика превращала впечатления
детства в эйдосы, лишая их элементов становления. Теперь же мы нуждаемся в
особом метауровне для того,чтобы выделить в текстах то, что еще противится
занимательности и возможности быть поглощенным читателем. Сложность
структуры "Диеты" определяется и тем, что в ней с самого начала встречаются
позднейшие вкрапления, дописывания и переписывания, внесенные иногда через
10-12 лет после написания первоначальных текстов. И хотя райское сознание
собственной неизменности не покидает автора, оно не мешает ему изменяться.
Это видно по тому, с помощью каких приемов им создается в тот или иной
момент впечатление вечности. Его герои перестают пахнуть фиалкой, они уже
подобно статуям не "источают слезы" и не летают над адом на бутерброде,
прикрывшись ломтиком молочно-розовой колбасы. Анатомически эти существа
становятся все более достоверными, обрастают физиологическими признаками и
все новыми предметами туалета. Сам автор понимает взросление как репетицию
смерти. "Сейчас, через много лет, лишь редактируя свои пубертатные
откровения, когда неумолимое половое созревание выталкивает нас за границу
детства, мы многое понимаем. В том числе и то, что нас так же бесцеремонно
вытолкнут из жизни". То, что мы называем "Большой Смертью", лишь завершает
процесс постоянного медленного умирания, приметы которого рутинны и в
основном настолько банальны, что с ними никому даже не приходит в голову
бороться. Книга не случайно называется "Диета старика". Ее автор, едва
перешагнувший тридцатилетний рубеж, является ветераном письма, рисования,
инсталлирования, комментирования. Он понимает, что из детства ему надо,
минуя взрослость, выпасть -- или впасть? -- непосредственно в старчество (с
астрономическим числом прожитых лет)9. Но как совершить прыжок через
привычное взросление? Как избежать взросления не только автора, но и его
текстов? Как избежать наползания времени, медленного затягивания в историю (
как иногда говорят: "Ну, я попал в историю!")? Я не знаю, как это сделать.
За каждым остается святое право закрыть глаза, но изменить вектор протекания
времени, его, как выражался Гуссерль, "конститутивный стиль", неспособен,
кажется, никто. Не взрослеть фактически значит не обращать на взросление
внимания, занимаясь чем-то другим, например, что-то бесконечно обсуждая.
Впрочем, на всякого колобка довольно простоты, и хотя никого нельзя лишить
этого свойства, смысл обладания им подвержен, в свою очередь, закону
колобковости, т. е. закону изменения колобка.
Паша видит свою задачу в том, чтобы "создать памятник эйфории", а для
этого надо "не создавать отношений". Между тем большинство известных
интеллектуальных миров, как ему известно, во-первых, пронизано страданием, а
во-вторых, только и делает, что создает отношения, т.е. принимает во
внимание интересы некоего сообщества. Поэтому герой "Предателя Ада"
недолюбливает интеллектуалов и работает на военных и оборонно-промышленный
комплекс, так как только эти последние способны создать мир, освободившийся
от главного врага Койна, боли. Предаваемый им Ад синонимичен боли, агентами
которой являются, в частности, разного рода интеллектуалы, цепляющиеся за
свое право страдать. Если в "Бинокле и монокле" речь идет об обучении Запада
бинокулярному (фактически полиокулярному) зрению, понимаемому как
психоделическое и коллективное, в атмосфере "Предателя Ада" этот
коллективизм уже безнадежно архаичен и уступает место чему-то принципиально
иному: сверхсовременному оружию, замещающему боль невиданным наслаждением (
о том, что разрушение связки наслаждение / боль объясняется контекстом "сна
о больших голливудских деньгах", я уже упоминал выше). Спасение перестает
быть особым элитарным усилием, но групповой дискурс также подвергается
девальвации. Новая дилемма озвучивается так: либо все просто обречены на
спасение, либо ни у кого нет никакого шанса. Спасение в дискурсе сменяется
спасением во сне. Ликвидируются последние трещины в памятнике эйфории -- он
становится идеально гладким и одновременно безнадежно хрупким, потому что
сон о деньгах, придуманный для Голливуда, может в любой миг уступить место
низкобюджетному сну, герой которого обрекается на бесконечную боль, служащую
изнанкой наслаждения. Кроме того, в несновидческих, как им кажется, мирах,
находящихся во власти так называемой согласованной реальности, господствует
принципиально иная логика: множество таких миров, в настоящем причиняющих
своим обитателям -- при этом, что важно, причиняющих совершенно по-разному
-- интенсивную боль, в будущем претендуют на статус миров без боли. Впрочем,
не это ли упование выдает им ордер на причинение боли в бесконечно
продлеваемом настоящем? Любое обезболивание этих миров -- рискованное
предприятие, так как тогда боль уже нечем будет заклясть: ведь социальные
утопии и есть настойчивое заклинание боли. В основе замены утопии эйфорией
лежит определенная концепция вещи. Пепперштейн считает, что вещь -- это
несводимый остаток мысли, подлежащий спасению, содержащий в себе
нерастраченный потенциал наслаждения. Иногда эта вещь предстает ему в
качестве тела в состоянии перманентного галлюциноза. Текст, в свою очередь,
вынужден замещать тело, потому что это последнее "слишком кошмарно". Текст,
собственно, конституирует неданность тела, прежде всего тела его автора (это
обстоятельство маскирует имя автора, "обезболивающее" отсутствие его
тела)10. В тексте "Философствующая группа и музей философии" тщательно
описываются иногда довольно экзотические предметы, на которых выгравированы,
выбиты или каким-то другим способом записаны философские сентенции.
Содержание этих высказываний никак не связано с предметами, на которых они
записаны. Уровень предметов и уровень высказываний совершенно
самостоятельны: цель записи -- обеспечить каждому высказыванию собственную
уникальную плоскость, на которую оно наносится, и тем самым расцепить его с
другими высказываниями. Зачем производится расцепление, также ясно: это
делается для того, чтобы лишить философский дискурс изначально присущей ему
атональности, полемической заостренности одних высказываний против других.
Каждое высказывание хорошо, если записано на отдельной плоскости и не
претендует опровергать другие. Другие высказывания надо писать на других
плоскостях -- вот и все. Плоскость записи устроена так, что является
предметным эквивалентом высказывания, никак не связанным с его смыслом: в
противоположность иллюстрации, эквивалент успокаивает, "нирванизует"
философскую мысль, действует на нее как накопитель уже не диалектики, а
эйфории. Высказывания могут при случае меняться плоскостями записи -- от
этого их смысл не пострадает. Смысл выводится за пределы диалога. Если
традиционная философия определяется Пепперштейном как "опосредованное
традицией галлюцинирование в логосе", то задача поверхности записи, или
чистой предметности, -- удвоив этот галлюциноз, ликвидировать его. Но
проблема в том, как отделить предмет от субстанции, уже при рождении
сделавшей его своим агентом. Предмет в философской традиции -- и это Паша
показывает на примере Хайдеггера -- это вовсе не испускающее сияние
сокровище, а произведение определенным образом ( в конечном счете
трансцендентально) сконструированной субъективности. Именно в силу того, что
философия как метафизика представляет собой опьянение основаниями, усилие,
связанное с поддержанием мира предметов в статусе предметов, а не чего-то
другого, она не допускает в мир никаких дополнительных видений, онероидов и
других экстатических состояний. Экстатично обоснование мира, а не он сам:
вне опьяненности основаниями есть только физика, пространственные развертки
вещей. В этом смысле "галлюцинирование в логосе", даже в его
"авангардистских" -- хайдегтеровском, дерридианском или делезовском --
вариантах, дело достаточно консервативное и чуждое любой трансгрессии, кроме
трансгрессии самой традиции. Сосредоточив эксперимент в области оснований,
делают следствия из оснований предсказуемыми, не допускают безумия
следствий. Между тем Пашу интересует прежде всего многокрасочное безумие
самих следствий. Именно его он хочет лишить атональности. Скажем, Хайдеггер
постоянно работал со [сказанным-] несказанным, но [сказанным-] несказанным
не любых, а определенных древнегреческих текстов. Качество невысказанное,
естественно, также определялось традицией. Он "пытал" тексты исключительно
мягко, по определенным правилам, создавая подмеченное Пашей впечатление, что
они "сознаются" сами, без какого-либо насилия с его стороны. Тело этого
погруженного в традицию философа как бы заключено в читаемых им текстах (и
"Башмаки" Ван Гога он читает как текст, и "лес во льду", и "лампу Мерике",
если оставаться в жанре философских багателей)11. Поэтому мы и не можем
выделить из этих текстов еще одно, лучащееся оригинальностью тело. Поэтому
"Башмаки" Ван Гога необходимо образуют пару, их нельзя представить как два
разрозненных башмака (полемика Хайдеггера с Мейером Шапиро на эту тему
саркастически проанализирована в книге Деррида "Истина в живописи"); поэтому
же "videtur" и "lucet" противостоят друг другу в немецком глаголе "scheint",
который значит и "светиться", и "казаться" и еще многое другое. Философия --
это агон понятий внутри слов, желание если не ликвидировать их
многозначность, то по крайней мере создать некую иерархию смыслов. Лампа
шваба -- Мерике наделяется атрибутом свечения в ущерб кажимости швабом --
Хайдеггером с постоянной отсылкой к еще одному, не упоминаемому в Пашином
тексте швабу, Гегелю12. В любом акте "окончательного" прояснения, конечно,
заключен элемент магии, точнее, поэзиса, подмеченный Пепперштейном.
Говорение из оснований обречено приводить в экстаз даже неискушенных
слушателей, которые через полчаса после экстаза немеют и не могут передать
услышанное (этот эффект отмечается у всех "говорящих" философов, будь то
Хайдеггер, Лакан, Витгенштейн или Мамардашвили). Почему лампе Мерике
обязательно нужно светиться? Почему оба ботинка Ван Гога нельзя надеть на
одну ногу? Отчего так важно знать, на чью именно ногу, художника или
крестьянки, они надевались? Для обычного шамана эти нюансы столь
незначительны. Почему же здесь они разбухают до космических размеров? Потому
что философия даже после смерти выполняет возложеннную на нее традицией
миссию отделения ложных претендентов от истинных, хотя истина уже давно не
увязывается с присутствием божественной инстанции и принимает профанную
форму ортодоксального говорения. В философии был, есть и будет несводимый
остаток социального, вызывающий у автора "Диеты старика" попеременно
отвращение, восхищение и скуку. Ведь его собственный проект состоит даже не
в ликвидации социальности, -- это непоправимо нарушило бы рекреатавную
установку, -- а в признании ее ликвидированной изначально. Пронизывающая эти
тексты утопия утверждает незначимость того, что объединяет людей, и
стремится к ликвидации человечества по самому мягкому сценарию: называть
пищевые продукты, не поедая их; любить тела настолько нежно и бескорыстно,
чтобы воспрепятствовать их размножению. Старик прекращает есть и скоро
замечает, что все в мире стало лучше; ну, а функция продолжения рода для
него в прошлом. В этих приватных галлюцинациях есть мудрость и именно
поэтому в них нет любви к мудрости, принимающей форму агона, спора, диалога
друзей: обладание даже самой хрупкой софией заставляет дистанцироваться от
философии. У Паши это дистанцирование принимает форму очаровывающего его
притяжения: и любовь к мудрости он замышляет ликвидировать, любя. Во всяком
случае, степень интеллектуальности его галлюцинирования постоянно
возрастает. То, что еще недавно в русскоязычном регионе представлялось
всеобъемлющей литературной средой, в которой проживались миллионы жизней,
теперь стремительно капитулирует не только перед компьютером и препаратами,
но и перед мыслями. Она быстро интеллектуализуется, компьютеризуется и
наркотизуется. В результате вчерашние изгои получают шанс -- или
подвергаются опасности, в зависимости от глубины их постижения, стать
модными авторами.
Десять лет тому назад С.Ануфриев, Ю.Лейдерман и П.Пепперштейн основали
группу "Медицинская Герменевтика". Паша определил ее как "высказывающуюся
пустоту". Первоначальная греза ее участников состояла в том, чтобы
отказаться от слов в пользу терминов, создать чистый язык терминов. Слова не
устраивали медгерменевтов тем, что, так как они были придуманы не ими, срок
их жизни был им также неподконтролен. ""Условия" прочих слов, которые не
являются терминами, расплывчаты, -- поясняет Паша. -- Поэтому время,
отпущенное им, кажется вечностью. Термин же определен, он рожден
искусственно, поэтому его время -- живое и ограниченное время несовершенного
создания". Время жизни обычного слова велико, и никто не в силах его
укоротить; возможно, ничто так не ограничивает демиургическую претензию
отдельных лиц, как слова. Прием медгерменевтики состоял в том, чтобы как
можно больше слов превратить в термины, тем самым взяв срок их жизни под
контроль. Если, скажем, колобку суждена долгая жизнь, то изобретенный термин
"колобко-вость" будет жить столько времени, сколько пожелают его
изобретатели. Члены группы придумывали целые пласты терминов, становясь
хозяевами собственного мира. Часто это были аппроприированные слова
обыденного языка ("ортодоксальная избушка", "площадки обогрева", "Белая
кошка"), а иногда в термины превращались имена собственные (принцип
"Ко-нашевич"). При этом теоретический дискурс, с одной стороны, снижался,
сближаясь с обычным словоупотреблением, а с другой -- беспредельно
расширялся: ведь теоретическим могло стать буквально все. Тем самым
завершалась и одновременно доводилась до абсурда советская картина мира,
строившаяся из фрагментов произвольно скомпонованной ортодоксальной речи.
Теоретизирование медгерменевтики развивалось на фоне энергетического упадка
советской идеологии и было своеобразной формой ее приватизации. Потом
случилось неожиданное: вакуум социальности так и не был заполнен, напротив,
катастрофически расширился, и то, что еще недавно так страстно обсуждалось в
узких кругах, стало расти повсеместно, как сорняк. Проблемой стало хоть
какое-то ограничение пустотностью стремительно набухающей пустоты. Контуры
новой ситуации прихотливы и постоянно меняются; в результате никто не знает,
как не быть имманентным ей. Герметичное становится читабельным,
трансгрессивное -- модным. Что такое московская концептуальная традиция hie
et nunc, в каком отношении стоит она к тому, что претендует быть актуальным,
неясно, видимо, не только мне. Особенно эта неясность дает о себе знать в
культуре, пока еще не выработавшей механизма музеификации и пытающейся
вместо этого поддерживать акции "настоящего момента" на неимоверно высоком
уровне. Эта попытка каждодневно проваливается и возобновляется, чтобы
провалиться и возобновиться снова.
Медгерменевтика постоянно изобретала термины, стремясь наводнить ими
мир, вызвать панику на бирже понятий; за инфляцией и крахом должно было
последовать небесное спокойствие, самодостаточность свежевы-печенного и с
тех пор постоянно заново выпекаемого космоса. Что отличает индивидуальное
творчество Пепперштейна от этой групповой стратегии? Почему одни тексты он
публикует под своим именем, а другие в качестве части треугольника "старших
инспекторов"? Ясно, что эти стратегии переплетаются довольно причудливым
способом: отчуждая значительные текстуальные массы в пользу группы, каждый
из ее участников получает преимущество, избавляясь от бремени имени
собственного, обеспечивая столь необходимую богам анонимность, выражающуюся
в умножении их имен. Возвращается ли Паша к имени собственному в "Диете
старика", на титульном листе которой остается только его имя-псевдоним? В
этих текстах нарушены многие принципы обычного авторства, но для нас не
является тайной, что эти нарушения ("инновации") только усиливают авторство
как безличный механизм, как инфраструктуру. В последнем смысле его, видимо,
не дано избежать никому: ведь для создания имени здесь не нужна даже
подпись. Паша черпает свое неавторство из достаточно глубокого источника --
его изначальной чуждости самому себе. Эта чуждость породняет его со всем
иным. Во всяком случае, такова логика его ответов Илье Кабакову в каталоге
их выставки "Игра в теннис". "Кабаков: Ты уже давно выставляешься за
границей, в "чужом месте". Что значит говорить "чужим" на "чужом" языке о
"чужих" проблемах? Или слово "чужие" здесь некорректно? -- Пеппершшейн: Есть
известные слова Кафки, адресованные его другу Максу Броду: "Как я могу иметь
нечто общее со своим народом, когда у меня нет ничего общего с самим собой?"
Я бы даже радикализировал это высказывание: мы настолько чужие самим себе,
что все остальное становится для нас родным". Заметим, что Кабаков
проницательно и аккуратно берет слово "чужой" в кавычки, дистанцируясь от
его прямого смысла, лишь зондируя почву, проверяя, что оно значит для Паши
как метафора. Чужое в кавычках оказывает для него родным, но уже без
кавычек, так велика утверждаемая им степень чуждости (опять-таки, что важно,
без кавычек) самому себе, зияние в сердцевине его "я". Именно высшая степень
чуждости себе переходит в эйфорию, в отличие от последовательно-депрессивной
ориентации текстов Кафки, предполагающей чисто негативное просветление
(сошлюсь на знаменитое кафковское высказывание: "Я пишу об ужасном, чтобы
умереть довольным", проанализированное в эссе Мориса Бланшо). Позиция Паши
проективна: он обретает право "жить довольным", помещая смерть в основание
своей личности и тем самым, как он полагает, лишая трансцендентную инстанцию
возможности что-либо предрешить в его судьбе. Таким образом он вступает с
миром в непосредственно-родственные отношения. Отвечая на другой вопрос
Кабакова, Пепперштейн возвращается к своему "пункту": "...мы настолько
"чужие" самим себе, что все остальное в мире (места, люди, вещи) кажутся
родней, толпой племянников, дедушек, кузин и внучат, по сравнению с этой
изначальной чуждостью, живущей в глубине нашего собственного "я""13. Можно
ли расшифровать этот ответ так: остается только радоваться, так как
депрессия (чуждость себе) настолько изначальна, что имеет своим необходимым
последствием эйфорию. Большое искупление невозможно, зато каждая вещь,
место, человек являются орудием малого искупления; вселяясь в них, мы
бесконечно развоплощаемся, что является доступным нам эквивалентом
благодати. Это отлично прописано в финальной "сцене с четырьмя мухоморами"
из рассказа "Грибы", где "свечение" (lucet, scheint), как в эстетике Гегеля
и в фундаментальной онтологии Хайдеггера, целиком собирается на полюсе
изначального галлюциногена (ведь мухоморы -- это "сома", древнеиндийский
гриб бессмертия), и получается неплохая (при этом совершенно
бессознательная) пародия на столь раздражающий автора "Диеты" "кроткий дух
серьезности". Хотя в строгом смысле и лампа Мерике -- своеобразный
культурный мухомор, сияние которого способно опьянять и излучать власть, не
довольствующуюся простой кажимостью (выходящую за пределы scheint в смысле
Эмиля Штайгера, т.e.videtur).
Книга Пепперштейна внешне производит барочное впечатление: множество
лепнины скрывает несущие конструкции, линия фасада прихотливо изломана
пристроенными позднее башенками, балкончиками, бельведерами, вес которых все
более непосилен для Гераклов и кариатид детства. Но это впечаление ложно,
если принять определение барокко Делезом как "последней попытки восстановить
классический разум, распределяя дивергенции по соответствующему количеству
возможных миров, отделенных друг от друга границами. Возникающая в одном и
том же мире дисгармония может быть чрезмерной, -- она разрешается в
аккордах, так как единственные нередуцируемые диссонансы находятся в
промежутках между разными мирами... Это воссоздание могло оказаться разве
что временным. Пришла эпоха необарокко -- дивергентные миры наводнили один и
тот же мир, несовозможности вторглись на одну и ту же сцену -- ту, где Секст
насилует и не насилует Лукрецию, где Цезарь переходит и не переходит через
Рубикон, а Фан [имеется в виду герой рассказа Борхеса, известного по-русски
в двух переводах -- "Сад расходящихся тропок" и "Сад, где ветвятся дорожки".
-- М.Р.] убивает, делается убитым и не убивает, и не делается убитым"14.
Понятно, что идеально барочными являются для Деле-за "несовозможные" миры
лейбницевских монад, а необарокко репрезентируется Борхесом и додекафонией.
Паша вносит в этот необарочный мир существенный элемент -- эйфорию, принцип
равного наслаждения каждым из его по определению поддельных сияний. Он хочет
быть писателем, не теряя статуса обычного сновидца (у него есть план издать
книгу своих "действительных" снов), графика, члена медгерменевтики и просто
частного человека (старый бодлеровский проект "жизни как искусства").
Написанные им "модные" тексты разлетаются под напором интерпретаций, рисунки
заговариваются, фигура речи наносится на "уникальную" и бесконечно
репродуцируемую плоскость15.
По возрасту Павел Пепперштейн мог бы быть моим сыном, но я -- и в этом
я, кажется, не одинок -- не могу представить себе его в этом качестве. В
чем-то он реализовал идеал выпадения из детства в глубокую старость, что на
поверхности выражается в странном, уникальном в моем опыте двоении. Прощаясь
с его книгой, я выразил бы этот парадокс самыми простыми словами: "До
свидания, внучек: ты -- мой дедушка".
Москва, 10-- 26 февраля 1998 года.
Примечания
1. Механизм функционирования одного из таких речевых психозов
(противопоставляемого неврозу "немецкой вины") разбирается на материале
пьесы В. Сорокина "Hochzeitsreise" в моем эссе "Борщ после устриц"("Место
печати", X, 1997, с.142--155).
2. В "Искусственном рае" Бодлер, имея в виду гашиш, связывает
невозможность рассказать о наркотической экстатике не просто с параличей
воли и с необычайной интенсивностью переживаемого опыта, делающей его
самодостаточным. Главную причину он видит в нарциссизме наслаждающейся своим
одиночеством личности, которая во всем видит лишь собственные отражения. Из
этого мира исключен любой, в том числе и поэтический труд, а вместе с ним,
как выражается поэт, "честные средства для достижения Неба".
Олдос Хаксли в "Дверях восприятия" пишет о своем опыте принятия
мескали-на как о научном эксперименте, но местами не может удержаться от
придания ему исключительно высокого статуса в порядке невербального.
Странным, но отнюдь не неожиданным приложением к его эмпиризму является
мистика. "Но человек, возвращающийся через Дверь в Стене, никогда не будет
точно таким, каким он туда вошел. Он будет... подготовлен для понимания
связи слов с вещами и систематических рассуждений с непостижимой Тайной,
которую они пытаются -- всегда тщетно -- ухватить".
Возможно, дело здесь не только в свойствах поэзии Бодлера и прозы
Хаксли, но и в том, чем гашиш отличается от мескалина. Опыт
галлюцинирования, видимо, также бесконечно дифференцирован и не подводим под
общий знаменатель.
3. Об этом в связи с философией Лейбница прекрасно написал Жиль Делез:
"Сущность монады в том, что у нее темная основа (или фон): она черпает все
именно из него, и ничто не приходит в нее извне и не выходит за ее пределы.
В этом смысле необходимость ссылаться на слишком уже современные
ситуации возникает лишь в тех случаях, если они способны разъяснить то, что
было уже барочным начинанием. Издавна наличествуют места, где то, на что
следует смотреть, находится внутри: келья, ризница, склеп, церковь, театр,
кабинет для чтения или с гравюрами. Таковы излюбленные места, создававшиеся
в эпоху барокко, его слава и мощь. И, прежде всего, в темной комнате имеется
лишь небольшое отверстие в потолке, через которое струится свет,
проецирующий полотно при помощи двух зеркал на очертания предметов, которых
не видно, так как второе зеркало должно быть наклонено сообразно положению
полотна. И затем -- стены украшаются трансформирующимися изображениями,
нарисованными небесами и всевозможными видами оптических иллюзий: в монаде
нет ни мебели, ни предметов, кроме создаваемых оптическими иллюзиями". (Ж.
Делез. Складка. Лейбниц и барокко, Москва, "Логос", 1998, с. 28.)
Пепперштейн также хотел бы создавать в качестве литературных объектов
монады, состоящие из самоотражений: в основе его писательской практики лежит
греза об освобождении вещей от субстанции. Став фоном Кранаха, фон Кранах
обретает свою сущность и теряет свое "я".
4. 3. Фрейд. Толкование сновидений, Ереван, 1991 (репринт издания 1913
года),
с. 363.
5. S. Zizek. The Sublime Object of Ideology. London-New York, Verso, p.
44--45.
6. Ibid., p.45.
7. В заключительном эссе "Искусственного рая" Бодлер противопоставляет
гашиш вину: "Вино делает добрым, общительным, гашиш влечет к уединению.
Вино, так сказать, трудолюбиво; гашиш, по существу, лентяй. К чему, в самом
деле, работать, пахать, писать, производить что бы то ни было, если можно
попасть в рай без всякого труда?.. Вино полезно, плодотворно. Гашиш
бесполезен и опасен". (Ш.Бодлер. Искусственный рай. Петербург, "XXI век",
1994, с. 181.)
8. В. Сорокин. Dostoevsky-trip (пьеса), Москва, Obscuri Viri, 1997.
9. Эта тема развивалась в инсталляции группы медгерменевтика "Труба,
или Аллея долголетия" и в беседе С. Ануфриева и П. Пепперштейна "Полет,
уход, исчезновение", давшей название одноименной выставке в Праге и Берлине.
"Речь идет, как видим, -- говорит Паша, -- об остановке рождений и смертей.
Туннель, уходящий в домашний уют потустороннего, как-то отрезает этих
застывших в долголетии стариков от этих "детей", застрявших в предрождении.
Все это моделирует своего рода "квазифедоровскую" ситуацию. Для стариков
близость к туннелю, параллельность ему является источником долголетия.
Туннель -- нечто освобождающее, освежающее. Это приводит нас к старинному
упованию на смерть, как на лекарство от болезней и, в конечном счете, от
смерти же (смертью смерть поправ...)". (Полет-Уход-Исчезновение, Московское
концептуальное искусство [каталог на русском и немецком языке.], Ostfildern,
Cantz Vferlag, 1995, р.284.)
10. Связь подписи со стремлением замаскировать, скрыть и вместе с тем
метафорически обнажить, выпятить тело автора, родство этих кажущихся
противоположностей разбирается в таких работах Жака Деррида, как "О
грамматологии", "Почтовая открытка", "La fausse Monnaie".
11. Кстати, для " Вещи и творения" Хайдеггера картина Ван Гога, можно
сказать, акцидентальна. Это текст об истоке и о том, "откуда пошел художник,
ставши тем, что он есть". А фактически о стыдливой первичности непотаенного
перед лицом сущего в его целом. И текст о лампе Мерике также не о лампе, а о
последствиях "сияния" для метафизики.
12. Хайдеггер напоминает Штайгеру, что прекрасное определяется в
эстетике Гегеля как чувственное свечение. Друг гегельянца Фишера, Мерике не
мог об этом не знать. Впрочем, и незнание определения Гегеля не освободило
бы его от участия в духе того, что делал Гегель, так как через него в то
время говорило нечто более значительное. "Но то, что прекрасно, блаженно
светит в нем самом" -- определяется как "гегелевская эстетика in mice". (М.
Хайдеггер. Работы и размышления разных лет, Москва. "Гнозис", 1993, с. 245.)
Любовь великих философов к власти/истине выражается в постоянно
возобновляемом сообщничестве с древней традицией, выражающемся в ее
решительном обновлении. В этом смысле они -- экраны, на которые проецируются
ожидания их образованных современников. Обращенность их речи столь же
фундаментальна, как и сама речь. Как только уши повернутся в другую сторону,
она исчезнет.
13. И. Кабаков, П. Пепперштейн. Игра в теннис. Pori, Porin Taidemuseo,
1996 (каталог на английском, финском и русском языках), р. 27; см. также
р.47. Интересен и самый последний вопрос, который Пепперштейн задает
Кабакову (пятый вопрос на шестнадцатом щите): "Известен старокитайский
художественный принцип "ворона на снегу" в Чаньской традиции. Ворона на
снегу рисуется столько раз, пока в сознании рисующего не остается "только
эта ворона " на "только этом снегу". Однако остается сам принцип " ворона на
снегу". Как устранить это противоречие?" Кабаков: "Противоречие в принципе
неустранимо. Мало того, в этом рассказе скрывается своеобразный парадокс.
"Ворона на снегу" -- уже готовый эстетический объект, эстетическое качество
уже гарантировано сюжетом. Но предполагается, что качество эстетического
улучшится, если произойдет "вчувствование" в изображение того и другого
(вороны и снега. -- М.Р.). Парадокс в том, что, возможно, "качество"
нарисованности вороны и снега улучшится, но само эстетическое переживание
сюжета не станет от этого сильнее". (Ibid., р.48--49.) Как вопрос, так ответ
здесь настолько интересны, что о многом говорят даже без комментария.
14. Д. Делез. Складка. Лейбниц и Барокко... с. 83.
15. См. также: С. Ануфриев, Ю. Лейдерман, П. Пепперштейн. На шести
книгах. Duesseldorf, Kunsthalle Duesseldorf, 1990 ( на русском и немецком
языках).
Кресты-пророки
Побежали по дороге,
Половина говения, тресни.
Редька с хреном убивается,
А яйцо с творогом
По двору катается.
(Костромской губернии, Нерехтского уезда.)
I
Кумирня мертвеца
-- Джим, вы видели когда-нибудь мою табакерку?
-- Неоднократно, сэр.
-- А случалось ли вам видеть, чтобы я нюхал табак?
-- Никогда, сэр.
-- В табакерке нет табака, Джим. В ней находится
отличный кусок сыра.
Р. Л. Стивенсон. "Остров сокровищ "
1
Он плакал. Сидящий рядом старичок постоянно шуршал газетой.
Старичок смущенно отложил газету и посмотрел на рыдающего гостя. Старик
не знал, что предпринять. Предложить носовой платок? Спокойно закурить? Он
вынул из кармана платок и протянул его в сторону раскрытой двери, но уронил
и забыл поднять, тем более что платок упал не возле, а опустился на лапу
спящей собаки. Она не пошевелилась, так как была сделана из стекла. Когда-то
здесь жила собака Рой, но она умерла, и тогда хозяин дома заказал это
изваяние. С тех пор стеклянная копия Роя виднеется возле камина. Вечерами
хозяин этого дома сидел у камина и часто шутил:
-- Рой, принеси мне палку!
Ну, чего же ты не несешь, Рой? Ты же всегда был такой послушный. Она
там, в углу.
Рой, а почему сквозь тебя просвечивает, а? Что скажешь? Чего же ты
молчишь, а, Рой?
И старик сам же хохотал. Его громкий смех, вырывавшийся из него
пучками, резко бился в стеклянную дверь, к которой поднималась лестница с
железными перильцами. Стекло дрожало, и это будило Вольфа.
2
Вольф был такой аккуратный!
На рабочем столе Вольфа царствовал порядок. В левом углу лежало
несколько книг, обернутых в бумагу, а справа были разложены блестящие
металлические предметы: различного рода ножи, изогнутые лезвия,
спиралеобразные сверла.
Часто он стоял посреди комнаты: атлетически сложенный, но уже слегка
располневший, и вдумчиво протирал какую-либо из этих вещиц. Время от времени
он поднимал свое тяжелое лицо и бросал взгляд в зеркало. Его крупный, лысый
череп был густо посыпан веснушками, а за толстыми стеклами очков иной раз
блестели темные, печальные глаза.
А помнишь, Рой, как он ходил с тобой гулять?
Он тщательно одевался, выбирал галстук, одевал свежую рубашку, костюм,
собственноручно чистил свои ботинки. И затем выходил в темно-синем пальто. В
аллее парка он выпускал тебя, Рой. Он шел как будто задумавшись, не поднимая
головы, и только изредка взглядывал на какую-нибудь проходящую даму, и тогда
уж можно было ручаться, что она долго не забудет этого взгляда, наполненного
беспредельной печалью. Издали его глаза казались жгуче-черными, но на самом
деле они были сливового цвета, а смуглые веки были слегка вывернуты, так что
виднелась розовая подкладка, где ручейком протекала легкая слизистая
жидкость -- несостоявшиеся слезы, которые Вольф удалял иногда уголком
батистового платка.
От него неизменно пахло фиалкой. Флаконы из-под фиалкового одеколона он
затем промывал и заполнял какими-то жидкостями разных цветов -- это, видимо,
было связано с его работой. Надев специальные резиновые перчатки, Вольф
потом перемещал эти составы в замысловатые шприцы с тончайшими иглами.
Однажды дурочка Китти спросила его, что это такое и зачем это Вольф так
возится с этими бутылочками, и Вольф терпеливо (он всегда был очень
терпелив, разговаривая с детьми) объяснил, что это чрезвычайно едкие
кислоты, способные, если их ввести с помощью шприца в человеческое тело,
образовывать болезненные и долго не заживающие язвы. Тогда бедная Китти
стала просить, чтобы Вольф и ее уколол -- "Совсем чуть-чуть, пожалуйста,
Вольфик, я тебя так прошу!" -- умоляла она.
Даже тогда, Рой, мой сын не нагрубил ей и не выгнал ее из комнаты, как
это делал Ольберт, а со спокойной серьезностью выполнил ее просьбу и капнул
ей на руку немного вещества, отчего она с вибрирующим визгом скатилась вниз
по лестнице. Был полдень, и ты, Рой, как раз спал на ковре в гостиной (в том
самом месте, где лежишь сейчас, задумчиво глядя в огонь своими стеклянными
глазами). Ты громко залаял, а потом с лаем и повизгиванием стал отступать к
дверям, ведущим на веранду, когда орущий комок упал с лестницы и, опрокинув
вазу, исчез в темном коридоре. Крик, словно шаровая молния, выкатился с
другого конца дома и исчез в сплошном писке где-то в одном из
полуразвалившихся сараев.
3
Старик отложил газету и спокойно закурил. Легкий дымок поплыл по
комнате и растворился в открытой двери.
"Кто он?" -- думал старик, глядя на незнакомца, который уже не рыдал,
но прохаживался по гостиной, время от времени ударяя концом своей тросточки
по медному тазу. На его длинном бледном лице и крупных розовых веках еще
висели блестящие капли.
Сколько призраков посещает этот дом последнее время!
Вон Ольберт озабоченно проходит через столовую, которая видна сквозь
стеклянную дверь. Слышна его одышка, потом он появляется.
Смех, да и только! Но он стоит в дверях -- слюнявый обрюзгший конунг в
поеденном молью веночке из бесцветных волосков. Он, видимо, только что вылез
из ванной, на нем влажный зеленый халат. Большое мягкое лицо сохраняет
капризное, младенческое выражение. Маленькие губки он постоянно облизывает
и, как психопат, строит рожицы, словно собираясь брызнуть слезами и слюной в
неожиданной истерике. Таким он был и при жизни, Рой, точно таким. Да что я
тебе говорю, как будто ты его не знал. Это сейчас, будучи стеклянным, ты не
узнаешь малыша Оле, нашего бутуза. А то бы ты, как бывало, встретил его
радостным лаем. Впрочем, говорят, собаки не любят тех, кто умер.
Наконец два призрака заметили друг друга и начали сближаться. Один
пофыркивая и непрестанно облизываясь, другой роняя розоватые слезы.
"А, герцог, как ваше здоровье?"
Ну да, как я не узнал его сразу -- это же герцог, старый знакомый!
4
-- Ну же, Китти, не плачь, мы выдадим тебя замуж за герцога.
Китти глухо воет и клацает зубами, забравшись в старый покосившийся
шкаф.
-- Китти, что у тебя с рукой, а? Это Вольф тебе сделал? Покажи руку,
Китти.
Китти удается укусить меня. У нее резцы не хуже, чем у тебя, Рой. Рукав
моего пиджака распорот, как саблей, а под ним, от большого пальца до самого
локтя, наливается кровью шрам.
Мерзкая Китти специально точила молочные зубы пилочкой для ногтей. "Все
равно выпадут" -- таков был ее аргумент. У меня до сих пор на руках не
зажили некоторые шрамы, Рой, которые мне оставила на память малютка Китти.
Но я не теряю терпения:
-- Китти, покажи руку. Если ты будешь послушной, то выйдешь замуж за
герцога. Если же ты не будешь слушаться своего папочку, да еще станешь
мерзко кусаться, то тебе придется ловить мышей в доме у какого-нибудь
заплесневелого адвоката. Они ведь такие скупцы! В день ты будешь получать
лишь каплю молока и какую-нибудь завалявшуюся кость. А когда ты подохнешь, с
тебя сдерут шкурку и жена адвоката сделает себе воротник. Подумай о мучениях
в темном шкафу, где тебя медленно пожирает моль. Вылезай оттуда, Китти, а то
тебе придется окончить жизнь в таком же мерзопакостном шкафу, как этот.
Китти неохотно вылезает. Она вся в пыли, одну руку держит во рту и
сосет.
-- Перестань сосать руку, Китти!
-- Все равно мне не быть женою герцога.
-- Отчего же? Ты думаешь, герцог не захочет жениться на моей дочери?
Ошибочка!
-- Да, но я не хочу за герцога. Мне больше нравится директор театра.
-- Хорошо, я выдам тебя за директора театра, если ты только вынешь изо
рта свою руку и покажешь ее мне.
Китти показывает мне свою руку. В ней небольшая круглая дыра с
коричневыми, как будто обуглившимися краями.
-- Это Вольф тебе сделал?
-- Да, это сделал гнусный Вольфганг. Теперь мне придется постоянно
носить перчатку, скрывая стигмат.
-- Она сама попросила меня об этом, -- вымолвил Вольф. Он стоял посреди
двора, в своем синем пальто, широкоплечий, с отражениями закатного света в
толстых выпуклых стеклах очков. Он собирался ехать на работу. В руках он
держал черный портфель, где, аккуратно завернутые в бумагу, лежали различные
инструменты.
-- Ты опять едешь на работу, Вольф?
-- Да, еду.
Что за работа была у бедного Вольфа, Рой! Его могли вызвать в любое
время суток, и он немедленно собирался и ехал. Часто он приезжал глубокой
ночью или даже под утро, смертельно усталый. И почему он выбрал именно эту
профессию?
5
-- Милый Ольберт, я чувствую себя неважно, -- сказал герцог, заламывая
прозрачные пальцы. -- Я тоскую.
-- Ну-ну, ваше сиятельство, бодрее! Мы все порой тоскуем, а я так
просто гнию.
Старичок в кресле начинает волноваться.
-- Отвратительно! -- бормочет он. -- Оле позволяет себе. Я всегда рад
видеть малыша, но считаю: уж если ты призрак, то будь скромнее, наконец. Не
годится игриво намекать на судьбу тела. И так ясно, что оно где-то
распадается в укромном уголке. Но Ольберт остался таким, каким был всегда.
Его с детства прозвали Tweedledoom в честь одного из близнецов Зазеркалья.
Вообще-то людям искусства многое позволено.
-- Над чем вы сейчас работаете, милый Ольберт? -- спрашивает герцог,
удержав рыдания.
-- Я вернулся к работе над ранней вещицей. Называется "Черная белочка".
Я начал ее почти ребенком. Литература, в общем-то, это сплошной переходный
период. Сейчас, через много лет, лишь редактирую свои пубертатные
откровения. Когда неумолимое половое созревание выталкивает нас за границу
детства, мы многое понимаем. В том числе и то, что нас так же бесцеремонно
вытолкнут из жизни.
-- Было бы чудесно, если бы прочли нам эту "Белочку".
-- Хорошо. Можно сегодня вечером. Я приглашу кое-кого. С удовольствием
прочту вещицу. Однако сейчас и я и мои вещицы -- мы не нужны вам. Вы ищете
Китти. Она в саду. Гоняется за бабочками. Если ей попадется птичка -- она и
птичкой не побрезгует.
Ольберт с хохотом хлопнул герцога по спине, и они разошлись. Писатель,
шлепая разношенными тапочками, отдуваясь, стал подниматься по лестнице на
второй этаж. Герцог, приложив к глазам руку, неверными шагами направился в
сад. По дороге он задел плечом стеклянную дверь, и она со звоном ударилась
об стену. Старик снова был один в гостиной.
6
Казалось бы, Вольф мог выбрать любую профессию. Перед ним были открыты
все пути. Он был такой способный! Тихий, серьезный, задумчивый мальчик.
Почти постоянно (за исключением занятий спортом) сидел в своей комнате над
учебниками. Особенно увлекался химией. Малыш Оле со слезами жаловался, что
брат пренебрегает им, не говорит с ним ни слова. Обиженный Оле забирался в
кресло и в исступлении дергал ножками.
-- Успокойся, Ольберт, -- тихо говорил Вольф.
Я хорошо помню, как он стоял в дверях гостиной, в аккуратной школьной
униформе серого цвета, и говорил, опустив голову, медленно протирая медную
пуговицу на рукаве: "Успокойся, Ольберт".
Он был угрюм больше обычного и смотрел на беснующегося Ольберта
исподлобья своими темно-синими печальными глазами. Оле удалось успокоить
только обещанием, что Вольф возьмет его с собой к учителю химии. Вольф ходил
к своему учителю химии каждую среду, и они вместе ставили опыты.
Вольф очень неохотно взял Ольберта к учителю химии.
-- Ну, Оле, что было там, у учителя химии?
-- Ах, папочка, -- Ольберт слегка зажмуривает глаза и быстро
облизывается (кажется, что у него два языка). -- Это было забавно. Мы пришли
в гнусный квартал -- грязные дома, высокие как небеса. И везде лужи, лужи:
озера, омуты темной воды. Свобода, неравенство, братство. Каждый прохожий --
проходимец. И все жадно смотрят на малыша Оле. Нищие хватают его съедобные
ножки, предлагаяя благословить.
Оле жалобно пищит. Оле поджимает свои неокрепшие коготки. Оле цепляется
за ручку своего братца Вольфика-в-гольфиках.
Неужели эльф Вольф, чистый, как больничное стекло, привел маленького
брата в места смрада и нестабильности? О, мокрые помойки нестабильности!
И вот, милый папа, перед нами огромный дом. Вавилонская башня
устыдилась бы. Железные лестницы лепятся по стене. Решетчатые ступеньки
покрыты белым мхом и скользким калом птиц. Я испуган. Я отказываюсь
балансировать на ржавых прутьях на потеху шалопаям. Однако -- "успокойся,
Ольберт" -- имеется и внутренняя лестница. Но, Боже, как она прекрасна!
Ущербные казенные ступени. Миллионы, миллиарды ступеней. Почти полная
темнота. Редко мелькнет ангельское видение: оконце. А так продвигаемся на
ощупь, держась за слизистую стену. Грязь. Грязь. Гольфики
Вольфика плачевны. Мы идем полчаса, мы идем час. О трагическая судьба
Ольберта! Он измучен. Он больше не может идти. А что же новоявленный
Менделеев? Вольф задумался. Вольф ушел в себя. Вольфу не до слюнтяя
Ольберта. Вольф стремится выше и выше... -- лицо Оле искривляется, он готов
снова разрыдаться, его кулачки истерически сжались, но рассказ все еще
наполняет его, выскакивая на маленьких губках вместе с пузырьками слюны:
Мы тащимся уже два часа. Что же ожидает нас там, наверху? Какой
искусственный рай, созданный химическим вдохновением, послужит наградой за
столь удручающие муки? Мы входим в зоны оживления. Несколько пролетов
заполнены голосами, брызжет свет, на лестницу распахнуты двери каких-то
анфилад. И слышна музыка. Вот неожиданность -- здесь музицируют. Этажом выше
-- ряд комнат, романтически освещенных свечами. Видно, тут играют в
увеселительные и, может быть, запретные игры.
Вольф не оглядывается по сторонам. Он поднимается мимо. Его ждет сам
учитель химии. Однако Ольберт уже не в силах идти. Может быть, ему надо
остаться здесь? Углубиться в какую-нибудь из анфилад, найти теплый серый
уголок? Уткнуться туда навеки, между небом и землей? Одинокий крошечный
толстячок, затерявшийся в великой и угрюмой суете мира...
Ротик малыша снова жалобно дрожит. В глазах стоят слезы. Вот его лицо
сморщивается, как мяч, который сжали пальцами. Еще мгновение, и он
запрокидывает голову, полностью отдаваясь воплю. Он уже не обращается ко
мне, но к самому Богу, приглашая Его стать свидетелем загадочного и
трогательного события. Нечасто ведь приходится наблюдать превращение пухлого
веселого существа в фонтан скорби,
7
Теплый полдень, склоняющийся к сумеркам. Старичок прохаживается по
комнате. Прислушивается. Слышен дальний стук пишущей машинки. Это Ольберт в
своем кабинете работает над тельцем "Черной белочки".
-- Вот уж не думал, что литераторы продолжают так щедро порождать текст
после своей смерти, -- смеется старик. -- Надо полагать, когда выйдет
собрание его сочинений, оно будет состоять из двух томиков: творчество
прижизненное и творчество посмертное. Белый томик, черный томик. Белый
домик, черный домик.
Когда же скончался малыш Оле? И как он скончался?
Не припомню. Отравление? Или сердце? Наверное, сердце. Наверное, после
сытного обеда он схватился за сердце и прилег на красный ковер. Скорее
всего, он состроил капризное личико.
Постарел я. Не помню, как умер Ольберт. Забыл и то, как умерли Вольф и
Китти. Да и зачем вспоминать об этом -- их призраки окружают меня. Бедняжки
меня не видят, но зато я их вижу. Раньше-то я думал, что бывает наоборот. Но
не все можно угадать заранее. Да, не все. Не все.
Старичок попытался подобрать с ковра газету, но она окончательно
рассыпалась.
-- Пойду погуляю по саду, пока еще не стемнело, Рой, -- обращается он к
стеклянному изваянию. -- Я бы взял тебя с собой, да ведь ты уже не тот, что
прежде, правда ведь?
Старик вышел в сад, понюхал воздух, насыщенный ароматами. Вернулся за
панамой и палкой и неторопливо отправился в сладкое марево. На песке видны
следы герцога. Тонкие, полупрозрачные следы. Старик наклонился над ними,
вставив в глаз монокль в виде черной трубочки.
-- Любопытные создания -- призраки, -- бормочет он. -- Казалось бы,
бесплотны, но кое-как оставляют следы. Наверное, из последних сил.
Он идет дальше, задумчиво тряся головой. Из-за цветущих кустов
доносятся голоса. Прислушивается, направляется туда. На садовой скамейке, в
тени, сидят герцог и Китти. Китти быстро вращает солнечным зонтиком.
Прозрачные тени вышитых на зонтике пчел и жирных шмелей скользят по ее лицу,
как тени карусельных лошадок по земле. Герцог держит под мышкой Киттин
сачок.
-- Так называемая "прелестница", -- поясняет герцог, рассматривая
пойманную бабочку. -- Действительно, прелестный экземпляр. Эти прожилки
позволяют ей прибегать к очаровательным уловкам: например, притворяться
цветком. Или, если дело происходит осенью, таять среди многоцветной, опавшей
листвы.
-- Хорошо бы мне растаять среди опавшей листвы, -- замечает Китти. --
Да так, чтобы вы, герцог, никогда меня не нашли.
Китти скучает, она болтает над песком дорожки своими начищенными
ботиночками.
-- Вы будете бродить по осеннему саду и тщетно, в безумной тоске,
искать свою супругу, герцогиню. Вы будете звать меня, но отвечать вам будет
только завывание ветра и шорох сухой листвы.
Впечатлительный герцог приложил к глазам платок.
-- Что это за платок у вас?! -- вскрикивает Китти. -- Откуда у вас этот
платок?
-- Не знаю, -- рассеянно отвечает герцог. -- Кажется, я нашел его
сегодня у вас в гостиной. Он лежал на лапе Роя.
-- На лапе Роя? Что вы такое болтаете? Это же папочкин платок! Неужели
вы не помните, что только у бедного папочки были такие платки -- даже не
знаю, как определить их цвет: бело-радужные, что ли...
А вот и его герб -- капля, разбивающаяся о поверхность воды!
-- Да, это мой платок, -- говорю я (я уже давно стою прямо перед ними,
опираясь на палку). -- Я сегодня предложил его герцогу, чтобы он мог
промокнуть потоки слез, детка.
-- Ну же, отвечайте! -- требует Китти, возмущенно уставившись на
герцога. -- Где вы его взяли?
На мои разъяснения она не обращает никакого внимания. Она меня вообще
не видит. То же самое -- герцог. Он смотрит прямо на меня, словно его
интересуют пуговицы на моем жилете, но при этом явно не различает ни меня,
ни пуговиц. Он молчит.
-- Признайтесь, вы его украли, -- говорит Китти и вдруг исчезает. Она
сорвалась, увидев бабочку. Вот она уже мелькнула в конце аллеи. Сачок она
забыла, но он ей не особенно нужен. Герцог плачет. "Не расстраивайтесь,
герцог", -- говорю я. Но он не слышит моих слов. К тому же он вовсе не
расстроен, он любит плакать.
-- Опять источает слезы! -- кричит Китти, возвращаясь. -- Могу вам
сообщить, что вы самый скучный и сентиментальный феодал на свете. Директор
театра уже давно рассказал бы мне что-нибудь смешное.
О да, директор театра! Воспоминания о нем никогда нас не покинут.
8
Маленький, смуглый, с шоколадными глазами. В безупречно скроенном
костюме, с бутоном на лацкане пиджака. Он появлялся в нашей гостиной и
ослеплял всех своей несколько экзотической, белозубой улыбкой. Он дарил
Китти цветы. Конечно. Ведь Китти должна была выйти за него замуж, если
только она не отдала бы предпочтение герцогу.
А помнишь, Китти, как мы навестили директора в Главном Театре? У него
был огромный кабинет, отделанный дубом. Этот кабинет находился прямо над
знаменитым театральным органом -- когда внизу исполнялись гимны, все здесь
вибрировало. В стены кабинета были вставлены овальные портреты прославленных
актеров этого театра. Их лица выступали как бы из жемчужного тумана.
Директор рассказал нам немного про каждого.
-- Вот бледная дама в пернатом шлеме Афины. Это актриса А., одна из
звезд нашего театра. Она была замужем за коммерсантом А. Он был ревнив.
Между тем мадам А. влюбилась в некоего господина Домиана и каждый вечер
приезжала к нему в своем автомобиле, который снаружи был весь черный, а
изнутри огненно-красный. Г-н А., естественно, не знал об этих визитах: его
супруга заявляла, что она участвует в спиритических сеансах в доме своей
знакомой, графини де Д. Ревнивец А., конечно, следил за ней, но всякий раз
убеждался, что элегантный автомобиль его жены останавливается у подъезда
графини. Однако ему не было известно, что затем мадам А. выбиралась из дома
своей знакомой через черный ход и, разными тусклыми коридорчиками,
застекленными переходами, висящими над грязными дворами-колодцами, проходила
к дому господина Домиана. Однако, что еще удивительнее, не только г-н А. не
знал о визитах актрисы в дом г-на Домиана, но и сам г-н Домиан не подозревал
о них. Дело в том, что г-н Домиан был глубокий старик, разбитый параличом. К
тому же слепой и почти глухой. Когда-то, много лет назад, ему случилось
написать блестящую комедию под названием "Совушка, или Приключения господина
Дориана". Рукопись этой комедии попала сюда, в Главный Театр. Одно время ее
собирались поставить, но по какой-то причине из этого ничего не вышло.
Рукопись затерялась в пыльных залежах театральной библиотеки, где ей было
суждено прозябать в полном забвении до того дня, когда ее случайно нашла
актриса А. Именно искрящийся юмор и прекрасный слог этой комедии покорили ее
сердце. А. решила во что бы то ни стало разыскать автора этого произведения.
И, действительно, вскоре она нашла его в темной, тусклой комнате, где не
было ничего, кроме огромного полуразвалившегося буфета с вставленным в него
так называемым зеркалом -- в этом отвратительном куске никогда ничего не
отражалось. Сам Домиан сидел в кресле с металлическими колесами, совершенно
лысый, закутанный в плед, в черных слепцовских очках, покрытый пылью и
окруженный мухами.
Мадам А. стала наведываться в эту комнату и с помощью большой трубы
разговаривать со стариком. Неизвестно, что она нашептывала в эту трубу,
поднося ее к уху старика, из которого торчали пучки седых волосков. Однако
окостеневший хозяин комнаты постепенно стал проявлять признаки волнения. Он
полагал, что оглох давно и полностью, поэтому голос, доносящийся до него,
казался ему пришельцем из потустороннего мира. Голос сочился как бы из
бесконечной дали, пробиваясь сквозь туманы глухоты, и в нем не было ничего
человеческого. Казалось, что он приносит с собой райские ароматы -- бедный
слепец не догадывался, что это изысканные духи мадам А.
Однако продолжалось все это не слишком долго. Вскоре коммерсант А.,
измученный подозрениями, обнаружил, куда ходит его жена. На существование
ветхого старика он не обратил никакого внимания, но у паралитика был сын,
некий господин сомнительной репутации, сердцеед, кутила и авантюрист.
Коммерсант немедленно воссоздал картину его тайных встреч с мадам А. в доме
старика. Обуреваемый гневом и ревностью, он разузнал, что господин
Домиан-младший каждый вечер имеет обыкновение бывать в карточном клубе
"Равель", откуда выходит обычно около двенадцати.
И вот, в зимнюю мрачную ночь он ожидал его у здания клуба.
Первоначально он собирался лишь переговорить с господином Домианом-млад-шим,
но когда он увидел его огромную шубу на лисьем меху, наглое лицо с
огненно-черными глазами, закрученные усы и щегольскую бородку, последние
сомнения покинули его. Он бросился на картежника с ножом.
Однако Домиан-младший был ловок, молод и резв. Потасовка длилась
минуту, затем раздался выстрел. Раб ревности умер в снегу, под горькие звуки
"Болеро", у входа в дом, где собирались рабы другого жестокого бога --
азарта. Автомобиль унес убийцу во мрак, и беснующаяся вьюга задернула за ним
свой занавес.
Господин Домиан-младший в ту же ночь уехал заграницу. Мадам А., узнав о
гибели своего мужа, надела траур, прекратила выступать в театре и
затворилась в своем загородном особняке. Ее визиты в угрюмую полупустую
комнату Домиана-старшего прекратились. Старец напрасно ожидал новых
откровений из иного мира. За это время он привык к нежным ангельским
нашептываниям и теперь очень страдал от скуки, которая раньше была ему
неведома.
Так в томлении прошло несколько лет.
Однажды, светлым майским днем, в городе снова появился Домиан-младший.
Он сбрил свои холеные усики и бородку, но его черные глаза сверкали еще
ярче, чем прежде. Выйдя из-под сводов вокзала, он увидел свежую афишу:
"Звезда театрального мира мадам А. возвращается на сцену! Сегодня премьера
спектакля "Совушка, или Приключения господина Дориана" по пьесе Д. Домиана.
Мадам А. в главной роли". Домиан-младший прошел дальше, постукивая тростью.
В тот же день этого господина можно было видеть в мрачной комнате с давно
обвалившимся буфетом, где было огромное количество паутины. Он привез своему
отцу, Домиану-старшему, слуховую трубу с огромным раструбом, которую он
купил в одной древней почитаемой аптеке в Германии. "Как поживаете, отец?"
-- спросил джентльмен в трубу. Кстати, это уже вторая труба в нашей истории.
Эти две слуховые трубы -- своего рода близнецы. Отец пожаловался на скуку.
Домиан-младший, недолго раздумывая, отправился к своему давнему другу,
директору театра (вашему покорному слуге), и получил два билета в ложу на
премьеру спектакля " Совушка, или Приключения господина Дориана".
В тот же вечер он вкатил в роскошно украшенную ложу кресло на колесах,
в котором сидел господин Домиан-старший, автор пьесы. В руке До-миан-старший
держал слуховую трубу, прислонив ее к уху и направив в сторону сцены.
Поднялся занавес. Зал был полон. Мадам А. вышла на сцену, согласно сценарию,
в белом платье, увенчанная шлемом Афины. На острие шлема была укреплена
стеклянная статуэтка белой полярной совы. При первых звуках ее голоса (ее
монолог начинался словами "Как давно, как давно я не была в этом доме...")
лицо старика необычайно оживилось. Он затряс головой, серебристые волоски в
его ушах затрепетали. Он пробормотал: "Я узнаю, узнаю..." Через несколько
минут он произнес: "Да, это оно! Снова оно, то самое..."
Еще через минуту он громко воскликнул: "Мне пора!" Не знаю почему, но в
театре началась паника. Дамы, лорнировавшие старца, стали кричать "Умер,
умер!". Старик, действительно, умер. До сих пор не понимаю, что произошло с
публикой! Должно быть, слухи о надвигающейся войне довели ее до истерики.
В суматохе Домиан-младший вынул из петлицы красную розу и бросил ее
мадам А., причем его эбеновые глаза сверкнули. Через месяц звезда
театрального мира актриса А. вышла замуж за господина Домиана-младшего.
Свидетелем на их свадьбе был ваш покорный слуга (легкий полупоклон).
Китти в восторге.
-- Однако чем кончилась история этого брака? -- осведомляюсь я.
-- Она кончилась печально. Через год Домиан-младший уехал в Карл-сбад
лечиться от желудочной язвы, но вскоре после этого от него пришла телеграмма
из Парижа, в которой он сообщал, что женился на какой-то аристократке и они
намереваются отправиться в кругосветное путешествие. Узнав об этом, мадам А.
отравилась.
(Пауза.)
Надеюсь, что не слишком огорчил вас, мадемуазель?
-- Нет, директор, мне совсем не жаль вашу мадам А. На мой взгляд, люди
вообще не заслуживают сочувствия, если их имя не длиннее одной буквы. Ведь
это, согласитесь, пустышки, а не люди. А что стало с трубами?
-- Слуховые трубы старика, эти эбонитовые близнецы, находятся в
Театральном музее. Они вложены друг в друга и навеки скреплены медным
кольцом. Это должно, видимо, означать, что все чувства человека (в том числе
и слух) обретают после смерти самодостаточность. Обнявшись, как Тристан и
Изольда, трубы лежат в музейной витрине, и о них больше нечего рассказать.
Зато я могу кое-что поведать вот об этом джентльмене в костюме Гамлета, чей
портрет я вам покажу, если вы соблаговолите вылезти из-под стола.
(Китти забралась под письменный стол и роется в мусорной корзине.)
На овальной фотографии можно было разглядеть худого мужчину с
ярко-красными губами и черными ретушированными бровями, одна из которых
криво приподнималась. Его чрезвычайно близко посаженные глаза, казалось, с
язвительным изумлением разглядывали зрителя. Эти глазки напоминали две едкие
икринки, выпавшие на скатерть из серебряного блюда, доверху наполненного
осетровой икрой. Из блюда, увенчанного снегом и лимонами.
-- Это Массо, знаменитый актер, оригинал, любопытнейший тип. Из всех
анекдотов о нем расскажу поучительную историю его гибели.
Он был донжуан и забавник. Однажды в его мозгу, среди прочих проказ,
зародилась идея свести вместе всех его любовниц. Он рассчитывал, что
вспыхнет скандальчик или образуется какое другое "неловкое положение",
которое даст ему повод исподтишка повеселиться. Такие этюды этот остряк
называл в кругу друзей "массовками". И вот он назначил женщинам "интимное
свидание", но всем -- в одном и том же месте, в одно и то же время.
Приготовив завтрак для двух персон в комнате, украшенной непомерно огромными
букетами белых роз, Массо предвкушал забаву, коротая время за пасьянсом --
он любил гадать на картах. Не знаю, что он себе нагадал, но случилось так,
что одна из его любовниц (некая дебютантка Р.) пришла первой и застрелила
проказника. Она была уверена, что никто в мире не ведает о назначенном
свидании. Обеспечив себе надежное алиби, она решилась жестоко рассчитаться с
любовником за бесчисленные измены, за унижения, за несдержанное обещание
устроить ей роль в одном из модных спектаклей. Однако не успела незадачливая
дебютантка покинуть комнату, как туда вошла следующая гостья. В панике
актриса застрелила внезапную свидетельницу. Р. уже хотела выбежать из
комнаты, но столкнулась в дверях с третьей любовницей, которую постигла та
же участь. Одержимая желанием покинуть наконец место преступления,
дебютантка снова бросилась к выходу, но увидела еще двух входящих дам.
Должно быть, не без сдавленного вопля убила их. То же самое ей пришлось
сделать и с седьмой любовницей Массо. В то же мгновение появились двое
других, которых она уложила двумя выстрелами. Десятая девушка была красавица
с золотистыми локонами, но и ее не удалось пощадить. Одиннадцатая была
совсем молода, почти ребенок -- это не спасло ее. Выстрелы все не
прекращались, как будто работал какой-то шумный, устаревший механизм. Через
какое-то время полицейские, защищенные пуленепробиваемыми щитами, ворвались
в комнату с букетами белых роз. Они обнаружили там тела Массо и его
семнадцати любовниц, а также совершенно безумную дебютантку Р., которая
сидела на софе и, продолжая заряжать пистолет, с сумасшедшим смехом
расстреливала входную дверь. Ее обезоружили и прямо из окровавленной комнаты
отправили в сумасшедший дом. До сих пор она там и все не устает бредить о
забрызганных клетчатых рубашках, о том, что белые лепестки роз надо успеть
перекрасить в красный цвет до прихода Королевы. Не знаю отчего (может быть,
пасьянс и серебряные вазы на столе сыграли свою роль), ее бред связан с
содержанием "Алисы в Стране Чудес". Больная называет себя вымышленным именем
Элси, искажая имя Элис. Она озабочена тем, чтобы карты успели перекрасить
белые розы в красные, хотя Алиса и Дама Сердец кажутся ей одним и тем же
лицом. Кровожадность Дамы Сердец она оправдывает тем, что все валеты, дамы и
короли -- двухголовые. Отрубить одну из голов не означает убить, это всего
лишь "укорачивание". Она вообще называет людей "двухголовыми" и старается
смягчить свою вину, утверждая, что убитые ею девушки -- всего лишь чьи-то
двойники. Классическая шизофрения -- ничего оригинального. На игральных
каргах персонажи кажутся "по пояс погруженными в зеркало". Элси тоже
попросила сшить себе юбку из зеркальной ткани, чтобы походить на карту. Я
иногда навещаю ее, приношу сладкое.
Директор театра, закончив рассказ, задумчиво склонил набок свою
небольшую голову. В его глазах не было ни тени смеха. Уж если бы болтунишка
Ольберт взялся рассказывать подобные побасенки, то в конце непременно бы
пустил пузыри.
Однако Китти уже давно не слушает. Она нашла где-то пыльные зеленые
леденцы и теперь сидит на шкафу и сосет. Мы слышим легкий свист и
причмокивание, как будто за резным фронтоном шкафа змея заглатывает кролика.
Директор ничуть не обескуражен.
-- Должно быть, я наскучил сеньорите глупыми приключениями из нашей
бесцветной театральной жизни, -- замечает он с небольшим полупоклоном.
Без сомнения, Китти, ты стала бы супругой самого тактичного господина
на свете, но... Не сложилось.
Это был жаркий летний день. Мы обедали. Я, Ольберт, Китти, герцог и
Вольф. Солнце обильно просеивалось сквозь заросли плюща, обвивающего решетку
веранды. Вольф недавно вернулся с работы, где он провел почти всю ночь.
Видно, он очень устал, хотя вообще-то он вынослив. Он ел суп, низко наклоняя
над тарелкой свою тяжелую лысую, густо посыпанную коричневыми веснушками
голову. Вот он доедает остатки дымящегося супа, откладывает ложку, тщательно
протирает губы салфеткой. Его глаза за толстыми стеклами очков, как всегда,
полуприкрыты, словно он погружен в какую-то глубокую задумчивость.
-- Китти, я хочу поговорить с тобой, -- начинает он (низкий, медленный
голос). -- Видишь ли, сегодня я имел возможность беседовать с одним твоим
знакомым...
Китти вопросительно поднимает брови.
-- Он, кажется, был директором театра...
Киттины брови поднимаются еще выше.
-- Был? -- вмешивается тонкий голосок Ольберта. -- Его что, уволили?
Выдворили из театра?
Вольф морщится, медленно, задумчиво потирает лоб ладонью.
-- Дело в том... Мы работали вместе...
-- Вот как? -- снова встревает несносный Ольберт. -- Вы, должно быть,
решили вместе поставить спектакль, а?
Вольф не слушает. Он думает о чем-то, напряженно отыскивает слова.
-- Китти, ты понимаешь, его поручили мне...
Глаза Китти медленно расширяются. Глупый Ольберт, все еще фыркая,
перетаскивает себе на тарелку длинный рыбий хвост.
-- Он был замешан в каком-то деле, Китти. Я работал с ним сегодня все
утро. Он ушел... Совсем ушел. Как бы это тебе сказать? Ушел врассыпную.
Понимаешь?
Ольберт перестает чавкать и переводит круглые глаза с одного лица на
другое.
Вольф неторопливо, рассеянно лезет за пазуху, роется во внутреннем
кармане. Кажется, он думает о чем-то другом.
-- Да, вот это. -- Он вынимает небольшой сверток. -- Он сказал
(морщится), что всегда хотел предложить тебе свою руку и сердце. Таково было
его желание. Он попросил меня об этом.
Вольф медленно, осторожно разворачивает сверток -- несколько слоев
плотной, непромокаемой бумаги -- и вынимает какой-то предмет. Это рука.
Небольшая, смуглая, прекрасной формы, с изумрудом на пальце. Не может быть
никакого сомнения. Эта красивая, слегка изнеженная рука могла принадлежать
только одному человеку в мире -- директору театра.
-- Это тебе, Китти, -- говорит Вольф, протягивая ей через стол
отрезанную руку. Он держит ее, как держат за спинку маленького зверька. --
На, возьми, Китти.
Китти не двигается. Вольф некоторое время держит руку на весу, наивно
ожидая, что Китти примет дар. Не дождавшись, Вольф осторожно кладет руку
директора возле Киттиного прибора. Но Китти только неподвижно смотрит на
руку, которая держит руку. Рука в руке. Маленькая, мертвая, смуглая -- в
большой, живой, бледной.
Затем он достает свой портфель, роется в нем. Извлекает из бокового
отделения тяжелый, немного влажный мешочек из грубой материи.
-- Сердце. Он просил меня передать тебе руку и сердце. Вот они. Вольф
протягивает мешочек через стол и кладет его рядом с рукой. Но Китти уже
исчезла, оставив упавший стул, опрокинутый столик,
грохнувшую стеклянную дверь. И, конечно же, крик. В таких случаях без
крика, как правило, не обходится.
9
-- Ну же, Ольберт, ты не закончил свой рассказ о том, как вы с Вольфом
ходили к учителю химии. Дай я вытру тебе слюни, и продолжай.
Ольберт продолжает. После истерики его интонации становятся иными -- он
говорит быстро, без гримас. В его лице появляется нечто суховатое и
значительное, как у человека озабоченного.
-- Ну, нечего рассусоливать. Дорасскажу коротко. Я видел учителя химии.
Наше восхождение было ненапрасным. Это замечательный человек. Как описать
мудреца? Легенда гласит, что Конфуций, после единственной встречи с Лао Цзы,
произнес одну лишь фразу: "Я видел дракона". Я тоже видел дракона. Он
скромен, очень благожелателен, вежлив. Но... Какое ощущение оставила во мне
эта встреча? Знаешь ли, только горечь. Мне самому хотелось бы быть его
учеником, но я ведь ничего не смыслю в химии. Наука, ко всему прочему,
кажется мне страшной.
В этот раз учитель говорил о химии оплодотворения, о химии размножения
у животных и растений. Мне казалось, он все время говорит обо мне. О моей
душе. Я никогда прежде не слышал речи столь телепатически проницательной. Он
подробно охарактеризовал сперматозоид. Я узнал себя. Я чувствовал себя
Нарциссом, впервые заглянувшим в воды реки. Я не смог слушать дальше. Я
уснул.
-- Как же выглядит этот дракон?
-- Никак. Обычный старик. Можно сказать, у него и нет внешности, если
не считать тех атрибутов, которыми любой настоящий старик должен обладать:
он лыс, сед, у него длинная борода, морщины... В таких случаях принято
добавлять: "Но вот глаза! В глазах!.." Но и в глазах у него не было ничего,
кроме старческого здравомыслия. Не в глазах дело. Где мой белый спиральный
хвостик, которым я, как пружинкой, оттолкнулся бы от зеленых стен, покрытых
золотым и однообразным орнаментом?
Там, наверху, очень уютно. За бедной дощатой дверью, похожей на дверь
сарая, открылась нам зала со стеклянными потолками. Когда-то здесь было
ателье одного скульптора. Мы были словно в колоссальной теплице, к тому же
по стеклам струился дождь. Чаепитие за небольшим столиком. Кресла очень
мягкие. Кроме этих кресел, мебели нет. В дальнем углу -- обитый железом
химический стол, заставленный склянками. Они же, как армии перед битвой,
тесно стоят на полу, так что приходится передвигаться на цыпочках, чтобы не
раздавить колбы с эликсирами бессмертия. В толпе химической посуды взгляд
удивленно находит стеклянного кенгуру, крупные осколки вомбатов -- то, что
осталось от скульптора. После беседы Вольф и учитель встают и направляются к
железному химическому столу. Они идут неторопливо, осторожно пробираясь
между расставленными на полу колбами и ретортами. Учитель несколько раз с
улыбкой оглядывается, приглашая меня следовать за ними. Но я не в силах
подняться. Кресло мягкое, словно вязкая каша. Я слишком устал во время
нашего восхождения, уже не могу противиться сну. Но любопытство все же не
совсем потухло -- со своего места я пытаюсь разглядеть, что делают учитель и
Вольф. Однако комната, как я уже сказал, очень просторная, и в пасмурной
полутьме их почти не видно в дальнем углу. Только шелест дождя и отблеск
огня -- наверное, зажгли горелку -- и две тени, низко нагнувшиеся над
столом. Но я уже не могу всматриваться -- я сплю.
10
-- Все же я не могу понять этого, Вольф! Ты же способный
естествоиспытатель, ты так долго занимался химией... Нет, постой, не
перебивай меня, я знаю, что ты хочешь сказать -- что, занимаясь той
профессией, которую ты себе избрал, ты, в известном смысле, останешься
естествоиспытателем. Не спорю... Пойми меня правильно: ты с детства был так
серьезен, так вдумчив, вечерами ты всегда сидел над книгами в зеленоватом
свете своей настольной лампы. Иногда я украдкой подходил к двери твоей
комнаты и смотрел на тебя сквозь узорчатое стекло. Твой выпуклый лоб почти
соприкасался с раскаленным колпаком лампы, в стеклах очков плавали сияющие
пятна, и твои вывернутые веки казались опаленными ярким солнцем, твои
сильные плечи склонялись, как будто под гнетом знаний о мире -- тех, что
некогда ускользнули от меня.
Ты любил заниматься спортом, Вольф. Ты ходил на футбольное поле в
старом сосновом лесу, где я иногда поджидал тебя на рассохшейся скамейке,
предаваясь размышлениям среди хвои, тумана и комаров. Я рассеянно мечтал о
том (должно быть, только потому, что под рукой у меня не было других, более
увлекательных грез), как ты совершишь научное открытие и наше родовое имя
будет навеки связано с каким-нибудь еще неизвестным элементом, с
неизведанным типом реакции, с закономерностью. Неужели ты утратил
способность охватывать целое, и всякая вещь в твоем взгляде распадается сама
собой, крошась на частицы?
Разговор происходил вскоре после мрачного случая с рукой и сердцем.
Вольф, после некоторой паузы, ответил мне:
-- Отец, трудно объяснить то, что слишком уж нуждается в объяснениях.
По мне -- лучше бы промолчать. Дело мое не имеет ничего общего с по-.
знанием -- я отказался от познания и от науки. Возможно, я не заслужил их.
Или они не заслужили меня. Научное познание желает влиять на будущее, я же
предпочел простую сосредоточенность на том, что не имеет продолжения, -- на
безнадежном. Я всегда был слишком застенчив, мучительно застенчив, а из
застенчивости и мук рождается застенок, где мне и место. Порою говорят:
заплечных дел мастер. Я не считаю себя мастером. Я тень, которая немного
дает о себе знать. Изнанка, лишь слегка проступающая сквозь фасад.
-- Все это, Вольф, пустые слова, -- раздраженно прервал я его.
-- Хочу сказать только, что я не жестокий, -- угрюмо промолвил Вольф.
-- О нашей работе столько легенд. Они наивны. Редко мне приходится лишать
жизни или причинять боль. Меня вызывают внезапными звонками в течение дня и
ночи только потому, что мое присутствие успокаивает. В нашей стране, как и в
других странах, власть имущие более других заслуживают сострадания: человек
пятнадцать истерзанных стариков, похожих на растоптанные куски льда. Кто,
кроме меня, способен пожалеть их? Для них было бы лучше, чтобы с ними
расправились в одночасье. Но народа нет, есть публика. И она предпочитает
исподволь издеваться над ними, потерявшими остатки чувствительности. Чтобы
продлить издевательство, бразды правления не изымают из их сморщенных,
веснушчатых рук. И только я могу изредка отомстить за стариков -- расчленить
расчле-нителя, заговорить заговорщика.
-- Честно говоря, с недоумением слушаю тебя, сынок. Сколько живу,
никогда не думал о власть имущих. Мы -- вольный род, которому нет дела до
каких-то там правителей.
-- В нашем вольном роду, как я слышал, было немало извращенцев. Вам
было бы проще думать, что я садист. Ну что ж, думайте так. Хотя я вовсе не
садист, разве только понимать под этим словом бесконечную скуку и
бесконечную ответственность. Мне вот не могут простить, что я расчленил
директора театра. Но он был преступник. Все его анекдоты о подстроенных и в
то же время случайных убийствах, которые мы принимали за светскую мифологию,
на самом деле содержали в себе скрытое зерно -- в искаженной и пошлой форме
он щеголял перед нами своими собственными преступлениями. Свои злодеяния он
переодевал и раскрашивал, придавая им вид заведомо искусственный, вид
ярмарочных паяцев. И такой человек мог стать мужем Китти! Теперь о судьбе
девчонки можно не беспокоиться -- она будет женой герцога. Герцог живет,
руководствуясь правилом: "Все существующее смывается горькими слезами".
Слезы никогда не бывают неуместными, ведь мы обитаем в Юдоли Слез. Слезы --
я мог бы рассказать об их химическом составе...
-- В другой раз. Ума не приложу, как тебе вообще пришла в голову мысль
заняться таким ремеслом. Может быть, какие-нибудь книги на тебя повлияли?
-- Конечно, я изучил целый ряд книг. "Пытки и орудия пыток от древности
идо наших дней", "Техника наказания", "Психологические аспекты смертной
казни", "Медик и священник: последний час жизни осужденного перед казнью",
"Эволюция телесных наказаний в Китае", "Допрос и дознание", "Расстрел",
"Использование психотропных препаратов при допросе", "Гении пристрастного
допроса: традиции и индивидуальность", "Безболезненные пытки", "Казнь
унизительная и казнь возвышенная", "Зрелищные аспекты публичной казни",
"Огонь и вода как средства издевательства над телом и душой", "Железный
чулок", "Дневники палача-краснодеревщика", "Колодки", "Ужас и He-Ужас",
"Крест, Петля и Яма", "Электричество против лжи", "Детектор лжи и другие
Машины поиска истины", "Завтра меня не будет", "Гильотина", "Гильотина и
Революция", "Яды", "Этика пристрастия".
-- Неужели эти теоретические работы навели тебя на мысль о выборе
профессии?
-- Я ощутил свое призвание внезапно. Если помнишь, в школе, которую я
посещал, было принято танцевать народные танцы. Иногда нас возили в
отдаленные деревни, чтобы мы обучились древним танцам, еще сохранившимся в
этих уголках. Как-то раз нас повезли особенно далеко, в настоящую глушь.
Приехали в деревню. Это был день праздника, отмечаемого только в тех местах.
Люди, одетые в яркое, танцевали на зеленом лугу. Мы, дети, тоже были одеты в
фольклорные костюмы. Я всегда чувствовал себя неловко в этих пестрых
тужурках, обшитых бахромой, в сапожках с бубенцами. После танцев, когда все
присели к костру, мы с приятелем, усталые и удрученные шумом и непривычными
скрежещущими звуками музыки, отправились на прогулку, чтобы не участвовать в
разговоре и гаданиях. Гуляя, вышли на небольшой обрыв. По пути нарвали
орехов, но они оказались совсем незрелые. Вдруг внизу появились четыре
фигуры, стремительно бегущие в нашем направлении. Впереди бежал мужчина, его
настигали три женщины. Мужчина начал карабкаться на обрыв. Когда он уже
почти добрался до нас (мы стояли неподвижно, в своих нелепых ярких одеждах),
женщины настигли его. Это были три старухи, каждая сжимала в руке кнут. Они
стали беспощадно бичевать его. Он вертелся на земле, сворачиваясь и
прикрывая себя руками. Все они молчали, никто не издал ни звука -- только
свист кнутов. Наконец, одна из старух сделала жест рукой, означающий конец
наказания. Она подошла к лежащему в пыли человеку и произнесла единственное
слово: "Xu6of|". На малоизвестном наречии тех мест это означает "выкидыш", и
там это считается тяжелейшим оскорблением. Старухи ушли. Избитый с трудом
приподнялся. Он был одет как деревенский щеголь: черная шелковая рубашка,
кожаные штаны, на запястье золотая цепочка. Лицо у него было старое,
окровавленное. Свалявшиеся, седые волосы. С того места было далеко видно.
Где-то горели костры, и остатки хороводов еще кружились на лугах.
Потом мне рассказали, что много лет назад этого человека здесь считали
отравителем. Доказать его вину не удалось.
Тогда я понял, какому делу мне придется посвятить себя. Старая Эриния,
произносящая "ксюдонь", и резкий этнографический привкус этой сцены, черные
праздничные платья старух, богато расшитые черным бисером, -- все это было
случайностью, но из разряда тех случайностей, которые служат року.
-- Ну что ж, Вольф, ты, пожалуй, романтик. Ведь мы назвали тебя в честь
серого волка, подбирающегося к детской колыбели. Ну, не знаю, не знаю...
Лично я не выношу казней.
11
Стемнело. В гостиной мерцает только огонек сигары, которую хозяин дома
по обыкновению закуривает в сумерках. Наконец зажигается лампа -- оранжевый
торшер над глубоким креслом. Старичок недавно пробудился от бездонного
послеобеденного сна. Поискал газету, но не нашел. Странно. Внезапный резкий
звонок. Ага, это гости -- почитатели Ольбертова таланта. Стук, голоса,
кто-то рассмеялся. В одно мгновение вспыхивает десяток ламп. Ого! Смеясь,
они наполняют гостиную. Рассыпались по красному ковру, уселись на спинках
кресел. Некто, похожий на посетителей ипподромов, нервно расхаживает взад и
вперед со стаканом вермута, нетерпеливо пощелкивая пальцем по щеке. Здесь
даже министр изящной словесности -- длинноволосый, неподвижный, в сером
грубом пончо. За ним скромно согнулся человек атлетического сложения, он,
как всегда, не знает, куда деть свои сильные обмороженные руки. Это старый
друг семьи -- скульптор, работающий по стеклу. А публика все прибывает! Наш
старичок уже давно покинул свое место в большом кресле, уступив его двум
девушкам, болезненно одетым во все белое, вязаное на спицах. Потом незаметно
появилась еще одна такая же девушка. Эти девушки -- тройняшки. Личики у них
бледные и почти совсем одинаковые, только кулончики на белых шейках содержат
в себе искры различных оттенков. Оседлан даже стеклянный Рой -- на нем
расположился посол Японии. Старика, как водится, никто не замечает. Наконец
появляется Ольберт. Он в новой кофте с кармашками -- вокруг жирной талии
бегут полярные олени, над их головами вышито северное сияние. Под руку с
герцогом спускается по лестнице. Все в сборе? Отсутствуют Китти и Вольф.
Китти, заплаканная, спит в своей комнате -- ей не разрешили присутствовать
на чтении по причине позднего часа. Вольф предпочитает одиночество.
Вот Ольберту подносят теплое молоко с инжиром (он якобы простужен).
Наконец, он вынимает какие-то мятые бумажки, разглаживает их, надевает очки,
обводит присутствующих изумленным взглядом и произносит:
-- То, что я вам прочту, имеет название "Черная белочка". Оно состоит
из двух частей. Я начну с первой части, которая называется УТРО.
Пой, соловей!
О, пой, пой, пой, пой, пой, пой, пой, пой, пой, пой, пой, пой, пой,
пой, пой, пой, пой, пой, пой, пой, соловей! Пой, соловей! Пой, пой, пой,
пой, пой, пой, пой, пой, пой, соловей! О, соловей, пой же, пой же, пой же,
соловей, пой, пой, пой, пой, пой же соловей! О пой же, соловей, пой, пой,
по, пой, пой же, соловей, пой, пой же, пой, пой же, пой, пой, пой, пой, пой,
пой, пой, пой, пой, пой, пой, пой, пой же! Пой!
Роза, цвети!
Роза, роза, роза, цвети, цвети, цвети, цвети, роза, цвети! Цвети же, о,
роза, цвети же, цвети же, цвети! Цвети же, цвети, цвети же, цвети, цвети, о
роза! Цвети, цвети, цвети, цвети, цвети, цвети, цвети, цвети, цвети, цвети,
цвети, цвети, цвети, цвети, цвети, цвети, цвети, цвети, роза!!! О, цвети, о,
цвети, о, цвети, о, цвети, о, цвети, о, цвети, о, цвети, о, цвети, о, цвети,
о, цвети, о, цвети, о, цвети, о, цвети, о, цвети, о, цвети, о, цвети, о,
цвети, о, цвети, о, цвети, о, цвети, о, цвети, роза, цвети, цвети, цвети,
цвети, цвети, цвети, цвети, цвети!!!
Ветер, играй!
Ветер, играй же, о ветер, играй же, играй, играй!!!
Ветер, играй, играй же, ветер!
Ветер, играй, играй, играй, играй, играй, играй, играй, играй, играй,
играй, играй, играй, играй, играй, играй!!!
Луна, сияй!
Луна, сияй, сияй, сияй, сияй, сияй, сияй, сияй, сияй, сияй! О, луна,
сияй, луна, сияй, луна, сияй, сияй, сияй, сияй, сияй, сияй, сияй, луна,
сияй! Сияй же, сияй, о луна, сияй, луна, сияй, луна, сияй, сияй, сияй, луна,
сияй, сияй, сияй, сияй, луна, сияй, сияй, сияй, сияй, сияй, луна, сияй,
сияй, сияй, сияй, сияй, сияй, сияй, сияй, сияй, сияй, о луна!
Птица, лети!
Птица, о птица, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети,
лети, лети, лети, лети, лети, лети!
Лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети,
лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети!
Птица, лети же, о птица, лети же, лети же, лети же!
Лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети,
лети!!!
Птица, о птица, ну лети же, лети же, о лети, о лети, о лети, о лети, о
лети, о лети, о лети, о лети, о лети!!!
Птица, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети,
лети, лети, лети, лети, о птица!!!
Ольберт читает медленно, отчетливо, как машина, делая аккуратные
продолжительные паузы между предложениями. Иногда его словно бы сводит
судорогой, но это ни на йоту не нарушает ясный ритм чтения. Он читает
громко, все громче и громче.
Последнюю часть ("Птица, лети!") Ольберт выкрикивает из последних сил.
Он просто орет. Лицо его багровеет, по телу пробегают конвульсивные
вздрагивания, однако в глазах нет даже тени экстаза, ничего, что хоть
сколько-нибудь напоминало бы транс. Видно, что ему нехорошо. Ротик его
искажается гримасой отвращения. Он давится. Наконец, не остается никаких
сомнений, что его сейчас вырвет. Одна из тройняшек быстро подносит ему
огромную гранитную пепельницу в форме морской раковины. В ту же секунду
Ольберт начинает блевать. Несмотря на неаппетитность этого зрелища, гости
смотрят на него как завороженные. Он блюет так заразительно, что некоторые
зрители вынуждены подавлять рвотные позывы -- эти кисловатые тягостные
волны, поднимающиеся из телесных глубин. Но никто не отворачивается.
Наконец, пестрый поток иссякает. Девушка выносит чашу. Она идет так
быстро, что изумленному старику приходится резво отскочить, чтобы она не
прошла прямо сквозь него "с этой мерзостью". Краем глаза он успевает увидеть
мраморную блевотину в раме из гранитных прожилок, и почему-то в этой
мозаичной луже плавает железный грузовичок, принадлежащий Китти. Из пестрого
болота торчит, как после крушения, яркий красный кузов и синее ребристое
колесико. Непонятно, как он туда попал.
Ольберт растерянно оглядывается, вытирает рот платком. Он вроде бы
смущен -- если не притворяется, конечно.
-- Извините, -- произносит он, запинаясь. -- Какой-то незапланированный
катарсис. Должно быть, я слишком нервничал. Или это молоко... А может
быть... Говорят, такое очищение связано с истиной. Может быть, так бывает,
когда наконец удается, после долгих мучений, сказать правду. В любом случае,
прежде чем я прочту вторую часть "Черной белочки", придется сделать
небольшой антракт. Мне необходимо переодеться. Прошу прощения.
Действительно, и полярные олени, и северное сияние -- все они
непотребно забрызганы.
12
Во время антракта гости непринужденно рассыпаются по дому, как
гранатовые бусы с порвавшейся нитки. Старик осторожно входит в анфиладу
маленьких курительных комнат, оснащенных диванами и гранитными пепельницами.
В первой курительной темновато, здесь курит какая-то пара.
-- Кто эти хорошенькие тройняшки? Раньше я их не видела, -- тихо
спрашивает тяжелый женский голос.
-- Пассии Ольберта, -- отвечает мужской голос (естественно, тоже
приглушенно). -- Сестры Райевские: Соня, Анастасия и Кэролайн. Происходят из
семьи русского военного. Семья была в трудных обстоятельствах, и одну из
девочек, еще в младенчестве, отдали на воспитание другим людям. Она росла в
Англии, отсюда и английское звучание ее имени -- Кэролайн. Соня и Анастасия
не знали о существовании третьей сестры: мнили себя двойней. Чрезмерная
мягкость одной из них послужила причиной ее раннего душевного заболевания:
девушка считала себя отражением в зеркале. Уже в 11 лет она в первый раз
попала к нам в клинику. Второй раз в возрасте двадцати двух лет. Эти цифры
говорят сами за себя. Выяснилось, что с раннего детства ее сестра,
обладавшая властным характером, подчиняла ее себе, приучила откликаться на
кличку "Эхо", заставляла повторять за собой все свои слова и жесты. Властная
сестра мечтала об артистической карьере. Но ее изнасиловал один ее знакомый
-- несмотря на властность, психика девушки была хрупкой, и она тоже
оказалась в нашей лечебнице. Обе были изолированы, но окна их комнат
выходили в один и тот же дворик -- так, чтобы они могли видеть друг друга в
окнах. Немедленно они возобновили свою "игру в зеркало". Целыми днями одна,
стоя у окна, делала напыщенные жесты, воображая себя примадонной перед
трюмо, раскланивалась, прижимая руки к груди, жеманно или растроганно
улыбалась, делала вид, что роняет платок или перчатку. Ее несчастная сестра
в своей комнате напротив тщательно повторяла за ней эти каскады нелепых
гримас, ведь она была "отражением". Иногда им удавалось достичь подлинной
синхронизации, хотя их разделяли стекла, решетки и цветник. Мы с коллегами
любили наблюдать за "балетом", сидя в цветнике. Этот случай описал Бимерзон.
Соня и Анастасия казались совершенными копиями друг друга, но... но одна из
них была девственница. На этом тонком различии между близнецами Бимерзон
попытался построить свою терапевтическую версию: он стал культивировать это
субтильное различие в сознании сестер. "Девственная плева должна разрастись,
-- говаривал он, -- она затянет зеркало матовой пленкой, она спрячет сестер
друг от друга". Однако вскоре мы узнали о существовании третьей сестры.
Написали в Лондон. Она приехала. Ее появление заставило пошатнуться
болезненный, но сформировавшийся и стройный космос двух сестер. Если бы она
была пациенткой или психиатром, то у нее еще были бы шансы вплестись в их
узор... Но Кэролайн абсолютно нормальна. Она, правда, врач, но не психиатр,
а ухогорлонос. Принцип двойственности треснул, и все расстроилось. Тут-то и
появился Ольберт. Его привел Бимерзон, они ведь друзья. Вы сами знаете:
любовь -- превосходный медикамент. Ольберт влюбился в тройняшек, те ответили
взаимностью. Соня и Анастасия быстро пошли на поправку. Вскоре мы выписали
их. Сейчас они готовятся к браку вчетвером.
-- И что же, вы считаете, они исцелились окончательно?
-- Трудно сказать. За Анастасию я не беспокоюсь. Но Соня... Первый раз
она попала к нам в одиннадцать лет. Одиннадцать это, так сказать,
"отраженное одиночество". Затем в двадцать два года. Двадцать два это
"отраженная двойня". Что будет, когда ей стукнет тридцать три? Ведь тогда
вся тройня окажется "отраженной". Правда, это будет не скоро, но... К тому
же Ольберт скоро устранит своим пенисом ее девственную плеву, на которую так
надеялся Бимерзон. В сорок четыре года она сможет отразить весь их брачный
квартет, вместе с Ольбертом, если их союз, конечно, сохранится до тех пор. В
пятьдесят пять лет...
Старик, равнодушно пожимая плечами, раздвигает тяжелые толстые шторы и
проходит в соседнюю курительную. Здесь светлее, и к запаху табака отчетливо
примешивается запах марихуаны. Одинокий курящий сидит в углу дивана с
маленькой трубкой. Это министр словесности. Он рассматривает блокнот, куда
на скорую руку занесены какие-то цифры.
-- Оказывается, чтобы управлять словесностью, нужны не буквы, а числа?
-- спрашивает старик. Никакой реакции. Министр даже не поднимает изможденное
лицо, наполовину скрытое длинными волосами. Хозяин дома снова пожимает
плечами и проходит дальше. Остальные курительные пусты. Только пепельницы и
диванчики, диванчики и пепельницы.
13
Ольберт переоделся. Теперь он в строгом черном костюме, в белой
рубашке. Он поменял даже очки: прежние были маленькие, расхлябанные,
оправленные в золото. Сейчас на нем крупные очки в солидной, темной оправе.
Это снова наводит на подозрение, что и рвота, и переодевание были придуманы
заранее. Изменилась и манера чтения, даже голос. Первую часть он читал
громко, размеренно и четко, словно под метроном, теперь он запинается, голос
стал тих и влажен -- можно подумать, что у него во
рту идет дождь. Можно подумать, что у него во рту какая-то гнилая
деревня, куда по бездорожью, с трудом, добираются телеги с мокрыми дровами и
пьяными дровосеками. Можно подумать... Но думать уже нельзя, надо
прислушиваться. Он говорит: "Вторая часть вещицы называется... Она
называется "НОЧЬ".
(посвящается моим друзьям)
Сейчи
Когда я умер, то прежде всего была музыка, и у нее были некоторые
свойства животных -- тех, что по природе своей водонепроницаемы: печаль и
блеск бобра, скользкая бодрость утки, скрип дельфина и его же удачная
улыбка, гусиная тяжесть и чьи-то живые ласты, забрызганные росой или же
холодным бульоном. Поначалу я не поднимался и не опускался, а бойко плыл
вперед, улыбаясь. Ноги казались туго закутанными в плед или же в
промасленную бумагу. Правда ли, что я был ПОКУПКОЙ? Возможно ли, чтобы меня
купили? Ноги, не теряя русалочьей слитности, иногда заворачивали в зеленые
боковые ходы -- тенистые, ветошные, надломленные, с внутренней ряской.
Однако неизменно я возвращался на МАГИСТРАЛЬ. Начало ночи было прекрасным.
Для тебя, для тебя венецианская лагуна! Для тебя ночь Трансильвании! Для
тебя настоящая красавица и европейский синдром! Для тебя лунный свет и
бесконечная радость! О, хозяева моря, хозяева островов!
Устлер
Истрачена была одна вечность, и незаметно истаяла вторая, а я все
скитался среди абстракций, чисел, среди всеобщего смеха и собственного
шепота, среди слов (таких как "узнавание", "шутка", "пингвины", "то самое",
"домашние", "оно", "застекленность", "маленькое-милое", "великолепие"),
которые каким-то образом стали вещами или гранями одной-единственной вещи,
напоминающей кристалл. Скитался среди тканей и фактур, проходил, как по
маслу, по бархату, шелку, каракулю, по парче, по камню, по стали... То мне
казалось, что я бесконечно далеко от живых, то, напротив, возникало терпкое
чувство, что я просто иду городской окраиной, пробираюсь задворками людных
улиц, иду витринами, киосками, тентами, тенями, пиджаками, платьями,
туфельками, золотом, вороньими гнездами, заводами... Бывал я и рекой,
уносящей отражения своих берегов. О мосты, медленно гниющие над реками, --
узнаете ли вы меня? СКОЛЬКО сердечного тепла отдал я правительственным
зданиям, ангарам, депо, бассейнам! И снова уходил в глубину вещей, заседал,
как одинокий и ненужный диспетчер, в центральных точках отпущенного им
времени, в технических кабинках, где вершилась кропотливая работа
исчезновения. В общем (как, надо полагать, многие умершие до меня), я
оказался очень привязан к покинутой Юдоли, ибо Юдоль трогает. Так она,
видимо, и задумана -- как аппарат, производящий умиление. Иначе говоря,
здесь-то и создают то, что называется душой. Так в теплой и влажной утробе
взращивают эмбрион, чтобы затем вышвырнуть его в дальнейшее. Душа это герой
Диккенса, она падает на лондонское дно (Лондон -- единственный город,
устроенный как водоем, у него не катакомбы, а дно), чтобы затем всплыть в
детской комнате. Только на исходе второй вечности я впервые увидел ангелов.
Тереза
Никогда не забыть мне то утро. Утро! Утро! То утро... Я стал
возвышаться, идти вверх. Возвышение привело меня в горный ледник. Там я
впервые, со дня моей смерти, остановился. Я лежал или висел, вмерзший в
сверкающий лед, как отдыхающий мамонт. Я был огромен, но и глетчер был
великолепен -- я стал точкой в его белизне, в его необъятности. Мне
казалось, что я всегда лишь шел сюда, и теперь это и есть КОНЕЦ: застывание
навеки в зернистом блаженстве. Если бы я знал тогда, какие гирлянды и
анфилады Концов, Финалов и Окончаний меня ожидают! И тут я увидел небо, и в
нем -- ангелов. Это небо не было похоже на те небеса, которые я уже повидал
после смерти -- извивающиеся от щекотки, смешливые, ластящиеся, как жирный
котенок. Или же, наоборот, неуверенные, туманные, как пятно, как небо во сне
или на рисунке, которое еще надо домыслить, о котором следует догадаться.
Это же небо было безграничным, свободным и пустым. И в этой пустоте, очень
далеко, крошечные и светлые хороводы ангелов вращались в синеве. Два
переплетающихся хоровода, и от них, вбок и вниз, ответвлялась и уходила в
глубину небес длинная танцующая процессия. В целом они составляли фигуру,
напоминающую лорнет. Затем я не раз видел ангелов. Видел спиральную лестницу
Иакова--я лежал у ее подножия и смотрел вверх. Сквозь решетчатые ступеньки я
созерцал розовые, свежие, младенческие пятки ангелов, которые поднимались и
опускались. Сквозь решетчатые ступеньки, с которых небо смыло полярный мох и
птичий помет. В другой раз я оказался в Юдоли, на окраине деревни. Был
полдень, солнце стояло в зените, и небо все было заполнено ангелами.
Внезапно раздался крик петуха, и они исчезли. Долго я хохотал, чуть было
второй раз не умер от смеха. Такие шутки здесь в цене. Очень давно, будучи
еще живым и почти ребенком, я увидел черно-белую фотографию худой, голой
девочки, лежащей на пустом пляже. Она щурилась, заслоняясь рукой от света,
выражение лица было хмурое, замкнутое. Через несколько лет я увидел ее уже
не на фотографии, а в реальности, но тоже на пляже. Это был пляж, где
собирались нудисты. Среди множества голых тел она была единственной
полностью одетой -- в коротком темно-синем платье и в белых туфлях она
неподвижно стояла у самого прибоя и хмуро смотрела в море, как будто там
присутствовало что-то тягостное, скучное, но завораживающее. С ее волос
текла вода. Видимо, она только что вышла из воды и оделась, чтобы уйти, но в
последний момент что-то, находящееся на линии горизонта, заставило ее
оцепенеть. Проследив за ее взглядом, я не увидел ничего, кроме моря --
пустого моря, где не было в тот момент ни пловцов, ни птиц, ни кораблей. Я
не знал тогда, что ты станешь для меня чем-то вроде Беатриче: одним из
проводников по равнинам небес. И это очень странно и смешно, ведь ты жива, а
я умер, и точно знаю, что ты даже и не вспоминаешь обо мне. Однако мне
пришлось усвоить странную истину: чтобы быть прахом, следует быть влюбленным
прахом. Тогда, утром, в леднике, я наконец услышал голос, похожий на твой.
Он пел: "Во Франции любовь начинается с танца. Выстрел раздался в ванной, и
я впервые увидела тебя. Ты появился с веселым криком "А вот и я!"
Зео
После ледника я пробудился скелетом на острове Флинта. Зеленая, сочная
трава буйно обнимала мои белые аккуратные кости, росла между ребер. Я лежал
на горе. Остров каскадами сбегал к морю. Я был скелетом-указателем, стрелкой
-- сомкнутыми костями рук я указывал туда, где находился клад. Этот клад был
лишь краешком того моря сокровищ, которые потом прошли перед моим взором.
При жизни я был равнодушен к драгоценностям, да и сейчас они мало волнуют
меня, но прихоть ночи заставила меня стать инспектором необъятных складов
ценных вещей. Я -- сам Инвентарь, мое зрение заведует шкатулками, перстнями,
инкрустацией, горностаевыми мантиями, резьбой по камню и стеклу,
малахитовыми галереями и янтарными комнатами, хрустальными и фарфоровыми
вазами, яйцами Фаберже, гравюрами на стали и на меди, моделями парусников,
венками, древними знаменами, орденами, монетами всех времен и стран, а также
всеми бумажными деньгами, их водными знаками, всеми печатями, росчерками,
вензелями, изысканными почеркушками, долговыми обязательствами и нотариально
заверенными бумагами, гербовыми марками, всеми коронами, державными
яблоками, скипетрами, дарохранительницами, амфорами, оружием, древними
прялками, гребнями, ткацкими станками, эталонами мер и весов, живописными
полотнами, амфорами, гобеленами, экспонатами всех музеев, слитками
драгоценных металлов... О господа яблок и черепах! Зачем? Возможно, так
слепых еще котят окунают мордочкой в молоко. Пятнадцать человек на сундук
мертвеца! Пиастры! Пиастры! Флинт! Старый Флинт! О Геката, Трехликая,
медо-любивая, покровительница пыльных дорог! О Тривия, дочь Астерии! Хорошо,
когда после смерти только вода во всех ее видах -- пар, лед, снег, водопады,
реки, море, подземные озера, бассейны. Разбитые вдребезги теплицы. Разбитые
вдребезги стеклянные кенгуру, вомбаты. Один, почти целый, утконос.
Корин
Быть мертвым приятно, особенно поначалу. Потом случаются трудные
встречи. Среди битого стекла, среди живых шкафов меня вызвали на дуэль.
Это был огромный рыцарь, словно слитый из тошнотворного чугуна. Было
страшно, но я принял вызов. Для поединка мне выдали тело, способное
сражаться, -- обычное, молоденькое, солдатское тело, какие разбросаны везде
во времена войны. До этого моими телами были тела гор, тела кратеров, тела
ветра, воды и микроорганизмов, ртутные, мраморные, сахарные, хлебные,
ковровые... Бывали и не-тела: похожие на опоздание поезда, на щели в горных
породах, на выздоровление, на взрыв, на промежутки между книгами.
Как Дон Жуан, я отважно протянул противнику руку. Как Командор, он сжал
ее в своей. Но мы не провалились в ады. Нечто вроде шаровой молнии (такие
молнии я видел когда-то в кино) снизошло на наши сомкнутые руки, превратив
их в единое тело. Нас обоих без жалости ударило током, и я почувствовал, что
в слипшихся руках что-то возникло. Это было зачатие какой-то вещи. Рыцарь
исчез. С трудом я разжал измятые пальцы и на своей солдатской ладошке увидел
игрушечный автомобильчик -- грузовое такси, "мерседес" с удлиненным багажным
отделением. Мягкие, нежные белые шины, белые шашечки на черных дверцах.
Ногтем я поддел дверцу багажного отделения и там нашел костяную куколку,
изображающую пятимесячного младенца в скафандре советского космонавта, с
красной пятиконечной звездочкой на шлеме. Краска на нем облупилась, и
румянец его казался фрагментарным, анекдотическим.
Бывал я и в адах. Ады стояли пустые и заброшенные. Я видел
развалившиеся агрегаты, остывшие печи, истончившиеся ржавые котлы, замки и
амфитеатры, колеса, игольчатые горы, похожие на белых дикобразов, мосты и
пыточные стадионы -- все казалось декорацией, глупо провалившейя внутрь
себя. Для пущего смеха я кружил над адом на бутерброде, используя его как
летательный аппарат. Это было уютно: я лежал на свежем белом хлебе, покрытом
ласковым слоем сливочного масла, и глядел вниз. Накрылся же я, как
одеяльцем, овальным кусочком жирной, приятно пахнущей колбасы. А ты пела:
"Привет, странник! Ты -- в опасности. Разреши мне быть с тобой всю эту
ночь".
Журземма
Я люблю святую воду, но Геката принимает только мед. Толстый мед, в
глубине которого горит теплый, пушистый огонь. Однако после поединка
полагается совершать омовение. Я был погружен в ванну. Я нежился в ароматной
белоснежной пене. Над пенным ландшафтом возвышалась моя огромная голова --
самостоятельная и величественная голова воина-победителя. С одной стороны за
бортиком ванны парадом текли бесчисленные священники, кардиналы, католикосы,
епископы, патриархи, ламы, муфтии, раввины, митрополиты, архиепископы. По
другую сторону ванны бесчисленные парочки предавались пылкой любви -- целый
океан совокуплений. Я видел их всех сверху. Я думал о пирожках, которые надо
будет испечь для будущих детей. Внезапно передо мной возник здоровенный
монах. Он столпом поднимался из пены, родившись из нее, как некогда Beнера
близ кипрейских берегов. Мрачный, величественный, в рясе телесного цвета, в
надвинутом клобуке. Лицо аскетичное, гладкое, без черт. Неужели мне
предстоит новый поединок? Но он не двигался, лишь предстоял предо мной.
Монашеский капюшон постепенно сползал на затылок, обнажая лысину странной
формы. Кто ты? Чего тебе надо? Он молчал. Вдруг я с изумлением узнал в нем
свой собственный половой орган -- я и думать о нем забыл за время смерти!
Откуда он здесь? Да еще в состоянии эрекции? Так мы и стояли друг против
друга -- две колоссальные молчаливые фигуры, встретившиеся на белых облаках,
отливающих мириадами радуг: голова и член. С того дня мое живое,
человеческое тело стало постепенно возвращаться ко мне: частями, то
появляясь, то снова исчезая, но снова появляясь и обретая, вечность за
вечностью, свою прежнюю полноту. Я понял тогда, стоя лицом к лицу с монахом
на пенных облаках, что предстоит еще вернуться в отчий дом, откуда я был
похищен смертью. Ведь если у нас есть гениталии, значит, у нас должен быть и
дом. Где яйца, там и гнездо. Я узнал его имя -- Варфоломей. Я так долго жил
с ним, я мыл его и вводил в нежные женские тела, а имени его не знал. Теперь
он написал свое имя белым семенем -- имя на миг застыло в воздухе, словно
вежливо дожидаясь, пока я прочту его, а затем его имя стекло белыми
струйками по бортикам ванны, в пену. Его имя стекло теплыми ручейками по
спинам совокупляющихся людей, его имя стекло по роскошным облачениям
священнослужителей, по митрам, тиарам, камилавкам, по девическим животам, по
рясам, по тонким женским запястьям, по атласным белым перчаткам, на которых
золотой нитью вышиты были инициалы. А ты пела: "Аристократия! Западная ложь!
Мокрые улицы ночного города..."
Бимерзон
Не могу сказать, что после смерти я понял все, но я понял, как все
устроено. Понял, но потом забыл. Жаль. Если бы я лучше учился в школе, если
бы я брал частные уроки физики, химии или даже математики, я смог бы,
возможно, превратить мои понимания в знания, которые удерживались бы
памятью. Но при жизни я был ленивая скотина, к тому же бездарная по части
точных наук. Я же не подозревал, что после смерти меня станут посвящать в
детали мирового механизма. Я видел этот механизм (если его, конечно, можно
называть механизмом) воочию, я, можно сказать, облизал каждую из его пружин,
каждый клапан, каждое сцепление, каждый рычажок. Почему я должен быть
одинешенек -- я и мир, и больше никого? Я видел, как время сжимает события
до состояния вещей, а затем разворачивает их в ландшафты -- так, с хрустом,
рвут в гневе китайский барабанчик. Я видел миры, где царствует чистое
раздражение, и там возникают вещи. Я видел миры умиления, и там тоже
возникают вещи, точнее, вещицы, но они прочнее вещей. А ты пела: "Красота
ангелов проникает в мои сны, чтобы стать моим тайным любовником, чтобы
заставить меня улыбаться сквозь замерзающие слезы..." И ты пела:
"Черно-белый серафим! Якорь в моем сердце! Трусливый мальчишка!" В саду
Бимерзона я видел черные гнилые стожки, одетые в кружева. Я видел слишком
много бессмысленного, и это не объяснить ничем, -- разве что чувством юмора,
которое никак не соотнесено с человеческим. Я познакомился с
Издевательством, которое без устали издевалось над самим собой. В тех краях
оно почиталось в качестве бога. Я видел Олимп, где все боги были убиты, а на
их местах восседали сумчатые животные. Мне сообщали секреты, от которых
веяло ужасом истины. У меня слабая память. Если бы я был ученым! Но я всего
лишь писатель. Иначе нашел бы способы сообщить живым много ценного --
достаточно для того, чтобы они стали обожать саму память обо мне. Я снизошел
бы к спиритическим столикам, пробившись сквозь облака псевдодухов, которых
называют "конфетами", -- вида они не имеют, но их речь живая и сладкая, как
вкус батончиков. Я обратил бы в слова и в формулы трещины на стенах научных
институтов. Я связался бы с разведками сверхдержав. Подавив тошноту, я вошел
бы в телепатическое общение с руководителями религиозных сект и с передовыми
мыслителями человечества. Как новый Прометей, я ввел бы в мир новые
лекарства и новое оружие, новые интриги и фабулы, новый, доселе неведомый
отдых. Если ты мальчик, то ты, рано или поздно, получишь девочку. Кажется, я
смог бы подорвать саму основу страдания и оно было бы забыто. Я сделал бы
это, даже если бы потом меня приковали над бездной и львы ели бы мою слабую
печень. Но здесь милосердно позаботились о том, чтобы меня не за что было
наказывать. Допуск был колоссальный, но, сообщив, они все непринужденно
стирали из моего сознания, словно рукавом. Кто "они"? Здесь множество
всяческих "они", и в то же время здесь нет никаких "они". Здесь нет никакого
"здесь", одно лишь "там". А ты пела: "Красавица и Чудовище! Ты хочешь быть
Королем, я хочу быть Королевой. Мы будем на Троне, но лишь на миг". Я видел
ВСЕ, но это было фальшивое ВСЕ. Я был ВСЕМ, фальшивым ВСЕМ. Я понял
фальшивое ВСЕ, а это почти то же самое, что понять настоящее ВСЕ. Но одного
я не понял и сейчас не понимаю: со дня моей смерти было много встреч, но я
ни разу не встретил никого из тех, кто умер до меня. Такое ощущение, что я
первый мертвец во Вселенной. Почему так? Где они?
Соня
А маленького советского космонавта мне пришлось потерять. Утрата. Еще
одна утрата. Я вспоминаю его так же часто, как и себя, -- то есть почти
никогда. Заблудился маленький мальчик. Дитя в белом скафандре в зыбучую ночь
забрело. Бедный, бедный маленький мальчик! В тонкой плетеной корзинке несет
он смуглый пирожок -- на крови, на крови младенца замешан был пирожок! И сам
же младенец несет его в корзине своей -- сквозь темный лес, сквозь темный
лес мальчик несет пирожок! О сияние силы рыцарей зла -- осыпалось, как хвоя
с елей Шварцвальда, сияние силы рыцарей зла. Оплетены корнями сосен, укрыты
мхом, спят они, как потухшие огоньки -- навеки, навеки потухли рыцари зла!
Маленький мальчик несет пирожок. По темному лесу, по темному лесу, по
темному лесу в легкой корзинке несет пирожок. О, блести, блести красотою
своею, о смерть! О прекрасный блеск смерти, о прекрасный блеск смерти! Между
живыми и мертвыми нет особых различий. Прошлое и будущее -- одно, так как
все мы в будущем станем прошлым. Жизнь живых делится на сон и бодрствование,
причем большинство отчего-то больше времени уделяет бодрствованию. Меня все
занимал вопрос: после своей смерти сплю ли я иногда, или же только посмертно
бодрствую, или же только посмертно сплю? Последнее маловероятно -- смерть не
похожа на сон. Но... Накопив некоторый опыт по части того, как быть
мертвецом, я понял наконец, насколько важно в нужный момент притвориться
спящим! Детский трюк, простейшая элементарная отмычка, но без нее не
проникнуть в заповедные области смерти. Путь в рай прост, как хлеб с маслом.
Смерть -- это бесконечная и совершенно прямая дорога, иной раз она проходит
через области отдаленно-суетливые, где можно увязнуть в бурных событиях,
настолько непонятных и излишних, что потом нет сил даже на смех. Как-то раз
я был втянут в подобный переплет, но затем прикинулся, что вдруг задремал. Я
изобразил себя затуманившимся, безоружным, потерявшим способность замечать
происходящее -- дескать, сплю, сплю как живой, беспечно раскинувшись там,
где настиг меня сон, уткнувшись, как котенок, в молочное забвение. Видно,
сну подобает честь, и бог сна в почете. Меня тут же извлекли из несносных
миров и осыпали милостями. Честно говоря, я удостоился почестей совершенно
незаслуженных, и они каскадами ниспадали на меня, не зная никакой меры. Мне
напомнили, что я -- королевской крови, и тут же меня венчали на царство: мир
стал мягким и эластичным, дабы вместить мои помпезные церемонии, мои
фейерверки, мои балы, мои купания, моих нимф, мои парки, гроты, павильоны,
моих наложниц, мои армии, мои знамена, мои гардеробы, моих белошвеек...
Затем меня облекли в папский сан: к моим туфлям припадали черные монахи,
белокурые девочки и негры. Помню свои атласные белые перчатки, на которых
золотой нитью и жемчугами вышита была схема Голгофы: голова Адама, на ней
три креста, центральный укреплен копьем. Мне сообщили, что я -- гений, и
поднесли мне в дар все вокзальные циферблаты, все шахматные доски, все
шлагбаумы и всех зебр мира. Меня поставили в известность, что я -- святой, и
я стал освещать все вокруг сверканием своего золотого нимба. Мне вернули мое
личное тело, но на ладонях были стигматы, из которых непрестанно сочился
благовонный елей. Мой нимб не только источал свет, он был также отличным
оружием: его края были необычайно остры, и я, весело подпрыгивая и вращаясь,
словно топор, прорубал себе дорогу в любом направлении. Мне сказали, что я
-- бог, но я не поверил. Узрев мое сомнение, все вокруг наполнилось смехом
-- веселым, брызжущим смехом великодушия и щедрости. Меня любезно пригласили
вращать мирами и быть всем. Я был луной, приливом, стрелками на часах, был
мужским членом, входящим в женский половой орган, был женским половым
органом, принимающим в себя мужской член, был самим инстинктом размножения,
наращивающим свою мощь весной, был солнцем, был духом, который развлекает
детей сновидениями, был снегопадом, был четырьмя временами года. А ты пела:
"Как, ты никогда не слышал об этом? Подойди ближе. Прикоснись ко мне. Пришло
время попробовать..."
Анастасия
Аттракционы будущего состоят из "возможностей". Некоторые из этих
"возможностей" я испробовал, другие нет. Как-то раз, например, я был
персонажем американского фильма -- плоской тенью, скользящей по белому
экрану. Я бежал, стрелял, вскрывал письма, но боковым зрением все время
наблюдал зрительный зал небольшого летнего открытого кинотеатра где-то в
Греции или в Крыму, и людей, сидящих на старых скамейках, чьи лица были
обращены к экрану. В их зрачках и стеклах очков, как в битых зеркалах,
отражались фрагменты экрана. Мелькал и я. Изможденный гангстер, спасающийся
от погони, я стоял на пожарной лестнице кирпичного дома. Мое лицо явилось на
экране крупным планом -- черно-белое, с впалыми щеками и глубокими
морщинами. Лента была старая, мой образ был словно из песка или из пепла.
Подо мною уже мелькали полицейские фуражки, похожие по форме на черные
короны или терновые венцы. Я видел их внизу сквозь решетчатые ступени со
следами белого птичьего помета. И в то же время прямо передо мной был
зрительный зал. Я посмотрел на зрителей, прямо на них, я посмотрел на них со
своего экрана. И взглядом я дал им понять, что я вижу их. Минуты шли, а мое
лицо все таращилось на них, бесстыдно, внимательно, невозможно -- я
наблюдал, как до их сознания постепенно доходит неладное, как в лицах
вызревает мистический ужас. Я вдохнул запахи их вечера -- аромат цветущих
акаций, запах болотца и близкого моря. Отчего-то все это доставило мне
необычайное удовольствие -- тонкое, на гурманский вкус, как мне почудилось.
Я стоял на верхней площадке небесной лестницы, я был началом и концом всего,
и при этом скромно наслаждался простыми запахами чужого южного вечера,
затерянного среди других вечеров Юдоли.
Мне была дарована безграничная свобода перемещаться во времени. Я
оказался внутри своего тела, бегущего по железнодорожному мосту, когда я был
десятилетним мальчиком, одетым в оранжевое. Меня окружала тьма моих здоровых
внутренностей. Я слышал над собой -- там, где на морских пейзажах изображают
солнце, спрятавшееся за облаком, -- стук моего сердца, стук, учащенный,
напряженный от быстрого бега. Мне захотелось взглянуть на мое сердце,
которое я так любил и люблю до сих пор. Я посветил вверх своим нимбом, как
комариным фонариком, -- сердце было огромно, и почему-то оно стучало в
мешочке из грубой шерстяной ткани. Наверное, чтобы ему было тепло. Я
вспомнил о сердце, которое я однажды видел в юдоли, -- оно не билось и тоже
лежало в подобном мешочке. Мой брат как-то подарил этот мешочек моей
маленькой сестре. Он также преподнес ей чью-то отсеченную руку, срезанную
кисть. Так непринужденно, как протягивают через стол кисть винограда. В тот
момент я впервые почувствовал вкус скорби. Сердце -- рука -- кисть. Две вещи
являются тремя вещами. Потерянный предмет -- разновидность смерти. Потому
что потерянный предмет становится словом, как и смерть, обреченная быть
словом. В одной из Сокровищниц я снова увидел это сердце и эту руку -- они
были оправлены в золотые скорлупы, усыпанные драгоценными камнями. Девочка
(возможно, это была Китти, но я не разглядел лица), увенчанная короной с
наклоненным набок жемчужным крестом, восседала на троне, сжимая сердце из
сокровищницы в одной ладони, как державу, а отсеченную руку -- в другой, как
скипетр. После этого я сумел вспомнить шум дождя.
Затем я сам стал сокровищем -- бесплотным центром белой, необъятной
залы, где не было ничего, кроме особенного свежего воздуха. После этого во
мне навсегда осталось открытым так называемое "белое окно". Оно всегда
где-то сбоку, всегда открыто, за ним никогда нет ничего, кроме воздуха. В
конечном счете это вентиляционное отверстие, нечто вроде жабр, без которых я
задохнулся бы на безвоздушных вершинах рая. Таковы аттракционы будущего,
таковы вагончики "возможностей". Смерть -- это бесконечная и совершенно
прямая дорога, и по ней идут нескончаемые составы таких вагончиков. Выше
была лишь тьма. Тьма, нареченная глуповатым именем Радость. Я нырял в нее,
резвился в ней, я был ее купальщиком, ее пловцом... То я был один, то
чувствовал недалеко от себя чьи-то огромные тела. "Кто здесь?" -- спросил я.
В черничной темноте в ответ зажглись четыре пятна нежного, словно бы
закатного света, и я увидел лица четырех Животных -- Кита, Слона, Носорога и
Бегемота. Они висели передо мной -- живые, но неподвижные: лишь изредка
помаргивали крошечные глазки на колоссальных лицах. Я спросил их: "Где
Крокодил?" Они не ответили. Они были освещены мягко, но тщательно, вплоть до
мельчайших морщинок, в глубине которых прятались синие тени. Большие
животные -- аргументы Бога, некогда предъявленные незаслуженно страдающему
Иову. Теперь они были предъявлены мне, который блаженствовал незаслуженно. Я
был так высоко, или же так глубоко, что даже твой голос уже не долетал до
меня. Я подумал о тебе и вернулся.
Кэролайн
Мне показалось, что я вернулся в свой труп. Я лежал на склоне, в
жестком кустарнике. Надо мной было звездное небо. Я был одет во что-то
тяжелое и плотное, вроде шубы. Мне показалось, на лбу лежит бумажная полоска
с молитвой. Звезды погасли и снова зажглись -- я моргнул. Бумага вспорхнула
со лба -- это был детский рисунок, неумело изображающий черную белку,
сжимающую лапками изумруд. Рисунок был коряво подписан именем моей сестры. Я
встал. Тело было твердым, бесчувственным, как дрова. Сердце в груди билось
тихо, словно шепотом. Земля вокруг блестела от звездного света. Я пошел
вниз. Я был одет Дедом Морозом -- так, как его обряжают в наших краях:
черный тулуп, белые рукавицы, белая конусообразная шапка, изображающая
снежный холмик, синие валенки до колен, к которым прикалывают бумажные ленты
с желаниями. В левой руке я сжимал мешок с подарками. Не было только посоха.
Возможно, я потерял его.
Это одеяние подошло бы к зиме, но была жаркая летняя ночь, наполненная
скрежетом цикад. Я шел большими, твердыми шагами. На валенках шелестели
развевающиеся ленты, под ногами хрустела земля, усеянная пустыми панцирями
улиток. Змея лежала под кустом, свернувшись кренделем, похожая в звездном
свете на блестящую горку человеческих испражнений. Я подошел к железной
калитке, открытой настежь. Блестели темные окна отчего дома. Я вошел. Пусто.
Поднялся на второй этаж и вдруг увидел Китти -- она стояла в коридоре. Вид у
нее был сомнамбулический, хотя в ту ночь не было луны. Ее маленькое, острое
личико казалось злым, веселым и спящим одновременно. "Старый Холод!" --
крикнула она, увидев меня. На ней была только черная майка. Худые голые
ноги, между которыми виден был половой орган маленькой девочки --
аккуратный, выпуклый, словно бы вылепленный для долгого бесстрастного
созерцания, как сад камней. Я вынул из мешка одеяние Снежной Внучки и кинул
ей. Она подпрыгнула от радости и надела белый тулупчик, белые варежки, белые
валенки -- все белое, расшитое искрами. Я перевернул мешок и вывалил его
содержимое на пол -- образовалась гора игрушек, причем все это были
маленькие копии транспортных средств: самолетики, поезда, автомобильчики,
ракеты, кареты, колесницы, линкоры, лодочки, дирижабли... Наверное, эта
груда была яркой, но в темноте цвета были не видны -- только отблески.
Похоже было на кучу убитых майских жуков, сверкающих в ночи своими
хитиновыми покровами. Китти что-то крикнула и перепрыгнула через подарки. Я
хотел найти отца, чтобы преклонить перед ним колени, как на картине
Рембрандта "Возвращение блудного сына". Я взял Китти за руку, я хотел, чтобы
мы оба упали на колени, -- Сын, одетый Дедом, и Дочь, одетая Внучкой, перед
Отцом, который одет Отцом. Но его нигде не было видно. Все равно мы с Китти
опустились на колени, а затем встали на четвереньки. Так, на четвереньках,
стали перемещаться по дому. "Мы -- звери", -- сказала Китти. Ползли
коридорами. Путь привел нас на кухню. Здесь ярко сияла стальная посуда,
отражая свет звезд. На полу стояло блюдо с абрикосами и сыром. Мы подползли
к нему, стали обнюхивать еду. Запахи охватили меня целиком: острый, сложный
запах сыра, свежий и холодный запах абрикосов...
-- Сыр, -- произнес я, словно называя кого-то по имени.
Китти отчетливым шепотом рассказала мне, что Резерфорд, умирая в
Лондоне, попросил принести ему сыру. "Никогда не любил сыр, а теперь вот
захотелось..." -- сказал он. Съев ломтик, он промолвил: "Неприятный вкус. Я
был прав, не любя его. Теперь я могу спокойно умереть".
-- На самом деле сыр был вкусный, -- прибавила Китти. -- Просто
Резерфорд умирал, и у него не было аппетита.
-- Этому вас учат в школе? -- спросил я.
-- В школе? Я не хожу в школу, -- ответила она.
Раздался звук, как будто о стекло ударился шмель. Китти встала, взяла с
кухонного стола нож и протянула его мне. Я отрезал кусочек сыра, снова
обнюхал его. В ломтике была круглая дыра. С трудом удерживая тонкий и
скользкий ломтик в руке, одетой в толстую рукавицу, я поднес его к глазу и,
как в монокль или в круглое окно, взглянул на Китти, на кухню, на резкое
звездное небо. Затем я поднес сыр ко рту и откусил...
14
Старик, почувствовав некоторое утомление, поднялся на второй этаж,
чтобы немного отдохнуть в своей любимой комнате. Он неторопливо проходит по
коридору между бледными лимонообразными лампочками в золотых веночках,
нащупывая тайный ключ во внутреннем кармане жилета. Доносится шум сыпучих
вод -- это Вольф принимает вечерний душ.
Старик толкает последнюю дверь и дергает за шнурок выключателя.
Небольшая комната без окон освещается тусклым светом пышно закутанной лампы.
Невзрачный шорох сухих цветов -- они всюду, их множество, они огромными
букетами стоят в углах, гирляндами вьются по стенам. Роскошные мумии букетов
на глазах превращаются в пыль. Пучки иссохших трав, свисающие на нитях,
выделяют стародавний зной. На темно-коричневой с позолотой стене, в
обрамлении из цветов, висят несколько фотографий. Золотистые ленты свисают с
витых рамок. Малыш Оле, с брезгливым видом рассматривающий громоздкий
игрушечный паровоз. Вольфганг в день поступления в школу, в униформе с
блестящими пуговицами, насупленно глядящий на шелковый флаг, который он
держит в руках. Малютка Китти зимой, в канун Рождества, сидящая на резном
высоком стуле с бахромой из потертых бархатных шариков. Она же, и тоже
зимой, на фоне снежной горы, щурящаяся сквозь снег, застрявший в ресницах, с
роскошными санками на кожаном ремешке.
Здесь им обеспечен покой. Среди сухих цветов, превращающихся в прах с
шелестом, с покорным лепетом, их лица кажутся насквозь пропитанными тем
сиянием великого отдыха, какое лишь изредка можно заметить на лицах
курортников, проводящих беспечные недели и месяцы на море. Такая свежесть
еще бывает у львят, она встречается на лицах ледяных девочек, которых
изготовляют к зимним праздникам. Вот Оле и Вольфганг за столиком уличного
кафе. Видны липкие разводы на поверхности столика -- одна из кофейных
чашечек у них опрокинулась. Пухлые ручонки Ольберт трогательно сложил на
груди (наверное, паясничает). Кажется, он видит надвигающегося Танатоса и
капризно предлагает ему повременить. Вот фотография в рамке, повитой
скелетцами хризантем: семья на борту летнего парохода. Чопорный и хрупкий
отец с косой коричневой тенью на лице, падающей от широкополой панамы. Его
супруга, с белым зонтом в руках -- лицо молодое, насмешливое. Китти в
купальном костюме, опоясанная надувным лебедем. Ольберт в глубокой
прострации. Угрюмый Вольф с географическим атласом подмышкой. Все они сняты
на фоне большого спасательного круга с крупно написанным названием парохода
-- "Беттина". Солнце освещает их сверху и сбоку -- морское, увядшее, словно
бы увиденное сквозь коричневое стекло пляжных очков.
Старик медленно продвигается вдоль колышущихся стен, метелкой из мягких
перьев стряхивая пыль с фотографий и ребристых ваз.
По стариковской привычке он что-то бормочет:
-- Надо сказать себе: прошлое есть прошлое. Оно не может быть настоящим
-- просто-напросто не умеет. Его этому не научили. Не на-у-чи-ли.
Старичок приближается к громоздкому предмету в глубине комнаты -- это
что-то вроде большого игрушечного театра с тяжелым бархатным занавесом. Его
крыша представляет из себя пыльный металлический органчик, над которым
укреплена кубическая шкатулка из дубового дерева -- в ее стенках проделаны
небольшие овальные окошки, на равном расстоянии друг от друга, откуда льются
лучи белого пыльного света, напоминающего свет диапроектора в промежутках
между кадрами. Всего пятнадцать окошек. Пятнадцать бледных лучей тянутся от
шкатулки к памятным фотографиям на стенах, высвечивая лица умерших. Пятна
света, ложащиеся на неподвижные лица, кажутся робкими, случайными, как
дрожащие солнечные блики ранней весной. То высветят лицо кого-нибудь из
умерших, то руку, сжимающую географический атлас, то пучок сухих цветов.
Старик с помощью шнура поднимает занавес. Внутри -- нечто вроде
искусственного грота, какие часто можно встретить в парках
вельмож-затейников. Здесь находятся несколько стеклянных фигур в
человеческий рост. Сделаны они также искусно и тою же рукой, что и Рой в
гостиной. Приглядевшись, можно заметить, что их расположение напоминает
фотографию на борту парохода: в центре господин в панаме, опирающийся на
трость, рядом дама с зонтом. Пыльные, полупрозрачные Вольф, Ольберт и Китти.
Поверхность стекла все еще пытается имитировать лед. Старичок обмахивает их
своей метелкой, продолжая бормотать:
-- Рой... рой призраков покушается на пустоту ваших мест. Как они меня
порой раздражают! Крошка Китти, никак не припомню, где тебя похоронили -- да
и стоит ли вспоминать, ведь твой живой отпечаток ежедневно маячит передо
мной, окруженный обручами, зверьками и осколками граммофонных пластинок. Ты
это или не ты, а, Китти? Моему голосу не проникнуть сквозь алмазный колпак.
Даже если это действительно ты, уж лучше бы ты отправилась странствовать.
Ведь смерть это дорога, сказал Ольберт. Малыш Оле! Есть, знаешь ли, пропасть
-- бездонная пропасть, отделяющая Твиддлдума от его брата Твиддлди. Здесь, в
этой кумирне, ты -- божок, но вообще-то ты всего лишь рассеянный труп. Весла
Харона! Кривые весла Харона, изогнутые и переплетающиеся, наподобие
пропеллера. Вольф! Вениамин, серый волк! Беги своей тропой! Беги же своей
тропой! Елизавета, язвительная женщина! Ты никогда не показываешься, а дети
здесь каждый день. Но ты всегда была умнее детей. Глупыши... Они застряли...
Старик посмеивается, прикрывая рот ладонью.
-- Простите уж мне этот смех. Я всегда был втайне смешлив, но правила
приличия заставляли меня жестоко подавлять в себе эту склонность. И теперь
невысмеянный смех непроизвольно поднимается со дна моей души. Но это не
означает, что я утратил серьезность. Как бы тлетворно ни действовала бы на
меня привиденческая возня в первом этаже, как бы ни мучили меня подозрения
относительно ваших теней, маленькие обманщики, в душе моей не иссякнут
источники печали. Дети, дети! Если какие-ни будь жестокие иконоборцы вдруг
разрушат мой крошечный храм, я пущусь в путь, я предприму поиски, я соберу
все по крупицам и восстановлю все заново, в надежде, что терпеливые боги
когда-нибудь поступят так же и с нами. Этот мир -- мир богов, и из него нет
выхода. Бегите же своими тропами! Напои ее тропами! Напои ее берлеевыми
тропами!
Старик нажимает на рычажок: в глубине театрика оживает невидимый
механизм, что-то щелкает, стеклянные фигуры начинают перемещаться на
небольших бронзовых подставках -- в полу проделаны своего рода каналы,
сплетающиеся в узор, по которым ездят стальные штыри, несущие на себе
металлические коврики с возвышающимися на них истуканчиками. Траектория их
взаимных перемещений напоминает крендель. Их скольжение сопровождается
звоном колокольчиков, вызванивающих мелодию песенки "Я обрызгана оранжевым
соком". Когда-то, когда старик был еще молод, была в моде эта игривая
датская песенка:
Юкки Двенадцатиглазый продал королевство,
Продал королевство за один острый нож...
Некоторое время старичок наблюдает плавный ход этих якобы ледяных
фигур, чем-то напоминающий менуэт, -- медленно сходятся и расходятся
полупрозрачные тела, как огромные сосульки, потерявшие способность к таянию
и назначенные быть деталями в молитвенной машине. Затем он нажимает еще один
рычажок -- дно грота слегка раздвигается, так что становится виден сам
механизм -- несложный, но прекрасный: большая стальная спираль,
раскручивающаяся и затем сжимающаяся напряженными судорожными толчками,
массивный медный валик, сонно вращающийся увалень, чье добродушное
отполированное тело усеяно мельчайшими зубчиками. Отшлифованные до тусклого
блеска молоточки, сонливо вздымающиеся по очереди из-под вращающегося
цилиндрического валика, поднимающиеся несколько устало, но в то же время
бодро и легко, как люди на борту корабля, уронившие голову на грудь в
надежде подремать или же в отчаянии, но время от времени вскидывающие их,
чтобы посмотреть, не близко ли земля. Вскинувшись, эти головы теряют надежду
на несколько секунд и падают восвояси, задевая при падении тот или иной
колокольчик -- отряды этих колокольчиков, как отряды приютских девочек в
медных платьях, исполняющие под надзором воспитателей свои короткие песни
голосками то плаксивыми, то радостными.
Спроси девчонку, где тропа
В усадьбу "Горькая Пчела".
Поцелуи и черепахи, а также молнии над болотами --
Это и есть то, что называется "любовь".
Намеки, когда-то непристойные, давно стали непонятны. Старик
завороженно созерцает безмятежную работу механизма. Отличный, чистый блеск
металлов, осенние оттенки сдержанного сияния -- от платинового до
многочисленных сортов меди. Из овальных отверстий в стенах грота, которые
деликатно спрятаны под украшениями, источаются прозрачные светлые струйки
смазочной жидкости -- легчайший и нежный внутренний сок механизма,
позволяющий ему работать легко, без скрежета и страданий. Все детали
остаются свежими и неизношенными благодаря этому заботливому омовению.
Старик протягивает руку к одному из отверстий, смачивает кончики пальцев в
подтеках технического нектара. Приближает увлажненные пальцы к носу, нюхает.
Масло. Тончайшее, ароматное масло. Пахнет елеем, как в древних греческих
церквях. Запах милосердия, запах помилования. Он вызывает в памяти священное
греческое слово "элейссон". Долгожданное смягчение. Старик приближает руку к
губам, осторожно облизывает сморщенную подушечку одного из своих пальцев --
он словно бы коснулся языком старых бумаг, на которых остался свежий след
меда.
-- Летом, когда мы стояли на палубе "Беттины", под нашими ногами тоже
работал механизм. Более тяжеловесная и сильная машина -- валы и поршни
парохода.
Произнеся эту фразу, старик замирает, прислушиваясь. Слышно, что
снаружи идет дождь, словно бы подражая циркулированию прозрачного сока в
простом механизме, подражая старческим слезам, некстати увлажнившим лицо,
которое все еще хранит выцветшую, но благородную печать сарказма.
15
Сильный дождь за окном узкой, уютной комнаты. Ветхий обитатель этой
изящно обставленной спаленки лежит в постели и читает перед сном. Наконец
("Пора спать!" -- наставительно замечает он себе) лампочка гаснет, и за
прояснившимися стеклами начинает медленно проступать тусклый и мокрый сад.
Влажный снотворный шелест царствует в полумраке, но к нему присоединяется
металлическое постукивание. О, да это вязальные спицы! Какая-то старушка уже
успела пристроиться в углу и проворно вяжет. Два круглых зеркальца на ее
лице отражают оконный переплет и серебристые воды, заливающие сад.
-- Вязание и вода! -- громко произносит старик. -- Здравствуй же,
Елизавета!
-- Здравствуй и ты, -- отвечает старушка. -- Что читают нынче перед
сном?
Она указывает спицей на книгу на ночном столике.
-- Это Диккенс. "Тяжелые времена".
-- Разве времена нынче тяжелые? Скорее, я бы сказала, легчайшие,
невесомые. Как пух.
-- Давно не видел тебя, дорогая. Ты превосходно выглядишь.
-- Спасибо. Ты тоже свеж.
-- Да, ты совсем не изменилась, только что это на тебе за нелепый
чепец? Такие, кажется, носили только в прошлом веке. Когда мы жили с то- ]
бой вместе, ты никогда не одевала ничего подобного.
-- Действительно, при жизни я не носила чепцов. Но я считаю, что если
уж ты умер, бессмысленно цепляться за старые привычки.
-- Надо полагать, ты намекаешь на наших детей, на Вольфа, Ольберта и
Китти. Я тоже осуждаю их консерватизм. Их режим дня после смерти не
претерпел изменений. Впрочем... Сегодня Ольберт прочел нам любопытное
повествование о своих посмертных приключениях. Уж не знаю, писательская ли
совесть или же писательское бесстыдство побудили его к откровенности. Во
второй части он подробно описал то, что русские ортодоксы называли
"мытарствами души". Должен признаться, я слушал с интересом. Писатель есть
писатель -- все, что происходит с ним, становится материалом для литературы,
даже если это собственная смерть. Я уважаю эту позицию -- она
профессиональна. Он посвятил эти заметки своим друзьям -- я, знаешь ли,
раньше с некоторым неудовольствием косился на всю эту компанию, на всю эту
золотую молодежь, с которой он свел дружбу еще в школе, на всех этих Сейчи,
Устлеров, Кориных, Бимерзонов... Эта Тереза, этот Зео... Сколько
неприятностей и волнений доставили они нам своими безрассудными шалостями,
своими проделками! Человек пятнадцать молоденьких шалопаев -- девчонок и
мальчишек -- об их дерзостях ходили легенды! Но они были детьми из самых
привилегированных семейств, и все смотрели на их выходки сквозь пальцы. В
городе их называли "золотоглазыми" из-за дурацкой манеры носить очки в
золотой оправе. Кажется, это придумал Бимерзон. Но, видно, они все же были
хорошими друзьями, раз Оле вспоминает о них даже после смерти. В молодости
мы с тобой тоже не были кенгурятами. А уж друзья наши...
-- Я помню.
-- В конечном счете Оле стал обычным "голодным духом". Он попал на
приманку -- вернулся, привлеченный всего лишь запахом сыра. На мой вкус,
вторая часть повести Ольберта слишком цветаста. В первой части он, возможно,
более честен. Не знаю, конечно, но я всегда подозревал, что жизнь мертвеца
однообразна, как тиканье часов. Считается, что после смерти у людей отнимают
время. Подозреваю, что отнимают, напротив, пространство, оставляя только
неразбавленное, чистое время. Впрочем, тебе виднее.
-- Никто ни у кого ничего не отнимает. Глупость отнять невозможно, --
провозглашает старуха, наставительно ударив толстым концом спицы по синему
пуфу. -- Что же касается литературных произведений Ольберта, я читала только
одно. Оно называлось "Чадолюбивый убийца" -- что-то о римском офицере,
вынужденном участвовать в избиении младенцев по приказу Ирода. Этот римлянин
очень любил детей. Мучимый совестью, он поставил перед собой задачу
произвести на свет столько детей, сколько было загублено им во время
избиения. В основном Оле описывал бесчисленные зачатия. Тогда я сказала ему:
"Неплохо, но недостает свежести. Для чего писать, если нельзя обеспечить
хотя бы краткий освежающий эффект?" Да и сейчас... Что он, вообще-то говоря,
может знать о смерти? Думаю, что и его последнее произведение -- не более
чем литература. Если он и описывает какой-то реальный опыт, то скорее всего
имеется в виду просто галлюциноз. "Смерть" для Ольберта -- всего лишь
эвфемизм. Тем более, что он...
-- Ладно, хватит об Ольберте! Неужели у нас нет других тем для беседы,
мы ведь так давно не видели друг друга? Лучше скажи мне, дорогая, почему ты
ни разу не навестила меня за все эти долгие, долгие годы?
-- "Эти долгие, долгие годы". Ужасно звучит, как нытье шарманки.
Подайте нам монетку.
-- Ты, как прежде, язвительна, моя Беттина. Мы ведь выбрали тот пароход
из-за его имени. Из-за твоего имени. Мысленно разбивая о его борт бутылку
шампанского, я цитировал английскую загадку о Бетси, Лиззи и Бесс, которые
ходили с корзинками в лес. Собранные ими грибы не были разделены на три
порции. Ты сказала, что после смерти не стоит цепляться за старые привычки.
И все же я благодарен тебе за то, что ты осталась такой же, как была, той
самой едкой Елизаветой по прозвищу Кислота, какой была еще в школьные годы.
Помнишь, твое детское прозвище -- Кислота? Я рад, что ты не луч и не парящая
вуаль. Беседуя с лучом, я вряд ли смог бы выговорить имена "Бетси", "Лиззи"
и "Бесс". Эти имена были бы съедены светом вместе с корзинами, их снесло бы
в миры, где не найти ни тропинки, ни грибка. Я счастлив, что ты ограничила
свои превращения чепцом.
-- Говоря о чудовищной власти привычек, я имела в виду вовсе не Вольфа,
Ольберта и Китти. Они...
-- Оставим их! Вспомним лучше молодость, наши путешествия... Нам дарили
цветы на причалах. Из окон поезда мы любовались фейерверками...
-- Я скорее намекала на тебя, ведь ты невольно переносишь на других те
недостатки, которым сам подвержен. Например, ты...
-- Ах, да. У меня вообще много недостатков. Я надеюсь, наш разговор не
перейдет в тривиальное супружеское брюзжание?
-- Я отнюдь не собираюсь упрекать тебя в чем-либо. Тебе самому, видимо,
хотелось бы, чтобы наш разговор стал чем-то привычным, вроде препирательства
двух старых супругов.
Старик вскакивает с кровати и начинает раздраженно расхаживать по
комнате. На нем шелковая пижама, расшитая серебристыми водорослями, которые
слегка мерцают в темноте.
-- Кажется, я больше похож на привидение, чем ты? -- весело спрашивает
он.
Однако старуха строго стучит спицами.
-- Привидение? Может быть, ты меня считаешь привидением?
-- Я пошутил. Вовсе не хотел тебя задеть. Но, согласись, привидением
считается особа, которая после своей смерти является кому-либо из живых в
неурочное время, то есть после полуночи. Так ты и поступаешь, Елизавета.
-- Глупости. Я всегда считала и продолжаю считать, что быть призраком
-- величайшая пошлость.
-- Да, но ты появилась здесь только после двенадцати, да и то лишь
тогда, когда я выключил свет.
-- Ошибочка! Я сидела здесь и раньше и мирно вязала. Ты просто не
замечал меня. Точнее, делал вид, что не замечаешь. Ты до такой степени
усовершенствовал свой самообман, что тебе легко было убедить себя в том, что
комната пуста. Но я не закончила относительно привычек и недостатков...
-- О, твой педантизм! Твоя аптекарская страсть к последовательному
размещению слов! Ты по-прежнему держишь при себе драгоценный пинцет, которым
когда-то расправляла волокна моей души!
-- Так вот, мы говорили о самообмане...
-- Я действительно поддаюсь наивному самообману, поддерживая беседу с
тобой. На самом деле ты ведь молчишь -- я сам говорю за тебя. В этой
наивности есть, конечно, некоторая доля артистизма. "Я тоже художник!" --
как-то раз сгоряча воскликнул Микеланджело. Я разыгрываю партии двух
собеседников, имитирую оживленный спор. Согласись, для этого требуется
известная изощренность. Впрочем, шизофрения -- величайшая искусница. К тому
же -- длительное одиночество. Я ведь вдовец, дети мои умерли, я давно не
выходил из дома. Все сижу здесь один, забившись в собственную скорлупу. Что
же касается умерших, то я давно наблюдаю за этим народцем и неплохо изучил
их повадки. Они не умеют воспринимать слова и звуки из мира живых. С ними
невозможно беседовать -- они общаются только друг с другом. Поэтому ты,
бедная Лиза, самый бессловесный из призраков, который мне когда-либо
приходилось видеть.
-- Вот как?
-- Да, но я согласен продлить этот хрупкий самообман, поскольку бывают
ведь милосердные иллюзии.
-- Ты так любезен!
-- К чему эта ирония, Елизавета?
-- А что мне еще остается? Если верить тебе, ты сам иронизируешь над
собой. Только все это глупости. Не приходило ли тебе в голову...
-- Лиза, давай вспомним времена нашего знакомства. Как написал Данте:
Мне было восемь, Биче девять лет,
Когда у Портинари мы впервые...
С ней встретились...
-- ...что дело, собственно, обстоит как раз наоборот?
-- Вспоминаешь ли ты старика Портинари? Как он раскачивался под
потолком в своем лоснящемся халате, с толпой попугайчиков на плечах! Как он
пил залпом горячее молоко! Как он надевал на лоб зеленый козырек, бросавший
мертвенную тень на его пухлые щеки? А помнишь ли, как, указав на большой
пыльный кактус...
-- Неужели ты до сих пор не понял, что и Вольф, и...
-- ...он предложил нам взять конфеты, привязанные к шипам. А когда мы
укололись, он так обрадовался, что обрызгал мелкой слюной всю комнату...
-- ...и Ольберт, и Китти, и герцог...
-- И стоял прекрасный летний день, и солнце вдруг хлынуло пыльными
потоками в гигантские окна, и стариковский особняк утопал в цветущем
жасмине... а за окном молились спортсмены, обнимая на прощанье своих грубых
дам...
-- ...и сегодняшние гости...
-- А музыка, медленно плывущая в сонном небе сиесты? И чьи-то крики:
"Старикан! Старикан!" И та музыка, плывущая сквозь сиесту...
-- ...и все те люди, которых ты называл мертвецами...
-- Подожди! Остановись на минуту. Припомни хотя бы ту сладкую музыку
сиесты!
-- ...все эти люди на самом деле отнюдь не мертвецы, а просто-напросто
живые.
-- Однако... Я видел: сквозь них просвечивало. Сквозь них проступала
сиеста!
-- Просвечивало сквозь них только потому, что зрение твое с некоторых
пор изменилось.
-- Не надо уже об этом, Давай прекратим этот разговор.
-- ...и не только зрение, но и сам ты...
-- Неужели нам нечем заняться? Хочешь, я тебя поцелую?
-- И сам ты уже не тот, каким был...
-- Прекрати! Меня сейчас стошнит!
-- Пойми же, наконец, что ты...
-- Остановись!
-- Пойми же, наконец, что ты давно...
-- Нет! Молчи, Лизонька, молчи!
-- Пойми же, наконец, что ты давно умер, дорогой.
16
Утро. Прекрасное утро. По дому, вместе с посвистыванием птиц из
раскрытого, сверкающего (после ночного дождя) сада, разносится сладкий
граммофонный голосок. Это Китти снова с раннего утра крутит и крутит
заезженную русскую пластинку. Ольберт, проходя через столовую, тихо
подпевает. Он, видимо, только что проснулся, на нем пижама. Тяжело дыша, со
свистом втягивая воздух, почесываясь и шаркая, он проходит в гостиную и
долго стоит в дверях, оглядывая изгаженный ковер, разбитые бокалы,
опрокинутые кресла. Затем он медленно продвигается среди всего этого, иногда
поднимает и изумленно рассматривает тот или иной предмет: чей-то хлыст,
ободок очков (их, видно, долго топтали ногами), невредимые женские часики на
черном ремешке.
Стеклянная дверь в сад, которая уже давно находится во власти
сквозняка, толкает сервировочный столик на колесиках, и он послушно, через
всю гостиную, катится к Ольберту, как бы предлагая ему последнее, что еще
уцелело на его поверхности -- вазочку со сливами. Ольберт берет сливу и,
чмокая, съедает, глядя в сад. Косточку он по рассеянности опускает в
кармашек пижамы.
-- Как бы она там не проросла, Ольберт, -- замечает из глубины комнаты
старик, уже давно занявший свое место рядом со стеклянным Роем.
Он, как всегда, одет с подчеркнутой аккуратностью, в сером
респектабельном костюме.
Ольберт ничего не слышит. Съев несколько слив, он уходит, видимо, для
того, чтобы переодеться к завтраку.
Через полчаса вся семья уже сидит за столом. Здесь же, конечно, и
герцог.
Вольф благоухает фиалкой. Даже он сегодня в хорошем настроении и
рассказывает веселую историю про какого-то государственного изменника.
Старичок сидит на своем месте во главе стола. Он натянуто улыбается, но не
спешит притрагиваться к еде. Внимательно осматривает прозрачный и
трепещущий, словно от страха, кусочек желе. Затем возвращает его обратно на
тарелку.
-- Пора, пора переходить на диетическое питание! -- бормочет старик. --
Диета! Строжайшая диета! Эти разносолы не доведут до добра!
Ольберт и герцог обсуждают вчерашний вечер, вернее, с трудом
припо-минают.отдельные его моменты, так как за ночь почти все вылетело у них
из головы. Китти, вертясь, нетерпеливо расспрашивает их, она желает знать
каждую подробность: сколько было гостей, как был одет каждый из них, из чего
состояло угощение, какие реплики произносились во время чтения, и так далее.
Ольберт, как всегда повязавшийся огромной салфеткой, тяжело пыхтит, пытаясь
вспомнить хотя бы что-нибудь более определенное. Герцог потирает лоб тонкими
изящными пальцами, словно это может прояснить его память.
Старик не особенно прислушивается к их болтовне, но вдруг до него
доносится возглас Китти: "Почему мы так давно не навещали папочку? Он,
наверное, уже соскучился без нас". Старик замирает с куском бело-радужного
желе на вилке. Он -- весь настороженность. Рука Китти указывает куда-то в
раскрытые двери веранды, куда-то вверх, в безграничную даль, как будто она
предлагает навестить папочку непосредственно в небесах. Однако при более
внимательном рассмотрении можно заметить, что ее палец направлен туда, где
над пышной, слегка размытой зеленью сада виден крутой гребень холма.
-- Вряд ли он успел соскучиться, Китти, -- говорит Вольф. -- Мы были
там не так уж давно. К тому же его могила расположена в таком месте, откуда
виден весь наш дом и сад. Таким образом, он может всегда наблюдать за нами.
Но, если тебе хочется, мы пойдем туда сегодня вечером, когда я вернусь с
работы, поскольку тебе и Ольберту полезно будет прогуляться в гору. Впрочем,
ты вроде бы хотела в зоопарк.
Старик откладывает вилку и встает. Выходит на веранду и некоторое время
напряженно всматривается в темную неподвижную точку на вершине холма.
За его спиной в столовой снова слышен оживленный разговор, но смысл
слов уже почти не доходит до него. Кажется, беседа идет на незнакомом языке.
Ему удается разобрать одно лишь, особенно громкое, восклицание:
-- Уф, Тадеуш Майский! У, лисятник Санского!
Старик брезгливо пожимает плечами и перестает прислушиваться к их
болтовне, которая стала нечленораздельной.
Посмеиваясь и тряся головой, он надевает легкую соломенную шляпу, берет
трость, перекидывает через руку светлый плащ.
-- Я иду на прогулку. Рой, -- обращается он к стеклянной собаке. -- Ты,
может быть, составишь мне компанию? Я, собственно, направляюсь на любопытную
экскурсию. Хочу совершить осмотр собственной могилы. Как тебе это нравится,
а, Рой?
Легкой походкой он выходит из дома и идет через сад, помахивая тростью.
Выходит на сонную улицу, где ноги глубоко увязают в мягкой пыли. Прямо
посреди улицы кто-то оставил одинокий стул. Старичок направляется к этому
стулу и вдруг пинает его ногой с такой силой, что стул отлетает на несколько
метров и ударяется о дощатую стену какого-то сарая. Отзвук грохота на
некоторое время повисает в тишине, но на улице по-прежнему не видно ни души.
Слышна только Киттина пластинка, разносящая шероховатый вращающийся тенор.
Если кто и выглянет из окон дремотных пыльных вилл, то не увидит никого,
кроме элегантного старика, быстро поднимающегося в гору. Последние дома
остались позади. Теперь его окружают только коричневые, умерщвленные зноем
кустарники, которые тянутся по склону холма длинными унылыми полосками.
Хрупкий стрекот слышится из бесцветных благоухающих трав. Эти лекарственные
запахи напоминают об укромной кумирне, спрятанной в глубине оставленного
дома.
Он оборачивается. Пейзаж кажется наполовину засосанным в ракушку
улитки. Где-то очень далеко, в центре игрушечной спирали, виднеются
раскрытые железные ворота, за ними мутная зелень сада и почти совершенно
растаявшие очертания дома. Оказывается, он удалился уже на значительное
расстояние. Однако, прежде чем уйти, надо было, пожалуй, навестить
комнатушку, наполненную сухими цветами, и попрощаться с бедняжками. Но тут
же он хлопает себя по лбу.
-- Ах, да... Теперь они не более чем стекляшки. Те, чьи образы они
бережно представляли, оказывается, вовсе не нуждались в представительстве.
Но все равно, не мешало бы пройтись напоследок по дому, по Дому Сухих
Цветов. Заглянуть во все комнаты. В комнату Ольберта, где на храмоподобных
письменных столах и шатких конторках возвышаются громоздкие пишущие машинки.
В комнату Китти, где игрушки образуют целые наслоения, где с утра поет
граммофон, где на специальной полочке стоят две священные склянки с
заспиртованными рукой и сердцем директора театра, трогательно прикрытые
ковриками, вышитыми с детской небрежной тщательностью. В комнату Вольфа, где
пахнет химией и фиалкой, а на пустом пространстве стола разложены в
идеальном порядке блестящие инструменты. Известно ведь, что перед отъездом
следует пройти через все комнаты, -- замечает старик.
-- Перед отъездом? Ах, да!.. (Второй раз за эту минуту протяжное
рассеянное восклицание.) Впрочем, мне надо сделать крюк, то есть... Я имею в
виду совершить движение по полуспирали -- тогда я попаду вон туда и окажусь
прямо над домом.
И старичок, все еще что-то бормоча, продолжает свой путь.
Несмотря на то, что ему приходится взбираться в гору, он испытывает
удовольствие от прогулки. Воздух почти холодный, несмотря на огромное
солнце. Ему кажется, что он идет неторопливо, но всякий раз -- стоит ему
только оглянуться -- он убеждается, что преодолел большое расстояние.
Наконец впереди, на конце гребня, он видит темный прямоугольник,
отчетливый на фоне неба. Старик не сомневается, что преодолеет оставшееся
расстояние с божественной легкостью. И действительно, несколько шагов -- и
он уже подходит к небольшому надгробному памятнику. Он видит перед собой на
песке легкую тень тонкого маленького господина с тросточкой. Эта тень
впитывает в себя отдельные песчинки, клочки пожухшей травы, полураздавленные
ракушки улиток. Тень падает даже на памятник и косо скользит по мрамору. Еще
минуту назад его бы обрадовала эта тень в качестве доказательства
собственной осязаемости, как обрадовал его отброшенный стул, но что значит
этот воздушный отпечаток по сравнению с именем, выбитым на мраморной доске?
Он читает свое собственное имя, дату рождения, дату смерти. Позолота
скромно прячется в глубине букв. Его взгляд опускается ниже, словно ожидая
обнаружить примечания, комментарии. Но ниже только прожилки мрамора, и он
рассеянно перебирает их взглядом, пытаясь превратить их в письменные знаки.
Теплый мрамор похож на кожу, густо усыпанную веснушками. Пятна не выдают
секретов. Хотя секреты и производят пятна.
-- Уп-уп, Тадеуш Манский! Уп-уп, лисятник Санского! -- задумчиво
повторяет старичок случайно услышанную фразу, постукивая концом трости по
надгробию.
Отсюда, с обрыва, действительно открывается превосходный вид. Дом и сад
видны как на ладони. Видно, как Вольф в синем пальто медленно идет по
дорожке, направляясь к автомобилю. Ольберт спит в кресле на веранде,
подставив лицо лучам солнца. Китти и герцог играют в крокет на небольшой
площадке. Герцог согнулся вдвое и, расставив тонкие ноги в белых брюках,
размахивает молотком. Он как будто превратился в часы с маятником. Кажется,
так никогда и не осмелится ударить по мячу. Китти бежит за укатившимся
мячиком, подбирает его, останавливается и смотрит вверх, на гребень холма.
Она очень похорошела за последние сорок дней -- в этом возрасте все
происходит быстро. Грядущая девическая невинность скоро сотрет с ее лица
память о преступлениях детства. Старик ясно представляет себе, что она
сейчас видит: нависающий над садом холм, крошечный квадратик надгробия и
рядом с ним силуэт человека с тросточкой. Он поднимает руку и медленно машет
ей, как пассажир с борта отходящего парохода. Китти засовывает подмышку
крокетный молоток и машет в ответ рукой с зажатым в ней мячиком. Кому?
Одинокой могиле? Прогуливающемуся незнакомцу? Старичок уже не думает об
этом. Он поворачивается спиной к обрыву и дому.
Он пустился в путь. Идет, размахивая тростью. На ходу, размышляя,
опускает пальцы в жилетный карман. Вынимает банковскую карточку, задумчиво
смотрит на два пересекающихся нимба на ее поверхности. Карта хозяина. Если
счет не аннулирован, то денег хватит как минимум на полвечности. Тогда к его
услугам транспорт и комфорт транспорта: ехать, лететь и плыть; поезда,
автомобили, самолеты и корабли, горькое пиво, солнце, билеты, снова билеты,
завтраки, обеды и ужины, окошки -- овальные, квадратные, с закругленными
уголками, с зеленоватыми стеклами, шторки, столики, откидные. Легкие,
откидные столики. Кресла, купе, каюты, кабины...
Если же счет аннулирован, тогда предстоит пеший ход, легкий откидной
пеший ход. Пустыни, и паперти, и сон в садах, и постепенно нарастающая
святость, и комфорт постепенно нарастающей святости. Старичок идет быстрее.
Он бодр. Быстрее.
Постепенно ему становится виден край другого плато, от которого он
отделен расщелиной. Виден склон, песчаный косогор, сосны, корни сосен. Все
видно отчетливо. Необычная ясность. Все словно бы залито стеклом. Более нет
никакой расплывчатости, никакого расплывания. Ясно виден дровосек, только
что подрубивший своим топором ствол дерева, превращенного некогда в тотемный
столб. Руки язычников вырубили на этом стволе череду нанизанных друг на
друга -- грубые деревянные лица, снабженные незамысловатыми признаками
зверей и божков. При падении этот столб проломил крышу дачной веранды --
витражи веранды частично разбились и пестрыми осколками лежат в траве. С
другой стороны дача срезана наполовину как будто ножом -- так называемый
демонстрационный срез, позволяющий видеть внутренность комнаты: срез
проходит через буфет, он отхватил край стола, даже крошечный краешек подошвы
ботинка девочки, которая лежала на софе. Это не Китти, другая девочка лежит
на софе. Можно видеть подробно цветы и ягоды, изображенные на темной ткани
ее платья. Срез -- как будто здесь скользнула алмазная гильотина -- отхватил
даже кусочек стеклянной вазочки с вареньем, которая стоит в буфете. И теперь
малиновое варенье медленно стекает по матовому срезу стекла вазочки, по
светлому срезу древесины буфета, стекает, сверкая своими яркими бугорками,
полупрозрачными, сквозь красноту которых проступают бесчисленные белесые
малиновые косточки, которые так часто застревают -- и надолго! -- между
зубов любителей малины. Дровосек явно приготовился позавтракать. На свежий
пень, оставшийся от срубленного тотемного столба, он постелил белую бумагу,
а на бумагу положил кусок черного хлеба, щедро смазанного творогом. Пока что
он еще не приступил к еде, а только наклонил к краюхе свое лицо и жадно --
видимо, предвкушая трапезу, -- принюхивается к запахам хлеба и творога, к
которым присоединился также острый запах только что обнажившейся древесины.
Еще одна девочка -- немного постарше, чем та, что лежит на софе, -- смотрит
на дровосека из окна следующей дачи, чья бревенчатая стена, украшенная
деревянными резными коронами, виднеется между двух огромных елей. Видно, что
эта девочка долго болела, но теперь пришло время выздоровления - впервые за
долгое время на ее лице появился румянец, а глаза заблестели блеском
приближающегося здоровья. Все это очень ясно стapичку.
-- Я, правда, не вижу бобров, которых обещал мне Ольберт, - замечает
старик. - Видно, мой сынок-дружок шел сквозь влагу, мне же, отцу причитаются
ясность и сухие тропы. Что ж, отлично. Здравствуй же ясность. Здравствуйте,
сухие тропы.
1984
(редакция -- ноябрь 1995)
II
Холод и вещи
На дощатом полу веранды, среди рассыпавшихся цветов,
нашли только ленточку и маленький ледяной крестик,
который через несколько минут растаял.
"Пол-яблочка "
Содержание
Михаил Рыклин
Триумф детриумфатора 2
I. Кумирня мертвеца 23
II. Холод и вещи
Пассо и детриумфация 67
Знак 77
История потерянного зеркальца 91
История потерянного крестика 108
История потерянной куклы 126
Лед в снегу 133
III. Еда
Около молока 150
Супы 158
Яйцо 161
Горячее 192
Грибы 196
Ватрушечка 204
Кекс 212
Бублик 217
Колобок 224
Каша с медом, лед с медом, холодец 267
IV. Мой путь к Белоснежному дому
День рождения Гитлера 286
Мой путь к Белоснежному дому 289
Бинокль и Монокль I 294
Комментарий 312
Бинокль и Монокль II 318
Инструкция по пользованию Биноклем и Моноклем 339
Предатель Ада 340
Философствующая группа и музей философии 357
Голос из китайского ресторана 364
Эпилог 372
Михаил Рыклин
Триумф детриумфатора
Линия и буква
В свой тридцать один год Павел Пепперштейн не просто писатель со
стажем. Я вообще не знаю, когда он начал писать. Первый из публикуемых здесь
текстов был написан еще при жизни Брежнева (в 1982 году), в эпоху, которая и
людям постарше теперь представляется почти мифологической. И хотя автору
было тогда всего шестнадцать, он утверждает, что это далеко не первый из
написанных им рассказов. Паша -- случай в истории литературы довольно редкий
-- приходит к нам со своим письмом прямо из детства. Такое невообразимо
раннее начало составляет часть его литературного проекта. Автор "Диеты
старика" решил, что вместо того, чтобы, подобно Набокову и Прусту, постоянно
обретать утраченное детство, вступая в сложные игры с Мнемозиной, лучше
вообще из него не выходить, оставаться в нем. Это можно расшифровать и так:
постоянно созревать внутри собственного детства, давать взрослеть эйдосу
детства, не расставаться с игрушками и тогда, когда рисуешь, пишешь, делаешь
инсталляцию или создаешь "тексты дискурса" (так Паша называет свои более
поздние теоретические вещи). Конечно, подобной эйдетизации поддается не
всякое детство, но такое, которое содержало в себе возможность практически
бесконечного опосредования -- и притом еще ребенок должен суметь
воспользоваться стечением обстоятельств. Уникальность случая Паши в том, что
оба эти условия совпали. Он был ребенком внутри очень важной отрасли
советского книжного производства, иллюстрирования и написания детских книг.
Мифология детства создавалась В.Пивоваровым, И. Пивоваровой (родителями П.
Пепперштейна), И.Кабаковым, Э.Булатовым, Г. Сапгиром и другими членами
концептуального крута одновременно с критической рефлексией по поводу
возможностей такой мифологии, ее законов, степени вмешательства идеологии и
т.д. Как русская литература вышла из гоголевской "Шинели", так московский
концептуализм во многом вышел из иллюстрирования детских книжек. Павел
Пепперштейн рос, можно сказать, в эпицентре этого процесса, вещи приходили к
нему вместе со своими эйдосами. Экспериментальность его детства -- в том,
что оно располагалось внутри "индустрии детства", было многократно
опосредовано; в результате непосредственно воспринимался сам акт
иллюстрирования. Ближайшим эквилентом такого детства является не состояние
взрослости, когда принцип реальности, прикрываясь щитом ответственности,
доминирует в той или иной форме , а некая былинная старость, по сравнению с
которой столетний юбилей -- это просто детская шалость. Старик в "Диете
старика" не только не отучился лепетать, но изрядно усовершенствовал это
умение и ценой длительного упражнения в лепете обрел право говорить вещи,
которые конвенция строго-настрого запрещает произносить взрослому (зрелому)
человеку. Впрочем, для прямого выпадания из детства в баснословную старость
необходимо соблюсти одно условие: жизнь в таком случае должна с самого
начала быть перемешанной со смертью, которая не имеет возраста и поэтому
может произвольно украшать себя атрибутами детскости и стариковства.
Ребенок, упорно сопротивляющийся выпадению из поддающегося опосредованию
детства, -- тот же древний старик, отказывающийся принимать пищу и тем самым
продолжающий стареть без конца. Иначе и быть не может: ведь то, что обычно
следует за детством, здесь
a priori объявляется достоянием самого детства (становящегося как бы
метадетством). Если из обычного детства выпадают во взрослость, из
метадетства не выпадают вообще: старость является точно таким же его
атрибутом, как и младенчество. Героем рассказа "Кумирня мертвеца",
открывающего книгу, является старичок, сидящий рядом с собакой по имени Рой,
точной стеклянной копией умершей собаки. Из реплик персонажей мы понимаем,
что старичок давно умер. Да и те, кто говорят о нем, сами зависли между
жизнью и смертью (куда ближе к смерти) и не умирают разве что потому, что на
них смотрит стеклянная собака, единственный "живой" герой рассказа. Своей
стеклянностью эта собака оживляет все остальное (в тексте есть намек, что он
написан скульптором, создавшим собаку). Сумей она закрыть глаза -- и все
исчезнет, потому что повествования Пепперштейна длятся благодаря мертвому
взгляду. В рассказе "История потерянного зеркальца" героем является
небольшое зеркало с изображением Кремля, которое переходит от девочки к
симпатичному матерому бандиту, знакомится с его пистолетом, оказывается
косвенной причиной его осуждения и смерти, попадает к другой девочке, дочери
раскрывшего преступление следователя, после чего возвращается к своей
первоначальной обладательнице, чтобы среди прочего запечатлеть акт ее соития
с виолончелистом по фамилии Плеве и многие другие детали. Вся проза
Пепперштейна в той или иной мере зеркальна. Даже если зеркало не становится
действующим лицом, все непрерывно отражается во всем. Невозмутимая
зеркальность позволяет избежать психологизации и так называемой "лепки
характеров", которой обычно кичатся профессиональные литераторы. Мир зримого
и мир текста в этой прозе строго разделены. Профессиональный график,
Пепперштейн, как никто другой, осознает произвольность и тщетность любого
иллюстрирования. Линию отделяет от буквы невидимая, но несводимая дистанция.
Более того, это два радикально различных смыслообразующих принципа. Зрение и
письмо значимы друг для друга в силу разделенности, которая достигает своего
апогея в тот момент, когда они, как кому-то может пригрезиться, совпадают,
исчезают друг в друге. Пожалуй, только тексты профессионального рисовальщика
могут с такой неизменной настойчивостью демонстрировать то, чем литературное
зрение отличается от простого умения видеть и является по отношению к этому
умению разновидностью самопросветляющейся слепоты. Эта невидимая
демаркационная линия непрерывно воспроизводится актами "пустотного
иллюстрирования", иначе говоря, демонстрацией простой интенции что-то
прояснить в тексте с помощью рисунка (и, конечно, наоборот). На аутизм
обречен, собственно, не рисунок, а само стремление перекодировать линию в
букву.
В текстах Пепперштейна присутствует воля не делать литературу
профессией. В этом она асимметрична рисованию. Акт рисования график
превращает в средство обмена с миром, обеспечивающее ему условия
существования. Даже не работая на заказ, он внутренне принимает в себя
взгляд Другого (на профанном языке это также называется "учитывать чужой
вкус", воспроизводить предполагаемый вектор желания). Зато в качестве
пишущего он берет реванш, отказываясь вступать в обмен. Он не вступает с
читателем в компромисс, не подстраивается под него, вынуждая его пройти весь
путь, который преодолел автор. Для читателя такая установка крайне
непривычна: ведь на бессознательном подстраивании под него и строится
литературный успех в обычном понимании слова. Писатель принимается
аудиторией с энтузиазмом потому, что до этого он с не меньшим, хотя и
стыдливо скрываемым энтузиазмом принял эту самую аудиторию в себя. В
домогающейся успеха литературе всегда уже учтен ее читатель, и она
ограничивается тем, что просто "разрабатывает" его. Только небескорыстное
простодушие журналистов заставляет их усматривать в этой встрече некий coup
de foudre, что-то неожиданное и непредсказуемое. Пепперштейн -- редкий
писатель, который действительно не знает и даже не хочет знать, каким будет
его читатель. Со стороны он вполне может сойти за Нарцисса, тем более, что
его нарраторы, как правило, не скрывают своего нарциссизма, при виде
читателя в ужасе закрывая лицо руками. Но эти тексты не нарциссичны, если
понимать под нарциссизмом любование самим собой. Это через них, напротив,
постоянно любуются чем-то совершенно иным, калейдоскопическим струением
внешнего. Автор все время хочет разглядеть, прописать нечто настолько
мелкое, что оно может представлять разве что интеллектуальный интерес.
Принимая сторону детали, он незаметно принимает в себя смерть. Местами его
письмо является уже загробным, вестью с того света. Литература для
Пепперштейна -- это мир возможного, которое, впрочем, не следует путать с
потенциальным, с тем, чему еще только предстоит реализовать себя. Напротив,
лишь возможное, не нуждаясь в воплощении, принадлежит к сфере актуального
постоянно. Герой рассказа "Предатель Ада" изобретает оружие, позволяющее
превращать смерть в перманентное, интенсивное наслаждение, делая ее
желательной и желанной. Тем самым он, подумают некоторые, выбирает сторону
Рая. Но смерти, увы! боятся как раз потому, что она несет с собой чудовищное
по интенсивности наслаждение, граничащее с ужасом и уже не нуждающееся для
самореализации в фигуре личности. Ведь только факт воплощения ограничивает
ужас его известными формами и вообще делает известное известным: за
пределами воплощения -- почему, собственно, развоплощение, несмотря на
местами хитроумные религиозные утешения, так пугает -- не возможно, а
(намеренно не извиняюсь за этот невольный каламбур) необходимо Бог знает
что. В рассказе "Грибы", где дистанция между нарратором и автором резко
сокращается, герой всеми силами пытается стряхнуть с себя галлюциноз, в
отчаянии называя его "первобытным мозгоебством". Зачем? Потому что в его
интенсивном состоянии, "на плато", максимум наслаждения обречен совпасть с
максимумом страдания, на какое-то время делая избыточной, если не излишней
саму форму личности, включая ее аффективный пласт. Плыть в таком состоянии
на автопилоте значит стать простой фигурой бреда. Счастливо избегнув крайне
дискомфортного состояния, герой "Грибов" через несколько часов
вознаграждается целым пучком удачно сцепившихся аффектов, завершающимся
сбором мухоморов (древнейших галлюциногенов).
Теперь, возможно, станет яснее парадокс, связанный с изобретением
"предателя Ада", Койна. Он изобретает невозможное: бесконечно интенсифицируя
связанное со смертью наслаждение, его оружие (о чем ученый умалчивает или,
будучи фигурой сна, не догадывается) претендует заморозить в каком-то
невидимом холодильнике страдание, как если бы это были два разных процесса.
Паша находит из этого тупика оригинальный многоступенчатый выход: во-первых,
изобретение совершается во сне героя рассказа, почти совпадающего с автором,
во-вторых, это происходит во вполне определенном сне. Он приснился потому,
что герой-автор бессознательно хотел заработать много денег, продав свой
сновидческий сценарий Голливуду, "...мною руководило смутное чувство, что
этот несуществующий фильм и эта запись когда-нибудь принесут мне деньги. Это
беспочвенное предчувствие возникло у меня уже во время "просмотра", и оно до
сих пор меня не покинуло". А так как Голливуду можно продать нечто
"массово-развлекательное", сон вполне естественно совершает непредставимое
-- интенсифицирует наслаждение, купируя боль. По сути дела, "предателем Ада"
оказывается не герой сна, а сам сон, взыскующий голливудского Рая. Хорошо
было бы увидеть еще один, симметричный данному, сон, в котором наслаждению
без боли соответствовала бы боль без наслаждения, изобретенная каким-нибудь
угрюмым диктатором в лесах Камбоджи или Туруханского края. Наградой за такой
сон могло бы быть резкое обнищание сновидца.
Если внимательно следить за хронологическим порядком текстов, можно
заметить, что для того, чтобы поддержать акции возможных миров на достаточно
высоком уровне, автору все чаще приходится: а) заставлять своих героев
прибегать к галлюциногенным препаратам и б) под видом комментария создавать
настоящие философские диссертации. Здесь он хорошо вписывается в новейшие
тенденции интеллектуальной русской прозы, которая растворяет уже
растворенный политиками принцип реальности в Реальном (фактически понимаемом
как желание Другого). Специфическая "кислотность" становится условием
письма, стремящегося за пределы социальности, на которую, впрочем, и без
того нельзя опереться, настолько рыхлой является ее ткань.- Другими словами,
препарат довершает дереализацию мира, который и сам несет на себе черты
откровенной бредовости, развиваясь по сценарию компенсированного психоза'.
Убегая от мира, бессильно претендующего воплощать в себе принцип реальности,
герой на самом деле лишь перебегает из одного бреда в другой, скорее всего
даже менее тяжелый. Эта стратегия по-разному преломляется в
"Dostoevsky-trip" В. Сорокина, "Чапаеве и Пустоте" В.Пелевина и "Бинокле и
Монокле" Пепперштейна (написанном при участии С.Ануфриева). Герой этого
текста, фон Кранах, которому пастельные тона Ренуара милее темных фонов его
однофамильца Кранаха и которому СС поручает борьбу с партизанами, пытается
узнать истину о партизанском отряде некого Яснова (Паша расшифровывает эту
фамилию как "Я-снов", но стоит подумать и над такими вариантами: "Я-снова"
-- постоянное возвращение "я" после кислотного растворения -- и "Я-с-новым"
-- возвращение этого "я" всегда новым, но при этом сохраняющим иллюзию
собственной идентичности). Пленный врач отряда Яснова, Коконов (аллюзия
более чем понятная), соглашается "рассказать все" при одном условии: если он
вколет себе и Кранаху некий препарат, кажется, первитин. Немецкий романтик
идет на это и под действием препарата узнает многое об отряде и его
командире, но "истина" оказывается настолько яркой, что он не может ее
записать. Более того, сам критерий отделения фикции от не-фикции пропадает.
"Я" Кранаха оказывается "я-снов", которое под видом партизанского командира
искало самого себя. Проблема "я-снов" в том, что оно не может стать
"я-снова": входя в сны, оно утрачивает и одновременно обретает себя.
Исчезает Кранах, носивший монокль, любивший картины Ренуара, липовый отвар и
"Войну и мир", и явственно проступает черный фон Кранаха, графическая
изнанка его пристрастий. В сны фон Кранаха вселяется некое существо (из
комментария следует, что это Дунаев -- главный герой медгерменевтического
романа "Мифогенная любовь каст") -- или, что более вероятно, сам фон Кранах
становится частью снов этого существа -- которое в дидактических целях,
чтобы отучить его от монокулярного зрения, наносит ему удар биноклем.
Впрочем, бинокулярное зрение рискует оказаться фатальным для немца: его
шансы стать "Я-с-новым", несмотря на данное ему берлинским начальством
разрешение на отдых в Альпах, невелики; отпуск вряд ли поможет ему
"отремонтировать" поврежденное "я".
Тексты Пепперштейна псевдонарративны, в них присутствует своеобразная
воля к незавершенности. Автор не подмигивает читателю из своей ниши, намекая
на то, чтобы они-де уже прошли вместе изрядный отрезок пути и скоро
благополучно придут к финишу. Пепперштейн заменяет креативную установку,
свойственную большинству пишущих, рекреативной: он превращает письмо в
отдых, соглашаясь принять его как поражение (не случайно сборник его стихов
называется: "Великое поражение и великий отдых"). Отсутствие сговора с
читателем заставляет предположить в авторе "Диеты старика" любителя (если
относить этот термин не к качеству литературы, а к установке литератора);
зато от его читателя требуется профессионализм. Паша легко переходит с прозы
на стихи, которые иногда походят на поэмы и занимают десятки страниц,
переходя в теоретические комментарии. Местами эти стихи воспринимаются как
водные преграды, преодоление которых требует обладания подводными крыльями;
в противном случае читатель рискует сразу пойти на дно. Единство книге
придают не нарративные тексты, а комментарии, написанные в основном в
последние годы. Эти "тексты дискурса" категорически не рекомендуется
пропускать: именно в них сконцентрированы самые неожиданные
интерпретационные возможности. Иногда дешифровка на первый взгляд прозрачных
нарративов оказывается крайне сложной и многозначной. Интерпретация здесь --
не менее важный акт, чем написание интерпретируемого текста. В комментариях
все чаще встречаются имена Пруста, Набокова, Кафки, Борхеса, Юнга, Фрейда,
Хайдеггера, переориентирующие ранее написанные тексты на более широкое
культурное пространство, чем то, в котором московский концептуализм
функционировал первоначально. Думаю, что публикация "Диеты старика" бросает
ретроспективный свет на речевую и инсталляционную практику Медгерменевтики,
одним из основателей которой был Пепперштейн. Эти тексты также "не создают
отношений", как и медгерменевтические, через них читатель должен поставить
диагноз самому себе. С графическими же листами их роднит то, что они
подписаны именем собственным и отчасти восстанавливают фигуру авторства.
В фильме П. Гринуэя "Контракт для рисовальщика" дочь хозяйки поместья
роняет в разговоре с художником-графиком любопытное замечание: "Если вы
действительно талантливы, акт рисования полностью поглощает вас, и вы по
определению не понимаете того, что значит видеть. Если же, рисуя, вы
умудряетесь еще и следить за смыслом того, что вы делаете, вы, во-первых,
лишены настоящего таланта, а во-вторых, опасны, так как можете не только
зарисовать, но и заметить нечто вас не касающееся". Смерть рисовальщика в
конце фильма доказывает, что это противопоставление не работает: художник
запечатлел и одновременно заметил знаки смерти другого человека (хозяина
поместья), но не смог расшифровать знаков собственной смерти. Он оказался
талантливым рисовальщиком и неплохим наблюдателем: подвели его непростые
отношения со здравым смыслом, который большинство людей несправедливо
отождествляют с умом. Своим творчеством Пепперштейн стремится избежать
дилеммы, сформулированной английской аристократкой, как это делали до него
Кабаков, Пивоваров, Монастырский и другие художники-литераторы. Линия
дискурса составляет часть его рисования, а рисование, в свою очередь,
вызывает к жизни все новые и новые дискурсивные формации. При всей
интенсивности взаимодействия эти две практики не пересекаются ни в одной
точке, хотя иногда, особенно в инсталляциях, кажется, что они соприкасаются
краями. В результате этой несводимой двойственности ограничиваются как
идеосинкратичность рисования, так и безмерность притязаний слова,
характерная для всего русскоязычного региона (как в досоветское, так и в
советское время). Другое следствие этой двойной игры -- принципиальная
неполнота каждой из задействованных практик, которую автор не только не
стремится скрыть, но и всячески подчеркивает, выдвигает на первый план. Им
отрицается сама возможность органического письма, неизбежными стигматами
которого являются психологизм и эдипизация. Детская литература прежде всего
интересует Пепперштейна в кэрролловском смысле: как литература нонсенса.
Вместо проникновения в жизнь эта литература, прикрываясь дидактическим
алиби, с неменьшим упорством проникает в смерть. В отличие от ценимого
большинством психологизма, нонсенс, сообщником которого является автор
"Диеты старика", при виде жизни постоянно закрывает глаза, стремясь
превратить ее в игру световых пятен за веками. Не случайно у Пруста за
радужной игрой переходящих друг в друга ассоциаций он обнаруживает два
физиологических акта: испражнение и онанизм. С метафорой Паша борется
потому, что все, включая дефекацию и мастурбацию, является метафоричным
изначально, до всякой профессиональной "накрутки". Люди видят сны уже внутри
сна. Поэтому записанный сон неизбежно фальсифицирует сон увиденный. Иногда
между ними возникают странные несостыковки.
В "Толковании сновидений" Фрейд приводит ясный, по его мнению, сон. Это
не собственный сон его пациентки, а рассказанный ей кем-то, т.е. вдвойне
беллетризованный сон (она "слыхала его на одной из лекций о сновидении";
"его истинный источник остался мне не известен"). Отец умершего ребенка,
смертельно устав, лег спать в соседней комнате, но оставил дверь открытой,
чтобы из спальни видеть тело покойника, окруженное зажженными свечами. Около
тела сидел старик и бормотал молитвы. "После нескольких часов сна отцу
приснилось, что ребенок подходит к его постели, берет его за руку и с
упреком ему говорит: Отец, разве ты не видишь, что я горю? Отец просыпается,
замечает яркий свет в соседней комнате, спешит туда и видит, что старик
уснул, а одежда и одна рука тела покойника успели уже обгореть от упавшей на
него зажженной свечи". Анонимный лектор дал этому сну очень простое
истолкование: на лицо спящего отца из соседней комнаты падал яркий свет, и
он вызвал у него мысль, какая возникла бы у него и в бодрственном состоянии
-- в комнате упала свеча и вспыхнул пожар. Возможно, он уже перед сном
подозревал, что старик "не может добросовестно выполнить свою миссию". Для
Фрейда это истолкование, конечно, слишком просто и рационалистично. Он
опровергает его своим обычным, "мягким"(ведь он -- ученый, врач) способом, а
именно дополняя его, снабжая разъяснениями и комментариями ("Мы тоже ничего
не можем изменить в этом толковании, -- разве только добавим..."). Следуют
добавления: содержание этого сновидения "сложно детерминировано", т.е.
далеко от простой физиологической реакции на свет в соседней комнате. Тут
явно замешан порядок речи и бессознательное: ребенок говорит не случайные
слова, а такие, которые были "действительно сказаны им при жизни и связанные
с важными для отца переживаниями. Его жалоба: я горю, -- связана с
лихорадкой, от которой он умер, -- а слова: отец, разве ты не видишь?.. -- с
каким-то нам неизвестным, но богатым аффектами эпизодом". Итак, неизвестное
начинает наполняться аффектами, как бы становясь немного менее неизвестным.
Хотя о природе аффектов мы ничего не узнаем, важно уже то, что они есть.
Фрейд идет дальше и замечает, что в этом сновидении вызывает удивление
то, что оно могло возникнуть "в условиях, требующих, казалось бы, быстрого
пробуждения". Но и здесь можно обнаружить осуществление желания, делающее
сновидение "вполне осмысленным явлением". В чем состоит это желание? Мертвый
ребенок, отвечает Фрейд, ведет себя здесь как живой, он подходит к постели
отца, говорит с ним и берет его за руку, повторяя содержание какого-то
неизвестного воспоминания, "из которого сновидение извлекло первую часть
речи ребенка" ("Отец, разве ты не видишь..."). Отец бессознательно хочет
видеть ребенка живым и, чтобы осуществить это желание, на мгновение
продлевает сон. Он смотрит сон как фильм, в котором его ребенок, по словам
Фрейда, "показан живым". В реальности же, отождествляемой с "бодрственным
мышлением", он непоправимо мертв; поэтому возвращение к ней так травматично
для отца. Заключительная ремарка Фрейда звучит так: "Если бы отец сразу
проснулся и у него появилась мысль, которая привела его в соседнюю комнату,
то он как бы укоротил жизнь ребенка на это мгновение"4.
Все аргументы лектора остаются в силе, но вносимые усложнения
отодвигают их на задний план; они становятся фоновыми для гипотетической
существенности вторичных процессов. Продолжая видеть сон, отец на мгновение
фразы ребенка -- "Отец, разве ты не видишь,, что я горю?" -- продлил ему
жизнь. Но почему только на миг? Сколько длится во сне фраза ребенка? Сколько
фраз было забыто, вытеснено и т.д.? Как вообще увиденное становится фразой?
Фрейд, как и другие великие пророки, оставляет нас наедине с этими
вопросами, побуждая вторгнуться в неизвестное со своими интерпретациями,
дополняющими его собственные, которые, в свою очередь, всего лишь дополняют
"правильное в целом" толкование лектора.
Жак Лакан в "Четырех основных понятиях психоанализа" возвращается к
истолкованию этого сна. Он уже не дополняет, а отвергает теорию лектора,
согласно которой спящий отец пробуждается оттого, что внешнее раздражение
становится слишком сильным, а до этого он лишь реагирует на то же самое, но
более слабое раздражение с помощью образов сна. Нет, утверждает Лакан,
логика пробуждения не связана с силой внешнего раздражения; она
принципиально иная. Сначала спящий действительно защищается от реальности,
от пробуждения в ней. Но потом Реальное, понимаемое как реальность желания,
начинает видеться чем-то куда более ужасным, чем реальность, и именно
поэтому отец просыпается. Он убегает в так называемую внешнюю реальность,
чтобы продолжать спать, оставаясь слепым по отношению к Реальному желания --
действительно невыносимо именно оно. Заключительная формула звучит так:
"Реальность -- это фантастическая конструкция, которая дает возможность
замаскировать Реальное нашего желания"5.
Как видим, от интерпретации лектора не остается ничего, но и
истолкование самого Фрейда переосмысливается настолько радикально, что
становится даже не вторичным, а третичным. Отец просыпается не оттого, что
уже не может продлевать во сне жизнь своего сына, но от того, что не может
вынести Реальное собственного желания, заключенное в упреке сына "Разве ты
не видишь, что я горю?" Пробуждаясь, он совершает акт эскейпизма, перебегая
в ужасную, но выносимую реальность, где спящий старик уронил свечу и его
покойный сын обгорает. Пожар можно потушить, старика разбудить, но ответить
на упрек сына нельзя, потому что его устами говорит бессознательное самого
отца; тому просто некуда от него бежать кроме реальности. Во сне отца, по
Лакану, вообще нет сына, а есть желание отца. Это меняет статус реальности.
У Фрейда он еще довольно высок, хотя несравненно ниже, чем у анонимного
лектора. Французский аналитик играет на понижение: мертвый мальчик в
соседней комнате все же более выносим, нежели "живое" Реальное сна,
принявшее форму упрекающего мальчика.
Славой Жижек распространил выявленный Лаканом механизм на идеологию
вообще. Это вовсе не мир грез, куда можно скрыться от якобы невыносимой
реальности. Она обеспечивает не бегство от реальности, а представляет саму
эту реальность как бегство от Реального. "Идеология, -- звучит формула
Жижека, обобщающая анализ сна о горящем мальчике, -- это иллюзия,
необходимая для того, чтобы бежать от Реального нашего желания" 6..
Вот как далеко завел нас этот короткий сон. А между тем мы даже не
знаем и никогда не узнаем, кому же он, собственно говоря, приснился.
Сновидец безвозвратно потерян уже для Фрейда. Возможно, кто-то рассказал его
лектору, но тот мог сам сочинить его в дидактических целях. Не исключено,
что пациентка Фрейда придумала его для того, чтобы намекнуть на какой-то
нюанс в их личных отношениях, например, на то, что ее лечение не
продвигается так быстро, как ей бы того хотелось, или что она испытывает к
нему тайное влечение. (Тогда фраза: "Отец, разве ты не видишь, что я горю"
-- естественно, приобретает иной смысл.) А что, если бы мы узнали, что
приснилось старику, нанятому читать молитвы по покойному, но не выдержавшему
ночного бдения? Число гипотез умножаемо бесконечно. Возможно, мы так много
знаем об этом сне именно потому, что мы не знаем и не узнаем, чей это сон,
кому он приснился. В результате он является как бы собственностью
интерпретаторов: лектора, пациентки (о ее истолковании мы, правда, ничего не
знаем), Фрейда, Лакана, Жижека и многих других. Их концепции так
захватывающи, что никто, как мальчик в сказке Андерсена, уже не решается
"наивно"спросить: а был ли сам сон? Или он кому-то приснился?
Предлагаемый Пепперштейном выход из этой ситуации состоит в уподоблении
сна тексту. Оба одинаково психоделичны и в равной мере воспроизводят
пустоту. Он вспоминает, как в детстве научился засыпать под "Колымские
рассказы" Шаламова, которые читались по Би-би-си после передачи "Глядя из
Лондона". Они действовали как транквилизатор, хотя -- или именно потому что?
-- их содержание было ужасным. Думаю, это происходило не потому, что
литература-де разрывает связи с реальностью, преображая ужасное в такой же
райский дискурс, как и дискурс о райском, а потому, что в сердцевине самой
реальности лежит радикальное зияние или нехватка. Жизнь не выдерживает этой
нехватки и крошится, стремясь заполнить ее своими выделениями. Паша приводит
интересное место из книги Теренса Маккенны "Истые галлюцинации":
совокупляясь со своей девушкой под грибами, автор в момент оргазма кричит:
"За Владимира!", имея в виду Владимира Набокова. По мнению наркотизованного
здравого смысла, писатель не сумел взять от жизни что-то исключительно
существенное, и он, Маккенна, делает это за него, восполняя, как ему
кажется, то главное, чего недоставало сочинителю "Лолиты". На самом деле
отдаваемого/ возвращаемого здесь недостает не Набокову, а литературе, и
русскому писателю по ошибке благородно возвращают то, что тот и так никогда
не терял. Именно нехватка, зияние на месте того, что в момент оргазма
испытывает, как ему кажется, за писателя псиллоцибиновый гигант, и
составляет притягательность набоковских текстов.
Внутрилитературные сновидения отличаются от дидактических. Я не могу до
конца поверить ни одному рассказу о сновидении, претендующему на научный
статус. Очень интересные сновидения наводят на мысль, что их автор, тот же
Фрейд, -- человек литературно одаренный, хотя до настоящего одиночества ему
еще далеко. Текст окончателен в силу того, что вымышлен до конца, а
рассказанный сон всегда приблизителен, так как, претендуя соответствовать
увиденному сну, он снимает радикальную проблематичность связи
увиденное/записанное. Текст же автономен от порядка видимого, поскольку его
видимое полностью расположено внутри него самого; он перестал заигрывать с
реальностью и полностью черешел на сторону Реального, если пользоваться
языком Лакана. Именно неполная текстуальность "Толкования сновидений"
вызывает к жизни научные притязания его автора. Пашина же способность
сочинять сны полностью лежит в области литературы и не нуждается в
авторитете внешней аналитической инстанции.
Сложной представляется и связь литературы с психоделикой. Многие виды
психоделического опыта настолько интенсивны, что записанным оказывается
нечто иное. Возможно, именно художественная стерильность (вспомним хотя бы
"Искусственный Рай" Бодлера7) основных видов галлюциноза заставляет
испытавших их видеть в этом опыте нечто особенно ценное. Подозрительна сама
беспрецедентность такого опыта на фоне исключительно высокой степени его
повторяемости: хотя переживающие эти состояния люди часто представляются
себе поэтами в высочайшей мере, в этом опыте отсутствует как раз элемент
сделанности, поэзиса. Как можно видеть из рассказа "Грибы", галлюциноз
строится по спортивному сценарию: все определяется тем, кто может лучше
выдерживать напор деперсона-лизующих сил. Я бы назвал такой опыт, на выбор,
или буддизмом спортсменов, или попсовым вариантом просветления. Конечно,
идея литературы в таблетках, прописанная Владимиром Сорокиным в пьесе
"Dostoevsky-trip"8 интересна не только своей буквальностью, но тем, что
препараты потребляются коллективно и разыгрываются по определенному
беллетризованному сценарию. Вообще галлюциноз коммунальных тел отличается
тем, что в условиях распада насильственного коллективизма он легко
отождествляется с нормой. Возникшая эйфория запросто принимается за
"аутентичную" форму существования таких тел, за новую форму социальности и
т.д.. Непонятно, впрочем, и то, к какой норме можно пробудиться из этих
состояний. В "Dostoevsky-trip" также остается неясным, отчего погибает в
конце пьесы группа сторонников поглощения литературы в таблетках: виноват ли
в таком финале еще не опробованный наркотик под названием "Достоевский", или
сыграло роль то банальное обстоятельство, что группе просто некуда
возвращаться, потому что отношение ее участников к `смерти опосредовано не
Богом, а веществом. Пепперштейн избегает такого буквализма: рецептов
потенциального у него так много, что читателю предлагается на выбор любой.
Центральным в "Диете старика" является раздел о еде, где речь идет о молоке,
ватрушечке, супах, горячем, колобке, грибах и т.д. Интересно, что все эти
продукты, кроме галлюциногенных грибов, не съедаются. Съедаемые же грибы
относятся к нетелесному порядку: их поглощение не только не насыщает тело,
но и угрожает растворить ядро личности. Отвергая остальную пищу, персонаж
"Грибов" всеми силами старается не допустить собственной дематериализации,
вступая с грибами в единоборство внутри литературы и в каком-то смысле за
литературу. Не случайно он опирается при этом на китчевую икону Божьей
Матери, кладущую предел стерильной деперсонификации. Ведь само по себе
"грибное сияние" расшифровке и переводу в форму литературы не поддается.
Впрочем, крайний дискомфорт, как выяснилось потом, оказался путем к высшему
комфорту ( утренний эпизод блаженного слияния с природой). Акт поедания
отсутствует не только в текстах, но и в снах Пепперштейна: там сколько
угодно секса, подъемов, падений и неожиданных встреч, часто со свежими,
только что синтезированными сном существами, но что-либо съесть во сне
оказывается невозможным. Только в этом плане, собственно, сон и подобен
тексту, в остальном различия преобладают. Вообще "галлюциноз" у Пепперштейна
является собирательным термином для самых разных состояний, связанных как со
сном, так и с бодрствованием. Раньше нечто подобное именовалось грезой. У
писателя нет рецепта грезы, тем более ее химической формулы. Стало быть,
литература не может быть продуктом какого-то вещества, хотя постоянное
заклинающее повторение определенных слов -- "онейроид", "кайф", "галлюциноз"
-- наводит на ложный след, заставляя предположить, что литературу, в отличие
от пищи, можно потреблять в таблетках или в каком-либо другом виде.
Несколько раз описывается даже специальный браслет, в который вставлены
капсулы с веществами, вызывающими у героев строго определенные состояния по
прейскуранту. Но на самом деле так блаженствовать способны лишь
профессионалы страдания, преследуемые фобиями в сопровождении целой свиты
прихотливых "приколов". Уже герои первого рассказа кажутся сверхживыми,
потому что это -- мертвецы, и каждое из этих "веселых пухлых существ" готово
в любой момент превратиться в "фонтан скорби". Под прикрытием галлюциноза на
поверхность и позднее выгоняются интенсивные потоки смысла. Beщи и люди
выводятся наверх вместе со своими принадлежащими загробному миру двойниками.
Конечно, на них можно смотреть и с точки зрения жизни, но она всегда
подчинена взгляду из иного мира, составляющему "правильную" перспективу.
Только загробность придает людям и вещам приписываемый смысл.
Пепперштейн эволюционирует от приватной мифологии детства через ее
"эйдетизацию" в работах медгерменевтики к работе с продуктами массовой
культуры, со стереотипами как местного, так и западного сознания. Несмотря
на неизменную рекреативную установку, его захватывает процесс
профессионализации в его основных -- галлюциногенной, компьютерной
(обсуждение "Бинокля и Монокля") и интеллектуальной (сочинение "текстов
дискурса") -- ипостасях. Последние по времени нарративы не только
концептуальны, но и занимательны. Это увлекательное чтение, удачно
обрамливаемое многослойными комментариями. У Пепперштейна появляется свой
стиль; и если обычный писатель рассматривал бы его появление как завоевание,
то автор, чье любительство принципиально, писатель, продолжающий
ориентироваться на рекреацию (отдых, otium), а не на креацию (латинский
перевод греческого поэзиса), возможно, видит в этом приобретении нечто более
двусмысленное. Уже медгерменевтическая практика превращала впечатления
детства в эйдосы, лишая их элементов становления. Теперь же мы нуждаемся в
особом метауровне для того,чтобы выделить в текстах то, что еще противится
занимательности и возможности быть поглощенным читателем. Сложность
структуры "Диеты" определяется и тем, что в ней с самого начала встречаются
позднейшие вкрапления, дописывания и переписывания, внесенные иногда через
10-12 лет после написания первоначальных текстов. И хотя райское сознание
собственной неизменности не покидает автора, оно не мешает ему изменяться.
Это видно по тому, с помощью каких приемов им создается в тот или иной
момент впечатление вечности. Его герои перестают пахнуть фиалкой, они уже
подобно статуям не "источают слезы" и не летают над адом на бутерброде,
прикрывшись ломтиком молочно-розовой колбасы. Анатомически эти существа
становятся все более достоверными, обрастают физиологическими признаками и
все новыми предметами туалета. Сам автор понимает взросление как репетицию
смерти. "Сейчас, через много лет, лишь редактируя свои пубертатные
откровения, когда неумолимое половое созревание выталкивает нас за границу
детства, мы многое понимаем. В том числе и то, что нас так же бесцеремонно
вытолкнут из жизни". То, что мы называем "Большой Смертью", лишь завершает
процесс постоянного медленного умирания, приметы которого рутинны и в
основном настолько банальны, что с ними никому даже не приходит в голову
бороться. Книга не случайно называется "Диета старика". Ее автор, едва
перешагнувший тридцатилетний рубеж, является ветераном письма, рисования,
инсталлирования, комментирования. Он понимает, что из детства ему надо,
минуя взрослость, выпасть -- или впасть? -- непосредственно в старчество (с
астрономическим числом прожитых лет)9. Но как совершить прыжок через
привычное взросление? Как избежать взросления не только автора, но и его
текстов? Как избежать наползания времени, медленного затягивания в историю (
как иногда говорят: "Ну, я попал в историю!")? Я не знаю, как это сделать.
За каждым остается святое право закрыть глаза, но изменить вектор протекания
времени, его, как выражался Гуссерль, "конститутивный стиль", неспособен,
кажется, никто. Не взрослеть фактически значит не обращать на взросление
внимания, занимаясь чем-то другим, например, что-то бесконечно обсуждая.
Впрочем, на всякого колобка довольно простоты, и хотя никого нельзя лишить
этого свойства, смысл обладания им подвержен, в свою очередь, закону
колобковости, т. е. закону изменения колобка.
Паша видит свою задачу в том, чтобы "создать памятник эйфории", а для
этого надо "не создавать отношений". Между тем большинство известных
интеллектуальных миров, как ему известно, во-первых, пронизано страданием, а
во-вторых, только и делает, что создает отношения, т.е. принимает во
внимание интересы некоего сообщества. Поэтому герой "Предателя Ада"
недолюбливает интеллектуалов и работает на военных и оборонно-промышленный
комплекс, так как только эти последние способны создать мир, освободившийся
от главного врага Койна, боли. Предаваемый им Ад синонимичен боли, агентами
которой являются, в частности, разного рода интеллектуалы, цепляющиеся за
свое право страдать. Если в "Бинокле и монокле" речь идет об обучении Запада
бинокулярному (фактически полиокулярному) зрению, понимаемому как
психоделическое и коллективное, в атмосфере "Предателя Ада" этот
коллективизм уже безнадежно архаичен и уступает место чему-то принципиально
иному: сверхсовременному оружию, замещающему боль невиданным наслаждением (
о том, что разрушение связки наслаждение / боль объясняется контекстом "сна
о больших голливудских деньгах", я уже упоминал выше). Спасение перестает
быть особым элитарным усилием, но групповой дискурс также подвергается
девальвации. Новая дилемма озвучивается так: либо все просто обречены на
спасение, либо ни у кого нет никакого шанса. Спасение в дискурсе сменяется
спасением во сне. Ликвидируются последние трещины в памятнике эйфории -- он
становится идеально гладким и одновременно безнадежно хрупким, потому что
сон о деньгах, придуманный для Голливуда, может в любой миг уступить место
низкобюджетному сну, герой которого обрекается на бесконечную боль, служащую
изнанкой наслаждения. Кроме того, в несновидческих, как им кажется, мирах,
находящихся во власти так называемой согласованной реальности, господствует
принципиально иная логика: множество таких миров, в настоящем причиняющих
своим обитателям -- при этом, что важно, причиняющих совершенно по-разному
-- интенсивную боль, в будущем претендуют на статус миров без боли. Впрочем,
не это ли упование выдает им ордер на причинение боли в бесконечно
продлеваемом настоящем? Любое обезболивание этих миров -- рискованное
предприятие, так как тогда боль уже нечем будет заклясть: ведь социальные
утопии и есть настойчивое заклинание боли. В основе замены утопии эйфорией
лежит определенная концепция вещи. Пепперштейн считает, что вещь -- это
несводимый остаток мысли, подлежащий спасению, содержащий в себе
нерастраченный потенциал наслаждения. Иногда эта вещь предстает ему в
качестве тела в состоянии перманентного галлюциноза. Текст, в свою очередь,
вынужден замещать тело, потому что это последнее "слишком кошмарно". Текст,
собственно, конституирует неданность тела, прежде всего тела его автора (это
обстоятельство маскирует имя автора, "обезболивающее" отсутствие его
тела)10. В тексте "Философствующая группа и музей философии" тщательно
описываются иногда довольно экзотические предметы, на которых выгравированы,
выбиты или каким-то другим способом записаны философские сентенции.
Содержание этих высказываний никак не связано с предметами, на которых они
записаны. Уровень предметов и уровень высказываний совершенно
самостоятельны: цель записи -- обеспечить каждому высказыванию собственную
уникальную плоскость, на которую оно наносится, и тем самым расцепить его с
другими высказываниями. Зачем производится расцепление, также ясно: это
делается для того, чтобы лишить философский дискурс изначально присущей ему
атональности, полемической заостренности одних высказываний против других.
Каждое высказывание хорошо, если записано на отдельной плоскости и не
претендует опровергать другие. Другие высказывания надо писать на других
плоскостях -- вот и все. Плоскость записи устроена так, что является
предметным эквивалентом высказывания, никак не связанным с его смыслом: в
противоположность иллюстрации, эквивалент успокаивает, "нирванизует"
философскую мысль, действует на нее как накопитель уже не диалектики, а
эйфории. Высказывания могут при случае меняться плоскостями записи -- от
этого их смысл не пострадает. Смысл выводится за пределы диалога. Если
традиционная философия определяется Пепперштейном как "опосредованное
традицией галлюцинирование в логосе", то задача поверхности записи, или
чистой предметности, -- удвоив этот галлюциноз, ликвидировать его. Но
проблема в том, как отделить предмет от субстанции, уже при рождении
сделавшей его своим агентом. Предмет в философской традиции -- и это Паша
показывает на примере Хайдеггера -- это вовсе не испускающее сияние
сокровище, а произведение определенным образом ( в конечном счете
трансцендентально) сконструированной субъективности. Именно в силу того, что
философия как метафизика представляет собой опьянение основаниями, усилие,
связанное с поддержанием мира предметов в статусе предметов, а не чего-то
другого, она не допускает в мир никаких дополнительных видений, онероидов и
других экстатических состояний. Экстатично обоснование мира, а не он сам:
вне опьяненности основаниями есть только физика, пространственные развертки
вещей. В этом смысле "галлюцинирование в логосе", даже в его
"авангардистских" -- хайдегтеровском, дерридианском или делезовском --
вариантах, дело достаточно консервативное и чуждое любой трансгрессии, кроме
трансгрессии самой традиции. Сосредоточив эксперимент в области оснований,
делают следствия из оснований предсказуемыми, не допускают безумия
следствий. Между тем Пашу интересует прежде всего многокрасочное безумие
самих следствий. Именно его он хочет лишить атональности. Скажем, Хайдеггер
постоянно работал со [сказанным-] несказанным, но [сказанным-] несказанным
не любых, а определенных древнегреческих текстов. Качество невысказанное,
естественно, также определялось традицией. Он "пытал" тексты исключительно
мягко, по определенным правилам, создавая подмеченное Пашей впечатление, что
они "сознаются" сами, без какого-либо насилия с его стороны. Тело этого
погруженного в традицию философа как бы заключено в читаемых им текстах (и
"Башмаки" Ван Гога он читает как текст, и "лес во льду", и "лампу Мерике",
если оставаться в жанре философских багателей)11. Поэтому мы и не можем
выделить из этих текстов еще одно, лучащееся оригинальностью тело. Поэтому
"Башмаки" Ван Гога необходимо образуют пару, их нельзя представить как два
разрозненных башмака (полемика Хайдеггера с Мейером Шапиро на эту тему
саркастически проанализирована в книге Деррида "Истина в живописи"); поэтому
же "videtur" и "lucet" противостоят друг другу в немецком глаголе "scheint",
который значит и "светиться", и "казаться" и еще многое другое. Философия --
это агон понятий внутри слов, желание если не ликвидировать их
многозначность, то по крайней мере создать некую иерархию смыслов. Лампа
шваба -- Мерике наделяется атрибутом свечения в ущерб кажимости швабом --
Хайдеггером с постоянной отсылкой к еще одному, не упоминаемому в Пашином
тексте швабу, Гегелю12. В любом акте "окончательного" прояснения, конечно,
заключен элемент магии, точнее, поэзиса, подмеченный Пепперштейном.
Говорение из оснований обречено приводить в экстаз даже неискушенных
слушателей, которые через полчаса после экстаза немеют и не могут передать
услышанное (этот эффект отмечается у всех "говорящих" философов, будь то
Хайдеггер, Лакан, Витгенштейн или Мамардашвили). Почему лампе Мерике
обязательно нужно светиться? Почему оба ботинка Ван Гога нельзя надеть на
одну ногу? Отчего так важно знать, на чью именно ногу, художника или
крестьянки, они надевались? Для обычного шамана эти нюансы столь
незначительны. Почему же здесь они разбухают до космических размеров? Потому
что философия даже после смерти выполняет возложеннную на нее традицией
миссию отделения ложных претендентов от истинных, хотя истина уже давно не
увязывается с присутствием божественной инстанции и принимает профанную
форму ортодоксального говорения. В философии был, есть и будет несводимый
остаток социального, вызывающий у автора "Диеты старика" попеременно
отвращение, восхищение и скуку. Ведь его собственный проект состоит даже не
в ликвидации социальности, -- это непоправимо нарушило бы рекреатавную
установку, -- а в признании ее ликвидированной изначально. Пронизывающая эти
тексты утопия утверждает незначимость того, что объединяет людей, и
стремится к ликвидации человечества по самому мягкому сценарию: называть
пищевые продукты, не поедая их; любить тела настолько нежно и бескорыстно,
чтобы воспрепятствовать их размножению. Старик прекращает есть и скоро
замечает, что все в мире стало лучше; ну, а функция продолжения рода для
него в прошлом. В этих приватных галлюцинациях есть мудрость и именно
поэтому в них нет любви к мудрости, принимающей форму агона, спора, диалога
друзей: обладание даже самой хрупкой софией заставляет дистанцироваться от
философии. У Паши это дистанцирование принимает форму очаровывающего его
притяжения: и любовь к мудрости он замышляет ликвидировать, любя. Во всяком
случае, степень интеллектуальности его галлюцинирования постоянно
возрастает. То, что еще недавно в русскоязычном регионе представлялось
всеобъемлющей литературной средой, в которой проживались миллионы жизней,
теперь стремительно капитулирует не только перед компьютером и препаратами,
но и перед мыслями. Она быстро интеллектуализуется, компьютеризуется и
наркотизуется. В результате вчерашние изгои получают шанс -- или
подвергаются опасности, в зависимости от глубины их постижения, стать
модными авторами.
Десять лет тому назад С.Ануфриев, Ю.Лейдерман и П.Пепперштейн основали
группу "Медицинская Герменевтика". Паша определил ее как "высказывающуюся
пустоту". Первоначальная греза ее участников состояла в том, чтобы
отказаться от слов в пользу терминов, создать чистый язык терминов. Слова не
устраивали медгерменевтов тем, что, так как они были придуманы не ими, срок
их жизни был им также неподконтролен. ""Условия" прочих слов, которые не
являются терминами, расплывчаты, -- поясняет Паша. -- Поэтому время,
отпущенное им, кажется вечностью. Термин же определен, он рожден
искусственно, поэтому его время -- живое и ограниченное время несовершенного
создания". Время жизни обычного слова велико, и никто не в силах его
укоротить; возможно, ничто так не ограничивает демиургическую претензию
отдельных лиц, как слова. Прием медгерменевтики состоял в том, чтобы как
можно больше слов превратить в термины, тем самым взяв срок их жизни под
контроль. Если, скажем, колобку суждена долгая жизнь, то изобретенный термин
"колобко-вость" будет жить столько времени, сколько пожелают его
изобретатели. Члены группы придумывали целые пласты терминов, становясь
хозяевами собственного мира. Часто это были аппроприированные слова
обыденного языка ("ортодоксальная избушка", "площадки обогрева", "Белая
кошка"), а иногда в термины превращались имена собственные (принцип
"Ко-нашевич"). При этом теоретический дискурс, с одной стороны, снижался,
сближаясь с обычным словоупотреблением, а с другой -- беспредельно
расширялся: ведь теоретическим могло стать буквально все. Тем самым
завершалась и одновременно доводилась до абсурда советская картина мира,
строившаяся из фрагментов произвольно скомпонованной ортодоксальной речи.
Теоретизирование медгерменевтики развивалось на фоне энергетического упадка
советской идеологии и было своеобразной формой ее приватизации. Потом
случилось неожиданное: вакуум социальности так и не был заполнен, напротив,
катастрофически расширился, и то, что еще недавно так страстно обсуждалось в
узких кругах, стало расти повсеместно, как сорняк. Проблемой стало хоть
какое-то ограничение пустотностью стремительно набухающей пустоты. Контуры
новой ситуации прихотливы и постоянно меняются; в результате никто не знает,
как не быть имманентным ей. Герметичное становится читабельным,
трансгрессивное -- модным. Что такое московская концептуальная традиция hie
et nunc, в каком отношении стоит она к тому, что претендует быть актуальным,
неясно, видимо, не только мне. Особенно эта неясность дает о себе знать в
культуре, пока еще не выработавшей механизма музеификации и пытающейся
вместо этого поддерживать акции "настоящего момента" на неимоверно высоком
уровне. Эта попытка каждодневно проваливается и возобновляется, чтобы
провалиться и возобновиться снова.
Медгерменевтика постоянно изобретала термины, стремясь наводнить ими
мир, вызвать панику на бирже понятий; за инфляцией и крахом должно было
последовать небесное спокойствие, самодостаточность свежевы-печенного и с
тех пор постоянно заново выпекаемого космоса. Что отличает индивидуальное
творчество Пепперштейна от этой групповой стратегии? Почему одни тексты он
публикует под своим именем, а другие в качестве части треугольника "старших
инспекторов"? Ясно, что эти стратегии переплетаются довольно причудливым
способом: отчуждая значительные текстуальные массы в пользу группы, каждый
из ее участников получает преимущество, избавляясь от бремени имени
собственного, обеспечивая столь необходимую богам анонимность, выражающуюся
в умножении их имен. Возвращается ли Паша к имени собственному в "Диете
старика", на титульном листе которой остается только его имя-псевдоним? В
этих текстах нарушены многие принципы обычного авторства, но для нас не
является тайной, что эти нарушения ("инновации") только усиливают авторство
как безличный механизм, как инфраструктуру. В последнем смысле его, видимо,
не дано избежать никому: ведь для создания имени здесь не нужна даже
подпись. Паша черпает свое неавторство из достаточно глубокого источника --
его изначальной чуждости самому себе. Эта чуждость породняет его со всем
иным. Во всяком случае, такова логика его ответов Илье Кабакову в каталоге
их выставки "Игра в теннис". "Кабаков: Ты уже давно выставляешься за
границей, в "чужом месте". Что значит говорить "чужим" на "чужом" языке о
"чужих" проблемах? Или слово "чужие" здесь некорректно? -- Пеппершшейн: Есть
известные слова Кафки, адресованные его другу Максу Броду: "Как я могу иметь
нечто общее со своим народом, когда у меня нет ничего общего с самим собой?"
Я бы даже радикализировал это высказывание: мы настолько чужие самим себе,
что все остальное становится для нас родным". Заметим, что Кабаков
проницательно и аккуратно берет слово "чужой" в кавычки, дистанцируясь от
его прямого смысла, лишь зондируя почву, проверяя, что оно значит для Паши
как метафора. Чужое в кавычках оказывает для него родным, но уже без
кавычек, так велика утверждаемая им степень чуждости (опять-таки, что важно,
без кавычек) самому себе, зияние в сердцевине его "я". Именно высшая степень
чуждости себе переходит в эйфорию, в отличие от последовательно-депрессивной
ориентации текстов Кафки, предполагающей чисто негативное просветление
(сошлюсь на знаменитое кафковское высказывание: "Я пишу об ужасном, чтобы
умереть довольным", проанализированное в эссе Мориса Бланшо). Позиция Паши
проективна: он обретает право "жить довольным", помещая смерть в основание
своей личности и тем самым, как он полагает, лишая трансцендентную инстанцию
возможности что-либо предрешить в его судьбе. Таким образом он вступает с
миром в непосредственно-родственные отношения. Отвечая на другой вопрос
Кабакова, Пепперштейн возвращается к своему "пункту": "...мы настолько
"чужие" самим себе, что все остальное в мире (места, люди, вещи) кажутся
родней, толпой племянников, дедушек, кузин и внучат, по сравнению с этой
изначальной чуждостью, живущей в глубине нашего собственного "я""13. Можно
ли расшифровать этот ответ так: остается только радоваться, так как
депрессия (чуждость себе) настолько изначальна, что имеет своим необходимым
последствием эйфорию. Большое искупление невозможно, зато каждая вещь,
место, человек являются орудием малого искупления; вселяясь в них, мы
бесконечно развоплощаемся, что является доступным нам эквивалентом
благодати. Это отлично прописано в финальной "сцене с четырьмя мухоморами"
из рассказа "Грибы", где "свечение" (lucet, scheint), как в эстетике Гегеля
и в фундаментальной онтологии Хайдеггера, целиком собирается на полюсе
изначального галлюциногена (ведь мухоморы -- это "сома", древнеиндийский
гриб бессмертия), и получается неплохая (при этом совершенно
бессознательная) пародия на столь раздражающий автора "Диеты" "кроткий дух
серьезности". Хотя в строгом смысле и лампа Мерике -- своеобразный
культурный мухомор, сияние которого способно опьянять и излучать власть, не
довольствующуюся простой кажимостью (выходящую за пределы scheint в смысле
Эмиля Штайгера, т.e.videtur).
Книга Пепперштейна внешне производит барочное впечатление: множество
лепнины скрывает несущие конструкции, линия фасада прихотливо изломана
пристроенными позднее башенками, балкончиками, бельведерами, вес которых все
более непосилен для Гераклов и кариатид детства. Но это впечаление ложно,
если принять определение барокко Делезом как "последней попытки восстановить
классический разум, распределяя дивергенции по соответствующему количеству
возможных миров, отделенных друг от друга границами. Возникающая в одном и
том же мире дисгармония может быть чрезмерной, -- она разрешается в
аккордах, так как единственные нередуцируемые диссонансы находятся в
промежутках между разными мирами... Это воссоздание могло оказаться разве
что временным. Пришла эпоха необарокко -- дивергентные миры наводнили один и
тот же мир, несовозможности вторглись на одну и ту же сцену -- ту, где Секст
насилует и не насилует Лукрецию, где Цезарь переходит и не переходит через
Рубикон, а Фан [имеется в виду герой рассказа Борхеса, известного по-русски
в двух переводах -- "Сад расходящихся тропок" и "Сад, где ветвятся дорожки".
-- М.Р.] убивает, делается убитым и не убивает, и не делается убитым"14.
Понятно, что идеально барочными являются для Деле-за "несовозможные" миры
лейбницевских монад, а необарокко репрезентируется Борхесом и додекафонией.
Паша вносит в этот необарочный мир существенный элемент -- эйфорию, принцип
равного наслаждения каждым из его по определению поддельных сияний. Он хочет
быть писателем, не теряя статуса обычного сновидца (у него есть план издать
книгу своих "действительных" снов), графика, члена медгерменевтики и просто
частного человека (старый бодлеровский проект "жизни как искусства").
Написанные им "модные" тексты разлетаются под напором интерпретаций, рисунки
заговариваются, фигура речи наносится на "уникальную" и бесконечно
репродуцируемую плоскость15.
По возрасту Павел Пепперштейн мог бы быть моим сыном, но я -- и в этом
я, кажется, не одинок -- не могу представить себе его в этом качестве. В
чем-то он реализовал идеал выпадения из детства в глубокую старость, что на
поверхности выражается в странном, уникальном в моем опыте двоении. Прощаясь
с его книгой, я выразил бы этот парадокс самыми простыми словами: "До
свидания, внучек: ты -- мой дедушка".
Москва, 10-- 26 февраля 1998 года.
Примечания
1. Механизм функционирования одного из таких речевых психозов
(противопоставляемого неврозу "немецкой вины") разбирается на материале
пьесы В. Сорокина "Hochzeitsreise" в моем эссе "Борщ после устриц"("Место
печати", X, 1997, с.142--155).
2. В "Искусственном рае" Бодлер, имея в виду гашиш, связывает
невозможность рассказать о наркотической экстатике не просто с параличей
воли и с необычайной интенсивностью переживаемого опыта, делающей его
самодостаточным. Главную причину он видит в нарциссизме наслаждающейся своим
одиночеством личности, которая во всем видит лишь собственные отражения. Из
этого мира исключен любой, в том числе и поэтический труд, а вместе с ним,
как выражается поэт, "честные средства для достижения Неба".
Олдос Хаксли в "Дверях восприятия" пишет о своем опыте принятия
мескали-на как о научном эксперименте, но местами не может удержаться от
придания ему исключительно высокого статуса в порядке невербального.
Странным, но отнюдь не неожиданным приложением к его эмпиризму является
мистика. "Но человек, возвращающийся через Дверь в Стене, никогда не будет
точно таким, каким он туда вошел. Он будет... подготовлен для понимания
связи слов с вещами и систематических рассуждений с непостижимой Тайной,
которую они пытаются -- всегда тщетно -- ухватить".
Возможно, дело здесь не только в свойствах поэзии Бодлера и прозы
Хаксли, но и в том, чем гашиш отличается от мескалина. Опыт
галлюцинирования, видимо, также бесконечно дифференцирован и не подводим под
общий знаменатель.
3. Об этом в связи с философией Лейбница прекрасно написал Жиль Делез:
"Сущность монады в том, что у нее темная основа (или фон): она черпает все
именно из него, и ничто не приходит в нее извне и не выходит за ее пределы.
В этом смысле необходимость ссылаться на слишком уже современные
ситуации возникает лишь в тех случаях, если они способны разъяснить то, что
было уже барочным начинанием. Издавна наличествуют места, где то, на что
следует смотреть, находится внутри: келья, ризница, склеп, церковь, театр,
кабинет для чтения или с гравюрами. Таковы излюбленные места, создававшиеся
в эпоху барокко, его слава и мощь. И, прежде всего, в темной комнате имеется
лишь небольшое отверстие в потолке, через которое струится свет,
проецирующий полотно при помощи двух зеркал на очертания предметов, которых
не видно, так как второе зеркало должно быть наклонено сообразно положению
полотна. И затем -- стены украшаются трансформирующимися изображениями,
нарисованными небесами и всевозможными видами оптических иллюзий: в монаде
нет ни мебели, ни предметов, кроме создаваемых оптическими иллюзиями". (Ж.
Делез. Складка. Лейбниц и барокко, Москва, "Логос", 1998, с. 28.)
Пепперштейн также хотел бы создавать в качестве литературных объектов
монады, состоящие из самоотражений: в основе его писательской практики лежит
греза об освобождении вещей от субстанции. Став фоном Кранаха, фон Кранах
обретает свою сущность и теряет свое "я".
4. 3. Фрейд. Толкование сновидений, Ереван, 1991 (репринт издания 1913
года),
с. 363.
5. S. Zizek. The Sublime Object of Ideology. London-New York, Verso, p.
44--45.
6. Ibid., p.45.
7. В заключительном эссе "Искусственного рая" Бодлер противопоставляет
гашиш вину: "Вино делает добрым, общительным, гашиш влечет к уединению.
Вино, так сказать, трудолюбиво; гашиш, по существу, лентяй. К чему, в самом
деле, работать, пахать, писать, производить что бы то ни было, если можно
попасть в рай без всякого труда?.. Вино полезно, плодотворно. Гашиш
бесполезен и опасен". (Ш.Бодлер. Искусственный рай. Петербург, "XXI век",
1994, с. 181.)
8. В. Сорокин. Dostoevsky-trip (пьеса), Москва, Obscuri Viri, 1997.
9. Эта тема развивалась в инсталляции группы медгерменевтика "Труба,
или Аллея долголетия" и в беседе С. Ануфриева и П. Пепперштейна "Полет,
уход, исчезновение", давшей название одноименной выставке в Праге и Берлине.
"Речь идет, как видим, -- говорит Паша, -- об остановке рождений и смертей.
Туннель, уходящий в домашний уют потустороннего, как-то отрезает этих
застывших в долголетии стариков от этих "детей", застрявших в предрождении.
Все это моделирует своего рода "квазифедоровскую" ситуацию. Для стариков
близость к туннелю, параллельность ему является источником долголетия.
Туннель -- нечто освобождающее, освежающее. Это приводит нас к старинному
упованию на смерть, как на лекарство от болезней и, в конечном счете, от
смерти же (смертью смерть поправ...)". (Полет-Уход-Исчезновение, Московское
концептуальное искусство [каталог на русском и немецком языке.], Ostfildern,
Cantz Vferlag, 1995, р.284.)
10. Связь подписи со стремлением замаскировать, скрыть и вместе с тем
метафорически обнажить, выпятить тело автора, родство этих кажущихся
противоположностей разбирается в таких работах Жака Деррида, как "О
грамматологии", "Почтовая открытка", "La fausse Monnaie".
11. Кстати, для " Вещи и творения" Хайдеггера картина Ван Гога, можно
сказать, акцидентальна. Это текст об истоке и о том, "откуда пошел художник,
ставши тем, что он есть". А фактически о стыдливой первичности непотаенного
перед лицом сущего в его целом. И текст о лампе Мерике также не о лампе, а о
последствиях "сияния" для метафизики.
12. Хайдеггер напоминает Штайгеру, что прекрасное определяется в
эстетике Гегеля как чувственное свечение. Друг гегельянца Фишера, Мерике не
мог об этом не знать. Впрочем, и незнание определения Гегеля не освободило
бы его от участия в духе того, что делал Гегель, так как через него в то
время говорило нечто более значительное. "Но то, что прекрасно, блаженно
светит в нем самом" -- определяется как "гегелевская эстетика in mice". (М.
Хайдеггер. Работы и размышления разных лет, Москва. "Гнозис", 1993, с. 245.)
Любовь великих философов к власти/истине выражается в постоянно
возобновляемом сообщничестве с древней традицией, выражающемся в ее
решительном обновлении. В этом смысле они -- экраны, на которые проецируются
ожидания их образованных современников. Обращенность их речи столь же
фундаментальна, как и сама речь. Как только уши повернутся в другую сторону,
она исчезнет.
13. И. Кабаков, П. Пепперштейн. Игра в теннис. Pori, Porin Taidemuseo,
1996 (каталог на английском, финском и русском языках), р. 27; см. также
р.47. Интересен и самый последний вопрос, который Пепперштейн задает
Кабакову (пятый вопрос на шестнадцатом щите): "Известен старокитайский
художественный принцип "ворона на снегу" в Чаньской традиции. Ворона на
снегу рисуется столько раз, пока в сознании рисующего не остается "только
эта ворона " на "только этом снегу". Однако остается сам принцип " ворона на
снегу". Как устранить это противоречие?" Кабаков: "Противоречие в принципе
неустранимо. Мало того, в этом рассказе скрывается своеобразный парадокс.
"Ворона на снегу" -- уже готовый эстетический объект, эстетическое качество
уже гарантировано сюжетом. Но предполагается, что качество эстетического
улучшится, если произойдет "вчувствование" в изображение того и другого
(вороны и снега. -- М.Р.). Парадокс в том, что, возможно, "качество"
нарисованности вороны и снега улучшится, но само эстетическое переживание
сюжета не станет от этого сильнее". (Ibid., р.48--49.) Как вопрос, так ответ
здесь настолько интересны, что о многом говорят даже без комментария.
14. Д. Делез. Складка. Лейбниц и Барокко... с. 83.
15. См. также: С. Ануфриев, Ю. Лейдерман, П. Пепперштейн. На шести
книгах. Duesseldorf, Kunsthalle Duesseldorf, 1990 ( на русском и немецком
языках).
Кресты-пророки
Побежали по дороге,
Половина говения, тресни.
Редька с хреном убивается,
А яйцо с творогом
По двору катается.
(Костромской губернии, Нерехтского уезда.)
I
Кумирня мертвеца
-- Джим, вы видели когда-нибудь мою табакерку?
-- Неоднократно, сэр.
-- А случалось ли вам видеть, чтобы я нюхал табак?
-- Никогда, сэр.
-- В табакерке нет табака, Джим. В ней находится
отличный кусок сыра.
Р. Л. Стивенсон. "Остров сокровищ "
1
Он плакал. Сидящий рядом старичок постоянно шуршал газетой.
Старичок смущенно отложил газету и посмотрел на рыдающего гостя. Старик
не знал, что предпринять. Предложить носовой платок? Спокойно закурить? Он
вынул из кармана платок и протянул его в сторону раскрытой двери, но уронил
и забыл поднять, тем более что платок упал не возле, а опустился на лапу
спящей собаки. Она не пошевелилась, так как была сделана из стекла. Когда-то
здесь жила собака Рой, но она умерла, и тогда хозяин дома заказал это
изваяние. С тех пор стеклянная копия Роя виднеется возле камина. Вечерами
хозяин этого дома сидел у камина и часто шутил:
-- Рой, принеси мне палку!
Ну, чего же ты не несешь, Рой? Ты же всегда был такой послушный. Она
там, в углу.
Рой, а почему сквозь тебя просвечивает, а? Что скажешь? Чего же ты
молчишь, а, Рой?
И старик сам же хохотал. Его громкий смех, вырывавшийся из него
пучками, резко бился в стеклянную дверь, к которой поднималась лестница с
железными перильцами. Стекло дрожало, и это будило Вольфа.
2
Вольф был такой аккуратный!
На рабочем столе Вольфа царствовал порядок. В левом углу лежало
несколько книг, обернутых в бумагу, а справа были разложены блестящие
металлические предметы: различного рода ножи, изогнутые лезвия,
спиралеобразные сверла.
Часто он стоял посреди комнаты: атлетически сложенный, но уже слегка
располневший, и вдумчиво протирал какую-либо из этих вещиц. Время от времени
он поднимал свое тяжелое лицо и бросал взгляд в зеркало. Его крупный, лысый
череп был густо посыпан веснушками, а за толстыми стеклами очков иной раз
блестели темные, печальные глаза.
А помнишь, Рой, как он ходил с тобой гулять?
Он тщательно одевался, выбирал галстук, одевал свежую рубашку, костюм,
собственноручно чистил свои ботинки. И затем выходил в темно-синем пальто. В
аллее парка он выпускал тебя, Рой. Он шел как будто задумавшись, не поднимая
головы, и только изредка взглядывал на какую-нибудь проходящую даму, и тогда
уж можно было ручаться, что она долго не забудет этого взгляда, наполненного
беспредельной печалью. Издали его глаза казались жгуче-черными, но на самом
деле они были сливового цвета, а смуглые веки были слегка вывернуты, так что
виднелась розовая подкладка, где ручейком протекала легкая слизистая
жидкость -- несостоявшиеся слезы, которые Вольф удалял иногда уголком
батистового платка.
От него неизменно пахло фиалкой. Флаконы из-под фиалкового одеколона он
затем промывал и заполнял какими-то жидкостями разных цветов -- это, видимо,
было связано с его работой. Надев специальные резиновые перчатки, Вольф
потом перемещал эти составы в замысловатые шприцы с тончайшими иглами.
Однажды дурочка Китти спросила его, что это такое и зачем это Вольф так
возится с этими бутылочками, и Вольф терпеливо (он всегда был очень
терпелив, разговаривая с детьми) объяснил, что это чрезвычайно едкие
кислоты, способные, если их ввести с помощью шприца в человеческое тело,
образовывать болезненные и долго не заживающие язвы. Тогда бедная Китти
стала просить, чтобы Вольф и ее уколол -- "Совсем чуть-чуть, пожалуйста,
Вольфик, я тебя так прошу!" -- умоляла она.
Даже тогда, Рой, мой сын не нагрубил ей и не выгнал ее из комнаты, как
это делал Ольберт, а со спокойной серьезностью выполнил ее просьбу и капнул
ей на руку немного вещества, отчего она с вибрирующим визгом скатилась вниз
по лестнице. Был полдень, и ты, Рой, как раз спал на ковре в гостиной (в том
самом месте, где лежишь сейчас, задумчиво глядя в огонь своими стеклянными
глазами). Ты громко залаял, а потом с лаем и повизгиванием стал отступать к
дверям, ведущим на веранду, когда орущий комок упал с лестницы и, опрокинув
вазу, исчез в темном коридоре. Крик, словно шаровая молния, выкатился с
другого конца дома и исчез в сплошном писке где-то в одном из
полуразвалившихся сараев.
3
Старик отложил газету и спокойно закурил. Легкий дымок поплыл по
комнате и растворился в открытой двери.
"Кто он?" -- думал старик, глядя на незнакомца, который уже не рыдал,
но прохаживался по гостиной, время от времени ударяя концом своей тросточки
по медному тазу. На его длинном бледном лице и крупных розовых веках еще
висели блестящие капли.
Сколько призраков посещает этот дом последнее время!
Вон Ольберт озабоченно проходит через столовую, которая видна сквозь
стеклянную дверь. Слышна его одышка, потом он появляется.
Смех, да и только! Но он стоит в дверях -- слюнявый обрюзгший конунг в
поеденном молью веночке из бесцветных волосков. Он, видимо, только что вылез
из ванной, на нем влажный зеленый халат. Большое мягкое лицо сохраняет
капризное, младенческое выражение. Маленькие губки он постоянно облизывает
и, как психопат, строит рожицы, словно собираясь брызнуть слезами и слюной в
неожиданной истерике. Таким он был и при жизни, Рой, точно таким. Да что я
тебе говорю, как будто ты его не знал. Это сейчас, будучи стеклянным, ты не
узнаешь малыша Оле, нашего бутуза. А то бы ты, как бывало, встретил его
радостным лаем. Впрочем, говорят, собаки не любят тех, кто умер.
Наконец два призрака заметили друг друга и начали сближаться. Один
пофыркивая и непрестанно облизываясь, другой роняя розоватые слезы.
"А, герцог, как ваше здоровье?"
Ну да, как я не узнал его сразу -- это же герцог, старый знакомый!
4
-- Ну же, Китти, не плачь, мы выдадим тебя замуж за герцога.
Китти глухо воет и клацает зубами, забравшись в старый покосившийся
шкаф.
-- Китти, что у тебя с рукой, а? Это Вольф тебе сделал? Покажи руку,
Китти.
Китти удается укусить меня. У нее резцы не хуже, чем у тебя, Рой. Рукав
моего пиджака распорот, как саблей, а под ним, от большого пальца до самого
локтя, наливается кровью шрам.
Мерзкая Китти специально точила молочные зубы пилочкой для ногтей. "Все
равно выпадут" -- таков был ее аргумент. У меня до сих пор на руках не
зажили некоторые шрамы, Рой, которые мне оставила на память малютка Китти.
Но я не теряю терпения:
-- Китти, покажи руку. Если ты будешь послушной, то выйдешь замуж за
герцога. Если же ты не будешь слушаться своего папочку, да еще станешь
мерзко кусаться, то тебе придется ловить мышей в доме у какого-нибудь
заплесневелого адвоката. Они ведь такие скупцы! В день ты будешь получать
лишь каплю молока и какую-нибудь завалявшуюся кость. А когда ты подохнешь, с
тебя сдерут шкурку и жена адвоката сделает себе воротник. Подумай о мучениях
в темном шкафу, где тебя медленно пожирает моль. Вылезай оттуда, Китти, а то
тебе придется окончить жизнь в таком же мерзопакостном шкафу, как этот.
Китти неохотно вылезает. Она вся в пыли, одну руку держит во рту и
сосет.
-- Перестань сосать руку, Китти!
-- Все равно мне не быть женою герцога.
-- Отчего же? Ты думаешь, герцог не захочет жениться на моей дочери?
Ошибочка!
-- Да, но я не хочу за герцога. Мне больше нравится директор театра.
-- Хорошо, я выдам тебя за директора театра, если ты только вынешь изо
рта свою руку и покажешь ее мне.
Китти показывает мне свою руку. В ней небольшая круглая дыра с
коричневыми, как будто обуглившимися краями.
-- Это Вольф тебе сделал?
-- Да, это сделал гнусный Вольфганг. Теперь мне придется постоянно
носить перчатку, скрывая стигмат.
-- Она сама попросила меня об этом, -- вымолвил Вольф. Он стоял посреди
двора, в своем синем пальто, широкоплечий, с отражениями закатного света в
толстых выпуклых стеклах очков. Он собирался ехать на работу. В руках он
держал черный портфель, где, аккуратно завернутые в бумагу, лежали различные
инструменты.
-- Ты опять едешь на работу, Вольф?
-- Да, еду.
Что за работа была у бедного Вольфа, Рой! Его могли вызвать в любое
время суток, и он немедленно собирался и ехал. Часто он приезжал глубокой
ночью или даже под утро, смертельно усталый. И почему он выбрал именно эту
профессию?
5
-- Милый Ольберт, я чувствую себя неважно, -- сказал герцог, заламывая
прозрачные пальцы. -- Я тоскую.
-- Ну-ну, ваше сиятельство, бодрее! Мы все порой тоскуем, а я так
просто гнию.
Старичок в кресле начинает волноваться.
-- Отвратительно! -- бормочет он. -- Оле позволяет себе. Я всегда рад
видеть малыша, но считаю: уж если ты призрак, то будь скромнее, наконец. Не
годится игриво намекать на судьбу тела. И так ясно, что оно где-то
распадается в укромном уголке. Но Ольберт остался таким, каким был всегда.
Его с детства прозвали Tweedledoom в честь одного из близнецов Зазеркалья.
Вообще-то людям искусства многое позволено.
-- Над чем вы сейчас работаете, милый Ольберт? -- спрашивает герцог,
удержав рыдания.
-- Я вернулся к работе над ранней вещицей. Называется "Черная белочка".
Я начал ее почти ребенком. Литература, в общем-то, это сплошной переходный
период. Сейчас, через много лет, лишь редактирую свои пубертатные
откровения. Когда неумолимое половое созревание выталкивает нас за границу
детства, мы многое понимаем. В том числе и то, что нас так же бесцеремонно
вытолкнут из жизни.
-- Было бы чудесно, если бы прочли нам эту "Белочку".
-- Хорошо. Можно сегодня вечером. Я приглашу кое-кого. С удовольствием
прочту вещицу. Однако сейчас и я и мои вещицы -- мы не нужны вам. Вы ищете
Китти. Она в саду. Гоняется за бабочками. Если ей попадется птичка -- она и
птичкой не побрезгует.
Ольберт с хохотом хлопнул герцога по спине, и они разошлись. Писатель,
шлепая разношенными тапочками, отдуваясь, стал подниматься по лестнице на
второй этаж. Герцог, приложив к глазам руку, неверными шагами направился в
сад. По дороге он задел плечом стеклянную дверь, и она со звоном ударилась
об стену. Старик снова был один в гостиной.
6
Казалось бы, Вольф мог выбрать любую профессию. Перед ним были открыты
все пути. Он был такой способный! Тихий, серьезный, задумчивый мальчик.
Почти постоянно (за исключением занятий спортом) сидел в своей комнате над
учебниками. Особенно увлекался химией. Малыш Оле со слезами жаловался, что
брат пренебрегает им, не говорит с ним ни слова. Обиженный Оле забирался в
кресло и в исступлении дергал ножками.
-- Успокойся, Ольберт, -- тихо говорил Вольф.
Я хорошо помню, как он стоял в дверях гостиной, в аккуратной школьной
униформе серого цвета, и говорил, опустив голову, медленно протирая медную
пуговицу на рукаве: "Успокойся, Ольберт".
Он был угрюм больше обычного и смотрел на беснующегося Ольберта
исподлобья своими темно-синими печальными глазами. Оле удалось успокоить
только обещанием, что Вольф возьмет его с собой к учителю химии. Вольф ходил
к своему учителю химии каждую среду, и они вместе ставили опыты.
Вольф очень неохотно взял Ольберта к учителю химии.
-- Ну, Оле, что было там, у учителя химии?
-- Ах, папочка, -- Ольберт слегка зажмуривает глаза и быстро
облизывается (кажется, что у него два языка). -- Это было забавно. Мы пришли
в гнусный квартал -- грязные дома, высокие как небеса. И везде лужи, лужи:
озера, омуты темной воды. Свобода, неравенство, братство. Каждый прохожий --
проходимец. И все жадно смотрят на малыша Оле. Нищие хватают его съедобные
ножки, предлагаяя благословить.
Оле жалобно пищит. Оле поджимает свои неокрепшие коготки. Оле цепляется
за ручку своего братца Вольфика-в-гольфиках.
Неужели эльф Вольф, чистый, как больничное стекло, привел маленького
брата в места смрада и нестабильности? О, мокрые помойки нестабильности!
И вот, милый папа, перед нами огромный дом. Вавилонская башня
устыдилась бы. Железные лестницы лепятся по стене. Решетчатые ступеньки
покрыты белым мхом и скользким калом птиц. Я испуган. Я отказываюсь
балансировать на ржавых прутьях на потеху шалопаям. Однако -- "успокойся,
Ольберт" -- имеется и внутренняя лестница. Но, Боже, как она прекрасна!
Ущербные казенные ступени. Миллионы, миллиарды ступеней. Почти полная
темнота. Редко мелькнет ангельское видение: оконце. А так продвигаемся на
ощупь, держась за слизистую стену. Грязь. Грязь. Гольфики
Вольфика плачевны. Мы идем полчаса, мы идем час. О трагическая судьба
Ольберта! Он измучен. Он больше не может идти. А что же новоявленный
Менделеев? Вольф задумался. Вольф ушел в себя. Вольфу не до слюнтяя
Ольберта. Вольф стремится выше и выше... -- лицо Оле искривляется, он готов
снова разрыдаться, его кулачки истерически сжались, но рассказ все еще
наполняет его, выскакивая на маленьких губках вместе с пузырьками слюны:
Мы тащимся уже два часа. Что же ожидает нас там, наверху? Какой
искусственный рай, созданный химическим вдохновением, послужит наградой за
столь удручающие муки? Мы входим в зоны оживления. Несколько пролетов
заполнены голосами, брызжет свет, на лестницу распахнуты двери каких-то
анфилад. И слышна музыка. Вот неожиданность -- здесь музицируют. Этажом выше
-- ряд комнат, романтически освещенных свечами. Видно, тут играют в
увеселительные и, может быть, запретные игры.
Вольф не оглядывается по сторонам. Он поднимается мимо. Его ждет сам
учитель химии. Однако Ольберт уже не в силах идти. Может быть, ему надо
остаться здесь? Углубиться в какую-нибудь из анфилад, найти теплый серый
уголок? Уткнуться туда навеки, между небом и землей? Одинокий крошечный
толстячок, затерявшийся в великой и угрюмой суете мира...
Ротик малыша снова жалобно дрожит. В глазах стоят слезы. Вот его лицо
сморщивается, как мяч, который сжали пальцами. Еще мгновение, и он
запрокидывает голову, полностью отдаваясь воплю. Он уже не обращается ко
мне, но к самому Богу, приглашая Его стать свидетелем загадочного и
трогательного события. Нечасто ведь приходится наблюдать превращение пухлого
веселого существа в фонтан скорби,
7
Теплый полдень, склоняющийся к сумеркам. Старичок прохаживается по
комнате. Прислушивается. Слышен дальний стук пишущей машинки. Это Ольберт в
своем кабинете работает над тельцем "Черной белочки".
-- Вот уж не думал, что литераторы продолжают так щедро порождать текст
после своей смерти, -- смеется старик. -- Надо полагать, когда выйдет
собрание его сочинений, оно будет состоять из двух томиков: творчество
прижизненное и творчество посмертное. Белый томик, черный томик. Белый
домик, черный домик.
Когда же скончался малыш Оле? И как он скончался?
Не припомню. Отравление? Или сердце? Наверное, сердце. Наверное, после
сытного обеда он схватился за сердце и прилег на красный ковер. Скорее
всего, он состроил капризное личико.
Постарел я. Не помню, как умер Ольберт. Забыл и то, как умерли Вольф и
Китти. Да и зачем вспоминать об этом -- их призраки окружают меня. Бедняжки
меня не видят, но зато я их вижу. Раньше-то я думал, что бывает наоборот. Но
не все можно угадать заранее. Да, не все. Не все.
Старичок попытался подобрать с ковра газету, но она окончательно
рассыпалась.
-- Пойду погуляю по саду, пока еще не стемнело, Рой, -- обращается он к
стеклянному изваянию. -- Я бы взял тебя с собой, да ведь ты уже не тот, что
прежде, правда ведь?
Старик вышел в сад, понюхал воздух, насыщенный ароматами. Вернулся за
панамой и палкой и неторопливо отправился в сладкое марево. На песке видны
следы герцога. Тонкие, полупрозрачные следы. Старик наклонился над ними,
вставив в глаз монокль в виде черной трубочки.
-- Любопытные создания -- призраки, -- бормочет он. -- Казалось бы,
бесплотны, но кое-как оставляют следы. Наверное, из последних сил.
Он идет дальше, задумчиво тряся головой. Из-за цветущих кустов
доносятся голоса. Прислушивается, направляется туда. На садовой скамейке, в
тени, сидят герцог и Китти. Китти быстро вращает солнечным зонтиком.
Прозрачные тени вышитых на зонтике пчел и жирных шмелей скользят по ее лицу,
как тени карусельных лошадок по земле. Герцог держит под мышкой Киттин
сачок.
-- Так называемая "прелестница", -- поясняет герцог, рассматривая
пойманную бабочку. -- Действительно, прелестный экземпляр. Эти прожилки
позволяют ей прибегать к очаровательным уловкам: например, притворяться
цветком. Или, если дело происходит осенью, таять среди многоцветной, опавшей
листвы.
-- Хорошо бы мне растаять среди опавшей листвы, -- замечает Китти. --
Да так, чтобы вы, герцог, никогда меня не нашли.
Китти скучает, она болтает над песком дорожки своими начищенными
ботиночками.
-- Вы будете бродить по осеннему саду и тщетно, в безумной тоске,
искать свою супругу, герцогиню. Вы будете звать меня, но отвечать вам будет
только завывание ветра и шорох сухой листвы.
Впечатлительный герцог приложил к глазам платок.
-- Что это за платок у вас?! -- вскрикивает Китти. -- Откуда у вас этот
платок?
-- Не знаю, -- рассеянно отвечает герцог. -- Кажется, я нашел его
сегодня у вас в гостиной. Он лежал на лапе Роя.
-- На лапе Роя? Что вы такое болтаете? Это же папочкин платок! Неужели
вы не помните, что только у бедного папочки были такие платки -- даже не
знаю, как определить их цвет: бело-радужные, что ли...
А вот и его герб -- капля, разбивающаяся о поверхность воды!
-- Да, это мой платок, -- говорю я (я уже давно стою прямо перед ними,
опираясь на палку). -- Я сегодня предложил его герцогу, чтобы он мог
промокнуть потоки слез, детка.
-- Ну же, отвечайте! -- требует Китти, возмущенно уставившись на
герцога. -- Где вы его взяли?
На мои разъяснения она не обращает никакого внимания. Она меня вообще
не видит. То же самое -- герцог. Он смотрит прямо на меня, словно его
интересуют пуговицы на моем жилете, но при этом явно не различает ни меня,
ни пуговиц. Он молчит.
-- Признайтесь, вы его украли, -- говорит Китти и вдруг исчезает. Она
сорвалась, увидев бабочку. Вот она уже мелькнула в конце аллеи. Сачок она
забыла, но он ей не особенно нужен. Герцог плачет. "Не расстраивайтесь,
герцог", -- говорю я. Но он не слышит моих слов. К тому же он вовсе не
расстроен, он любит плакать.
-- Опять источает слезы! -- кричит Китти, возвращаясь. -- Могу вам
сообщить, что вы самый скучный и сентиментальный феодал на свете. Директор
театра уже давно рассказал бы мне что-нибудь смешное.
О да, директор театра! Воспоминания о нем никогда нас не покинут.
8
Маленький, смуглый, с шоколадными глазами. В безупречно скроенном
костюме, с бутоном на лацкане пиджака. Он появлялся в нашей гостиной и
ослеплял всех своей несколько экзотической, белозубой улыбкой. Он дарил
Китти цветы. Конечно. Ведь Китти должна была выйти за него замуж, если
только она не отдала бы предпочтение герцогу.
А помнишь, Китти, как мы навестили директора в Главном Театре? У него
был огромный кабинет, отделанный дубом. Этот кабинет находился прямо над
знаменитым театральным органом -- когда внизу исполнялись гимны, все здесь
вибрировало. В стены кабинета были вставлены овальные портреты прославленных
актеров этого театра. Их лица выступали как бы из жемчужного тумана.
Директор рассказал нам немного про каждого.
-- Вот бледная дама в пернатом шлеме Афины. Это актриса А., одна из
звезд нашего театра. Она была замужем за коммерсантом А. Он был ревнив.
Между тем мадам А. влюбилась в некоего господина Домиана и каждый вечер
приезжала к нему в своем автомобиле, который снаружи был весь черный, а
изнутри огненно-красный. Г-н А., естественно, не знал об этих визитах: его
супруга заявляла, что она участвует в спиритических сеансах в доме своей
знакомой, графини де Д. Ревнивец А., конечно, следил за ней, но всякий раз
убеждался, что элегантный автомобиль его жены останавливается у подъезда
графини. Однако ему не было известно, что затем мадам А. выбиралась из дома
своей знакомой через черный ход и, разными тусклыми коридорчиками,
застекленными переходами, висящими над грязными дворами-колодцами, проходила
к дому господина Домиана. Однако, что еще удивительнее, не только г-н А. не
знал о визитах актрисы в дом г-на Домиана, но и сам г-н Домиан не подозревал
о них. Дело в том, что г-н Домиан был глубокий старик, разбитый параличом. К
тому же слепой и почти глухой. Когда-то, много лет назад, ему случилось
написать блестящую комедию под названием "Совушка, или Приключения господина
Дориана". Рукопись этой комедии попала сюда, в Главный Театр. Одно время ее
собирались поставить, но по какой-то причине из этого ничего не вышло.
Рукопись затерялась в пыльных залежах театральной библиотеки, где ей было
суждено прозябать в полном забвении до того дня, когда ее случайно нашла
актриса А. Именно искрящийся юмор и прекрасный слог этой комедии покорили ее
сердце. А. решила во что бы то ни стало разыскать автора этого произведения.
И, действительно, вскоре она нашла его в темной, тусклой комнате, где не
было ничего, кроме огромного полуразвалившегося буфета с вставленным в него
так называемым зеркалом -- в этом отвратительном куске никогда ничего не
отражалось. Сам Домиан сидел в кресле с металлическими колесами, совершенно
лысый, закутанный в плед, в черных слепцовских очках, покрытый пылью и
окруженный мухами.
Мадам А. стала наведываться в эту комнату и с помощью большой трубы
разговаривать со стариком. Неизвестно, что она нашептывала в эту трубу,
поднося ее к уху старика, из которого торчали пучки седых волосков. Однако
окостеневший хозяин комнаты постепенно стал проявлять признаки волнения. Он
полагал, что оглох давно и полностью, поэтому голос, доносящийся до него,
казался ему пришельцем из потустороннего мира. Голос сочился как бы из
бесконечной дали, пробиваясь сквозь туманы глухоты, и в нем не было ничего
человеческого. Казалось, что он приносит с собой райские ароматы -- бедный
слепец не догадывался, что это изысканные духи мадам А.
Однако продолжалось все это не слишком долго. Вскоре коммерсант А.,
измученный подозрениями, обнаружил, куда ходит его жена. На существование
ветхого старика он не обратил никакого внимания, но у паралитика был сын,
некий господин сомнительной репутации, сердцеед, кутила и авантюрист.
Коммерсант немедленно воссоздал картину его тайных встреч с мадам А. в доме
старика. Обуреваемый гневом и ревностью, он разузнал, что господин
Домиан-младший каждый вечер имеет обыкновение бывать в карточном клубе
"Равель", откуда выходит обычно около двенадцати.
И вот, в зимнюю мрачную ночь он ожидал его у здания клуба.
Первоначально он собирался лишь переговорить с господином Домианом-млад-шим,
но когда он увидел его огромную шубу на лисьем меху, наглое лицо с
огненно-черными глазами, закрученные усы и щегольскую бородку, последние
сомнения покинули его. Он бросился на картежника с ножом.
Однако Домиан-младший был ловок, молод и резв. Потасовка длилась
минуту, затем раздался выстрел. Раб ревности умер в снегу, под горькие звуки
"Болеро", у входа в дом, где собирались рабы другого жестокого бога --
азарта. Автомобиль унес убийцу во мрак, и беснующаяся вьюга задернула за ним
свой занавес.
Господин Домиан-младший в ту же ночь уехал заграницу. Мадам А., узнав о
гибели своего мужа, надела траур, прекратила выступать в театре и
затворилась в своем загородном особняке. Ее визиты в угрюмую полупустую
комнату Домиана-старшего прекратились. Старец напрасно ожидал новых
откровений из иного мира. За это время он привык к нежным ангельским
нашептываниям и теперь очень страдал от скуки, которая раньше была ему
неведома.
Так в томлении прошло несколько лет.
Однажды, светлым майским днем, в городе снова появился Домиан-младший.
Он сбрил свои холеные усики и бородку, но его черные глаза сверкали еще
ярче, чем прежде. Выйдя из-под сводов вокзала, он увидел свежую афишу:
"Звезда театрального мира мадам А. возвращается на сцену! Сегодня премьера
спектакля "Совушка, или Приключения господина Дориана" по пьесе Д. Домиана.
Мадам А. в главной роли". Домиан-младший прошел дальше, постукивая тростью.
В тот же день этого господина можно было видеть в мрачной комнате с давно
обвалившимся буфетом, где было огромное количество паутины. Он привез своему
отцу, Домиану-старшему, слуховую трубу с огромным раструбом, которую он
купил в одной древней почитаемой аптеке в Германии. "Как поживаете, отец?"
-- спросил джентльмен в трубу. Кстати, это уже вторая труба в нашей истории.
Эти две слуховые трубы -- своего рода близнецы. Отец пожаловался на скуку.
Домиан-младший, недолго раздумывая, отправился к своему давнему другу,
директору театра (вашему покорному слуге), и получил два билета в ложу на
премьеру спектакля " Совушка, или Приключения господина Дориана".
В тот же вечер он вкатил в роскошно украшенную ложу кресло на колесах,
в котором сидел господин Домиан-старший, автор пьесы. В руке До-миан-старший
держал слуховую трубу, прислонив ее к уху и направив в сторону сцены.
Поднялся занавес. Зал был полон. Мадам А. вышла на сцену, согласно сценарию,
в белом платье, увенчанная шлемом Афины. На острие шлема была укреплена
стеклянная статуэтка белой полярной совы. При первых звуках ее голоса (ее
монолог начинался словами "Как давно, как давно я не была в этом доме...")
лицо старика необычайно оживилось. Он затряс головой, серебристые волоски в
его ушах затрепетали. Он пробормотал: "Я узнаю, узнаю..." Через несколько
минут он произнес: "Да, это оно! Снова оно, то самое..."
Еще через минуту он громко воскликнул: "Мне пора!" Не знаю почему, но в
театре началась паника. Дамы, лорнировавшие старца, стали кричать "Умер,
умер!". Старик, действительно, умер. До сих пор не понимаю, что произошло с
публикой! Должно быть, слухи о надвигающейся войне довели ее до истерики.
В суматохе Домиан-младший вынул из петлицы красную розу и бросил ее
мадам А., причем его эбеновые глаза сверкнули. Через месяц звезда
театрального мира актриса А. вышла замуж за господина Домиана-младшего.
Свидетелем на их свадьбе был ваш покорный слуга (легкий полупоклон).
Китти в восторге.
-- Однако чем кончилась история этого брака? -- осведомляюсь я.
-- Она кончилась печально. Через год Домиан-младший уехал в Карл-сбад
лечиться от желудочной язвы, но вскоре после этого от него пришла телеграмма
из Парижа, в которой он сообщал, что женился на какой-то аристократке и они
намереваются отправиться в кругосветное путешествие. Узнав об этом, мадам А.
отравилась.
(Пауза.)
Надеюсь, что не слишком огорчил вас, мадемуазель?
-- Нет, директор, мне совсем не жаль вашу мадам А. На мой взгляд, люди
вообще не заслуживают сочувствия, если их имя не длиннее одной буквы. Ведь
это, согласитесь, пустышки, а не люди. А что стало с трубами?
-- Слуховые трубы старика, эти эбонитовые близнецы, находятся в
Театральном музее. Они вложены друг в друга и навеки скреплены медным
кольцом. Это должно, видимо, означать, что все чувства человека (в том числе
и слух) обретают после смерти самодостаточность. Обнявшись, как Тристан и
Изольда, трубы лежат в музейной витрине, и о них больше нечего рассказать.
Зато я могу кое-что поведать вот об этом джентльмене в костюме Гамлета, чей
портрет я вам покажу, если вы соблаговолите вылезти из-под стола.
(Китти забралась под письменный стол и роется в мусорной корзине.)
На овальной фотографии можно было разглядеть худого мужчину с
ярко-красными губами и черными ретушированными бровями, одна из которых
криво приподнималась. Его чрезвычайно близко посаженные глаза, казалось, с
язвительным изумлением разглядывали зрителя. Эти глазки напоминали две едкие
икринки, выпавшие на скатерть из серебряного блюда, доверху наполненного
осетровой икрой. Из блюда, увенчанного снегом и лимонами.
-- Это Массо, знаменитый актер, оригинал, любопытнейший тип. Из всех
анекдотов о нем расскажу поучительную историю его гибели.
Он был донжуан и забавник. Однажды в его мозгу, среди прочих проказ,
зародилась идея свести вместе всех его любовниц. Он рассчитывал, что
вспыхнет скандальчик или образуется какое другое "неловкое положение",
которое даст ему повод исподтишка повеселиться. Такие этюды этот остряк
называл в кругу друзей "массовками". И вот он назначил женщинам "интимное
свидание", но всем -- в одном и том же месте, в одно и то же время.
Приготовив завтрак для двух персон в комнате, украшенной непомерно огромными
букетами белых роз, Массо предвкушал забаву, коротая время за пасьянсом --
он любил гадать на картах. Не знаю, что он себе нагадал, но случилось так,
что одна из его любовниц (некая дебютантка Р.) пришла первой и застрелила
проказника. Она была уверена, что никто в мире не ведает о назначенном
свидании. Обеспечив себе надежное алиби, она решилась жестоко рассчитаться с
любовником за бесчисленные измены, за унижения, за несдержанное обещание
устроить ей роль в одном из модных спектаклей. Однако не успела незадачливая
дебютантка покинуть комнату, как туда вошла следующая гостья. В панике
актриса застрелила внезапную свидетельницу. Р. уже хотела выбежать из
комнаты, но столкнулась в дверях с третьей любовницей, которую постигла та
же участь. Одержимая желанием покинуть наконец место преступления,
дебютантка снова бросилась к выходу, но увидела еще двух входящих дам.
Должно быть, не без сдавленного вопля убила их. То же самое ей пришлось
сделать и с седьмой любовницей Массо. В то же мгновение появились двое
других, которых она уложила двумя выстрелами. Десятая девушка была красавица
с золотистыми локонами, но и ее не удалось пощадить. Одиннадцатая была
совсем молода, почти ребенок -- это не спасло ее. Выстрелы все не
прекращались, как будто работал какой-то шумный, устаревший механизм. Через
какое-то время полицейские, защищенные пуленепробиваемыми щитами, ворвались
в комнату с букетами белых роз. Они обнаружили там тела Массо и его
семнадцати любовниц, а также совершенно безумную дебютантку Р., которая
сидела на софе и, продолжая заряжать пистолет, с сумасшедшим смехом
расстреливала входную дверь. Ее обезоружили и прямо из окровавленной комнаты
отправили в сумасшедший дом. До сих пор она там и все не устает бредить о
забрызганных клетчатых рубашках, о том, что белые лепестки роз надо успеть
перекрасить в красный цвет до прихода Королевы. Не знаю отчего (может быть,
пасьянс и серебряные вазы на столе сыграли свою роль), ее бред связан с
содержанием "Алисы в Стране Чудес". Больная называет себя вымышленным именем
Элси, искажая имя Элис. Она озабочена тем, чтобы карты успели перекрасить
белые розы в красные, хотя Алиса и Дама Сердец кажутся ей одним и тем же
лицом. Кровожадность Дамы Сердец она оправдывает тем, что все валеты, дамы и
короли -- двухголовые. Отрубить одну из голов не означает убить, это всего
лишь "укорачивание". Она вообще называет людей "двухголовыми" и старается
смягчить свою вину, утверждая, что убитые ею девушки -- всего лишь чьи-то
двойники. Классическая шизофрения -- ничего оригинального. На игральных
каргах персонажи кажутся "по пояс погруженными в зеркало". Элси тоже
попросила сшить себе юбку из зеркальной ткани, чтобы походить на карту. Я
иногда навещаю ее, приношу сладкое.
Директор театра, закончив рассказ, задумчиво склонил набок свою
небольшую голову. В его глазах не было ни тени смеха. Уж если бы болтунишка
Ольберт взялся рассказывать подобные побасенки, то в конце непременно бы
пустил пузыри.
Однако Китти уже давно не слушает. Она нашла где-то пыльные зеленые
леденцы и теперь сидит на шкафу и сосет. Мы слышим легкий свист и
причмокивание, как будто за резным фронтоном шкафа змея заглатывает кролика.
Директор ничуть не обескуражен.
-- Должно быть, я наскучил сеньорите глупыми приключениями из нашей
бесцветной театральной жизни, -- замечает он с небольшим полупоклоном.
Без сомнения, Китти, ты стала бы супругой самого тактичного господина
на свете, но... Не сложилось.
Это был жаркий летний день. Мы обедали. Я, Ольберт, Китти, герцог и
Вольф. Солнце обильно просеивалось сквозь заросли плюща, обвивающего решетку
веранды. Вольф недавно вернулся с работы, где он провел почти всю ночь.
Видно, он очень устал, хотя вообще-то он вынослив. Он ел суп, низко наклоняя
над тарелкой свою тяжелую лысую, густо посыпанную коричневыми веснушками
голову. Вот он доедает остатки дымящегося супа, откладывает ложку, тщательно
протирает губы салфеткой. Его глаза за толстыми стеклами очков, как всегда,
полуприкрыты, словно он погружен в какую-то глубокую задумчивость.
-- Китти, я хочу поговорить с тобой, -- начинает он (низкий, медленный
голос). -- Видишь ли, сегодня я имел возможность беседовать с одним твоим
знакомым...
Китти вопросительно поднимает брови.
-- Он, кажется, был директором театра...
Киттины брови поднимаются еще выше.
-- Был? -- вмешивается тонкий голосок Ольберта. -- Его что, уволили?
Выдворили из театра?
Вольф морщится, медленно, задумчиво потирает лоб ладонью.
-- Дело в том... Мы работали вместе...
-- Вот как? -- снова встревает несносный Ольберт. -- Вы, должно быть,
решили вместе поставить спектакль, а?
Вольф не слушает. Он думает о чем-то, напряженно отыскивает слова.
-- Китти, ты понимаешь, его поручили мне...
Глаза Китти медленно расширяются. Глупый Ольберт, все еще фыркая,
перетаскивает себе на тарелку длинный рыбий хвост.
-- Он был замешан в каком-то деле, Китти. Я работал с ним сегодня все
утро. Он ушел... Совсем ушел. Как бы это тебе сказать? Ушел врассыпную.
Понимаешь?
Ольберт перестает чавкать и переводит круглые глаза с одного лица на
другое.
Вольф неторопливо, рассеянно лезет за пазуху, роется во внутреннем
кармане. Кажется, он думает о чем-то другом.
-- Да, вот это. -- Он вынимает небольшой сверток. -- Он сказал
(морщится), что всегда хотел предложить тебе свою руку и сердце. Таково было
его желание. Он попросил меня об этом.
Вольф медленно, осторожно разворачивает сверток -- несколько слоев
плотной, непромокаемой бумаги -- и вынимает какой-то предмет. Это рука.
Небольшая, смуглая, прекрасной формы, с изумрудом на пальце. Не может быть
никакого сомнения. Эта красивая, слегка изнеженная рука могла принадлежать
только одному человеку в мире -- директору театра.
-- Это тебе, Китти, -- говорит Вольф, протягивая ей через стол
отрезанную руку. Он держит ее, как держат за спинку маленького зверька. --
На, возьми, Китти.
Китти не двигается. Вольф некоторое время держит руку на весу, наивно
ожидая, что Китти примет дар. Не дождавшись, Вольф осторожно кладет руку
директора возле Киттиного прибора. Но Китти только неподвижно смотрит на
руку, которая держит руку. Рука в руке. Маленькая, мертвая, смуглая -- в
большой, живой, бледной.
Затем он достает свой портфель, роется в нем. Извлекает из бокового
отделения тяжелый, немного влажный мешочек из грубой материи.
-- Сердце. Он просил меня передать тебе руку и сердце. Вот они. Вольф
протягивает мешочек через стол и кладет его рядом с рукой. Но Китти уже
исчезла, оставив упавший стул, опрокинутый столик,
грохнувшую стеклянную дверь. И, конечно же, крик. В таких случаях без
крика, как правило, не обходится.
9
-- Ну же, Ольберт, ты не закончил свой рассказ о том, как вы с Вольфом
ходили к учителю химии. Дай я вытру тебе слюни, и продолжай.
Ольберт продолжает. После истерики его интонации становятся иными -- он
говорит быстро, без гримас. В его лице появляется нечто суховатое и
значительное, как у человека озабоченного.
-- Ну, нечего рассусоливать. Дорасскажу коротко. Я видел учителя химии.
Наше восхождение было ненапрасным. Это замечательный человек. Как описать
мудреца? Легенда гласит, что Конфуций, после единственной встречи с Лао Цзы,
произнес одну лишь фразу: "Я видел дракона". Я тоже видел дракона. Он
скромен, очень благожелателен, вежлив. Но... Какое ощущение оставила во мне
эта встреча? Знаешь ли, только горечь. Мне самому хотелось бы быть его
учеником, но я ведь ничего не смыслю в химии. Наука, ко всему прочему,
кажется мне страшной.
В этот раз учитель говорил о химии оплодотворения, о химии размножения
у животных и растений. Мне казалось, он все время говорит обо мне. О моей
душе. Я никогда прежде не слышал речи столь телепатически проницательной. Он
подробно охарактеризовал сперматозоид. Я узнал себя. Я чувствовал себя
Нарциссом, впервые заглянувшим в воды реки. Я не смог слушать дальше. Я
уснул.
-- Как же выглядит этот дракон?
-- Никак. Обычный старик. Можно сказать, у него и нет внешности, если
не считать тех атрибутов, которыми любой настоящий старик должен обладать:
он лыс, сед, у него длинная борода, морщины... В таких случаях принято
добавлять: "Но вот глаза! В глазах!.." Но и в глазах у него не было ничего,
кроме старческого здравомыслия. Не в глазах дело. Где мой белый спиральный
хвостик, которым я, как пружинкой, оттолкнулся бы от зеленых стен, покрытых
золотым и однообразным орнаментом?
Там, наверху, очень уютно. За бедной дощатой дверью, похожей на дверь
сарая, открылась нам зала со стеклянными потолками. Когда-то здесь было
ателье одного скульптора. Мы были словно в колоссальной теплице, к тому же
по стеклам струился дождь. Чаепитие за небольшим столиком. Кресла очень
мягкие. Кроме этих кресел, мебели нет. В дальнем углу -- обитый железом
химический стол, заставленный склянками. Они же, как армии перед битвой,
тесно стоят на полу, так что приходится передвигаться на цыпочках, чтобы не
раздавить колбы с эликсирами бессмертия. В толпе химической посуды взгляд
удивленно находит стеклянного кенгуру, крупные осколки вомбатов -- то, что
осталось от скульптора. После беседы Вольф и учитель встают и направляются к
железному химическому столу. Они идут неторопливо, осторожно пробираясь
между расставленными на полу колбами и ретортами. Учитель несколько раз с
улыбкой оглядывается, приглашая меня следовать за ними. Но я не в силах
подняться. Кресло мягкое, словно вязкая каша. Я слишком устал во время
нашего восхождения, уже не могу противиться сну. Но любопытство все же не
совсем потухло -- со своего места я пытаюсь разглядеть, что делают учитель и
Вольф. Однако комната, как я уже сказал, очень просторная, и в пасмурной
полутьме их почти не видно в дальнем углу. Только шелест дождя и отблеск
огня -- наверное, зажгли горелку -- и две тени, низко нагнувшиеся над
столом. Но я уже не могу всматриваться -- я сплю.
10
-- Все же я не могу понять этого, Вольф! Ты же способный
естествоиспытатель, ты так долго занимался химией... Нет, постой, не
перебивай меня, я знаю, что ты хочешь сказать -- что, занимаясь той
профессией, которую ты себе избрал, ты, в известном смысле, останешься
естествоиспытателем. Не спорю... Пойми меня правильно: ты с детства был так
серьезен, так вдумчив, вечерами ты всегда сидел над книгами в зеленоватом
свете своей настольной лампы. Иногда я украдкой подходил к двери твоей
комнаты и смотрел на тебя сквозь узорчатое стекло. Твой выпуклый лоб почти
соприкасался с раскаленным колпаком лампы, в стеклах очков плавали сияющие
пятна, и твои вывернутые веки казались опаленными ярким солнцем, твои
сильные плечи склонялись, как будто под гнетом знаний о мире -- тех, что
некогда ускользнули от меня.
Ты любил заниматься спортом, Вольф. Ты ходил на футбольное поле в
старом сосновом лесу, где я иногда поджидал тебя на рассохшейся скамейке,
предаваясь размышлениям среди хвои, тумана и комаров. Я рассеянно мечтал о
том (должно быть, только потому, что под рукой у меня не было других, более
увлекательных грез), как ты совершишь научное открытие и наше родовое имя
будет навеки связано с каким-нибудь еще неизвестным элементом, с
неизведанным типом реакции, с закономерностью. Неужели ты утратил
способность охватывать целое, и всякая вещь в твоем взгляде распадается сама
собой, крошась на частицы?
Разговор происходил вскоре после мрачного случая с рукой и сердцем.
Вольф, после некоторой паузы, ответил мне:
-- Отец, трудно объяснить то, что слишком уж нуждается в объяснениях.
По мне -- лучше бы промолчать. Дело мое не имеет ничего общего с по-.
знанием -- я отказался от познания и от науки. Возможно, я не заслужил их.
Или они не заслужили меня. Научное познание желает влиять на будущее, я же
предпочел простую сосредоточенность на том, что не имеет продолжения, -- на
безнадежном. Я всегда был слишком застенчив, мучительно застенчив, а из
застенчивости и мук рождается застенок, где мне и место. Порою говорят:
заплечных дел мастер. Я не считаю себя мастером. Я тень, которая немного
дает о себе знать. Изнанка, лишь слегка проступающая сквозь фасад.
-- Все это, Вольф, пустые слова, -- раздраженно прервал я его.
-- Хочу сказать только, что я не жестокий, -- угрюмо промолвил Вольф.
-- О нашей работе столько легенд. Они наивны. Редко мне приходится лишать
жизни или причинять боль. Меня вызывают внезапными звонками в течение дня и
ночи только потому, что мое присутствие успокаивает. В нашей стране, как и в
других странах, власть имущие более других заслуживают сострадания: человек
пятнадцать истерзанных стариков, похожих на растоптанные куски льда. Кто,
кроме меня, способен пожалеть их? Для них было бы лучше, чтобы с ними
расправились в одночасье. Но народа нет, есть публика. И она предпочитает
исподволь издеваться над ними, потерявшими остатки чувствительности. Чтобы
продлить издевательство, бразды правления не изымают из их сморщенных,
веснушчатых рук. И только я могу изредка отомстить за стариков -- расчленить
расчле-нителя, заговорить заговорщика.
-- Честно говоря, с недоумением слушаю тебя, сынок. Сколько живу,
никогда не думал о власть имущих. Мы -- вольный род, которому нет дела до
каких-то там правителей.
-- В нашем вольном роду, как я слышал, было немало извращенцев. Вам
было бы проще думать, что я садист. Ну что ж, думайте так. Хотя я вовсе не
садист, разве только понимать под этим словом бесконечную скуку и
бесконечную ответственность. Мне вот не могут простить, что я расчленил
директора театра. Но он был преступник. Все его анекдоты о подстроенных и в
то же время случайных убийствах, которые мы принимали за светскую мифологию,
на самом деле содержали в себе скрытое зерно -- в искаженной и пошлой форме
он щеголял перед нами своими собственными преступлениями. Свои злодеяния он
переодевал и раскрашивал, придавая им вид заведомо искусственный, вид
ярмарочных паяцев. И такой человек мог стать мужем Китти! Теперь о судьбе
девчонки можно не беспокоиться -- она будет женой герцога. Герцог живет,
руководствуясь правилом: "Все существующее смывается горькими слезами".
Слезы никогда не бывают неуместными, ведь мы обитаем в Юдоли Слез. Слезы --
я мог бы рассказать об их химическом составе...
-- В другой раз. Ума не приложу, как тебе вообще пришла в голову мысль
заняться таким ремеслом. Может быть, какие-нибудь книги на тебя повлияли?
-- Конечно, я изучил целый ряд книг. "Пытки и орудия пыток от древности
идо наших дней", "Техника наказания", "Психологические аспекты смертной
казни", "Медик и священник: последний час жизни осужденного перед казнью",
"Эволюция телесных наказаний в Китае", "Допрос и дознание", "Расстрел",
"Использование психотропных препаратов при допросе", "Гении пристрастного
допроса: традиции и индивидуальность", "Безболезненные пытки", "Казнь
унизительная и казнь возвышенная", "Зрелищные аспекты публичной казни",
"Огонь и вода как средства издевательства над телом и душой", "Железный
чулок", "Дневники палача-краснодеревщика", "Колодки", "Ужас и He-Ужас",
"Крест, Петля и Яма", "Электричество против лжи", "Детектор лжи и другие
Машины поиска истины", "Завтра меня не будет", "Гильотина", "Гильотина и
Революция", "Яды", "Этика пристрастия".
-- Неужели эти теоретические работы навели тебя на мысль о выборе
профессии?
-- Я ощутил свое призвание внезапно. Если помнишь, в школе, которую я
посещал, было принято танцевать народные танцы. Иногда нас возили в
отдаленные деревни, чтобы мы обучились древним танцам, еще сохранившимся в
этих уголках. Как-то раз нас повезли особенно далеко, в настоящую глушь.
Приехали в деревню. Это был день праздника, отмечаемого только в тех местах.
Люди, одетые в яркое, танцевали на зеленом лугу. Мы, дети, тоже были одеты в
фольклорные костюмы. Я всегда чувствовал себя неловко в этих пестрых
тужурках, обшитых бахромой, в сапожках с бубенцами. После танцев, когда все
присели к костру, мы с приятелем, усталые и удрученные шумом и непривычными
скрежещущими звуками музыки, отправились на прогулку, чтобы не участвовать в
разговоре и гаданиях. Гуляя, вышли на небольшой обрыв. По пути нарвали
орехов, но они оказались совсем незрелые. Вдруг внизу появились четыре
фигуры, стремительно бегущие в нашем направлении. Впереди бежал мужчина, его
настигали три женщины. Мужчина начал карабкаться на обрыв. Когда он уже
почти добрался до нас (мы стояли неподвижно, в своих нелепых ярких одеждах),
женщины настигли его. Это были три старухи, каждая сжимала в руке кнут. Они
стали беспощадно бичевать его. Он вертелся на земле, сворачиваясь и
прикрывая себя руками. Все они молчали, никто не издал ни звука -- только
свист кнутов. Наконец, одна из старух сделала жест рукой, означающий конец
наказания. Она подошла к лежащему в пыли человеку и произнесла единственное
слово: "Xu6of|". На малоизвестном наречии тех мест это означает "выкидыш", и
там это считается тяжелейшим оскорблением. Старухи ушли. Избитый с трудом
приподнялся. Он был одет как деревенский щеголь: черная шелковая рубашка,
кожаные штаны, на запястье золотая цепочка. Лицо у него было старое,
окровавленное. Свалявшиеся, седые волосы. С того места было далеко видно.
Где-то горели костры, и остатки хороводов еще кружились на лугах.
Потом мне рассказали, что много лет назад этого человека здесь считали
отравителем. Доказать его вину не удалось.
Тогда я понял, какому делу мне придется посвятить себя. Старая Эриния,
произносящая "ксюдонь", и резкий этнографический привкус этой сцены, черные
праздничные платья старух, богато расшитые черным бисером, -- все это было
случайностью, но из разряда тех случайностей, которые служат року.
-- Ну что ж, Вольф, ты, пожалуй, романтик. Ведь мы назвали тебя в честь
серого волка, подбирающегося к детской колыбели. Ну, не знаю, не знаю...
Лично я не выношу казней.
11
Стемнело. В гостиной мерцает только огонек сигары, которую хозяин дома
по обыкновению закуривает в сумерках. Наконец зажигается лампа -- оранжевый
торшер над глубоким креслом. Старичок недавно пробудился от бездонного
послеобеденного сна. Поискал газету, но не нашел. Странно. Внезапный резкий
звонок. Ага, это гости -- почитатели Ольбертова таланта. Стук, голоса,
кто-то рассмеялся. В одно мгновение вспыхивает десяток ламп. Ого! Смеясь,
они наполняют гостиную. Рассыпались по красному ковру, уселись на спинках
кресел. Некто, похожий на посетителей ипподромов, нервно расхаживает взад и
вперед со стаканом вермута, нетерпеливо пощелкивая пальцем по щеке. Здесь
даже министр изящной словесности -- длинноволосый, неподвижный, в сером
грубом пончо. За ним скромно согнулся человек атлетического сложения, он,
как всегда, не знает, куда деть свои сильные обмороженные руки. Это старый
друг семьи -- скульптор, работающий по стеклу. А публика все прибывает! Наш
старичок уже давно покинул свое место в большом кресле, уступив его двум
девушкам, болезненно одетым во все белое, вязаное на спицах. Потом незаметно
появилась еще одна такая же девушка. Эти девушки -- тройняшки. Личики у них
бледные и почти совсем одинаковые, только кулончики на белых шейках содержат
в себе искры различных оттенков. Оседлан даже стеклянный Рой -- на нем
расположился посол Японии. Старика, как водится, никто не замечает. Наконец
появляется Ольберт. Он в новой кофте с кармашками -- вокруг жирной талии
бегут полярные олени, над их головами вышито северное сияние. Под руку с
герцогом спускается по лестнице. Все в сборе? Отсутствуют Китти и Вольф.
Китти, заплаканная, спит в своей комнате -- ей не разрешили присутствовать
на чтении по причине позднего часа. Вольф предпочитает одиночество.
Вот Ольберту подносят теплое молоко с инжиром (он якобы простужен).
Наконец, он вынимает какие-то мятые бумажки, разглаживает их, надевает очки,
обводит присутствующих изумленным взглядом и произносит:
-- То, что я вам прочту, имеет название "Черная белочка". Оно состоит
из двух частей. Я начну с первой части, которая называется УТРО.
Пой, соловей!
О, пой, пой, пой, пой, пой, пой, пой, пой, пой, пой, пой, пой, пой,
пой, пой, пой, пой, пой, пой, пой, соловей! Пой, соловей! Пой, пой, пой,
пой, пой, пой, пой, пой, пой, соловей! О, соловей, пой же, пой же, пой же,
соловей, пой, пой, пой, пой, пой же соловей! О пой же, соловей, пой, пой,
по, пой, пой же, соловей, пой, пой же, пой, пой же, пой, пой, пой, пой, пой,
пой, пой, пой, пой, пой, пой, пой, пой же! Пой!
Роза, цвети!
Роза, роза, роза, цвети, цвети, цвети, цвети, роза, цвети! Цвети же, о,
роза, цвети же, цвети же, цвети! Цвети же, цвети, цвети же, цвети, цвети, о
роза! Цвети, цвети, цвети, цвети, цвети, цвети, цвети, цвети, цвети, цвети,
цвети, цвети, цвети, цвети, цвети, цвети, цвети, цвети, роза!!! О, цвети, о,
цвети, о, цвети, о, цвети, о, цвети, о, цвети, о, цвети, о, цвети, о, цвети,
о, цвети, о, цвети, о, цвети, о, цвети, о, цвети, о, цвети, о, цвети, о,
цвети, о, цвети, о, цвети, о, цвети, о, цвети, роза, цвети, цвети, цвети,
цвети, цвети, цвети, цвети, цвети!!!
Ветер, играй!
Ветер, играй же, о ветер, играй же, играй, играй!!!
Ветер, играй, играй же, ветер!
Ветер, играй, играй, играй, играй, играй, играй, играй, играй, играй,
играй, играй, играй, играй, играй, играй!!!
Луна, сияй!
Луна, сияй, сияй, сияй, сияй, сияй, сияй, сияй, сияй, сияй! О, луна,
сияй, луна, сияй, луна, сияй, сияй, сияй, сияй, сияй, сияй, сияй, луна,
сияй! Сияй же, сияй, о луна, сияй, луна, сияй, луна, сияй, сияй, сияй, луна,
сияй, сияй, сияй, сияй, луна, сияй, сияй, сияй, сияй, сияй, луна, сияй,
сияй, сияй, сияй, сияй, сияй, сияй, сияй, сияй, сияй, о луна!
Птица, лети!
Птица, о птица, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети,
лети, лети, лети, лети, лети, лети!
Лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети,
лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети!
Птица, лети же, о птица, лети же, лети же, лети же!
Лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети,
лети!!!
Птица, о птица, ну лети же, лети же, о лети, о лети, о лети, о лети, о
лети, о лети, о лети, о лети, о лети!!!
Птица, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети,
лети, лети, лети, лети, о птица!!!
Ольберт читает медленно, отчетливо, как машина, делая аккуратные
продолжительные паузы между предложениями. Иногда его словно бы сводит
судорогой, но это ни на йоту не нарушает ясный ритм чтения. Он читает
громко, все громче и громче.
Последнюю часть ("Птица, лети!") Ольберт выкрикивает из последних сил.
Он просто орет. Лицо его багровеет, по телу пробегают конвульсивные
вздрагивания, однако в глазах нет даже тени экстаза, ничего, что хоть
сколько-нибудь напоминало бы транс. Видно, что ему нехорошо. Ротик его
искажается гримасой отвращения. Он давится. Наконец, не остается никаких
сомнений, что его сейчас вырвет. Одна из тройняшек быстро подносит ему
огромную гранитную пепельницу в форме морской раковины. В ту же секунду
Ольберт начинает блевать. Несмотря на неаппетитность этого зрелища, гости
смотрят на него как завороженные. Он блюет так заразительно, что некоторые
зрители вынуждены подавлять рвотные позывы -- эти кисловатые тягостные
волны, поднимающиеся из телесных глубин. Но никто не отворачивается.
Наконец, пестрый поток иссякает. Девушка выносит чашу. Она идет так
быстро, что изумленному старику приходится резво отскочить, чтобы она не
прошла прямо сквозь него "с этой мерзостью". Краем глаза он успевает увидеть
мраморную блевотину в раме из гранитных прожилок, и почему-то в этой
мозаичной луже плавает железный грузовичок, принадлежащий Китти. Из пестрого
болота торчит, как после крушения, яркий красный кузов и синее ребристое
колесико. Непонятно, как он туда попал.
Ольберт растерянно оглядывается, вытирает рот платком. Он вроде бы
смущен -- если не притворяется, конечно.
-- Извините, -- произносит он, запинаясь. -- Какой-то незапланированный
катарсис. Должно быть, я слишком нервничал. Или это молоко... А может
быть... Говорят, такое очищение связано с истиной. Может быть, так бывает,
когда наконец удается, после долгих мучений, сказать правду. В любом случае,
прежде чем я прочту вторую часть "Черной белочки", придется сделать
небольшой антракт. Мне необходимо переодеться. Прошу прощения.
Действительно, и полярные олени, и северное сияние -- все они
непотребно забрызганы.
12
Во время антракта гости непринужденно рассыпаются по дому, как
гранатовые бусы с порвавшейся нитки. Старик осторожно входит в анфиладу
маленьких курительных комнат, оснащенных диванами и гранитными пепельницами.
В первой курительной темновато, здесь курит какая-то пара.
-- Кто эти хорошенькие тройняшки? Раньше я их не видела, -- тихо
спрашивает тяжелый женский голос.
-- Пассии Ольберта, -- отвечает мужской голос (естественно, тоже
приглушенно). -- Сестры Райевские: Соня, Анастасия и Кэролайн. Происходят из
семьи русского военного. Семья была в трудных обстоятельствах, и одну из
девочек, еще в младенчестве, отдали на воспитание другим людям. Она росла в
Англии, отсюда и английское звучание ее имени -- Кэролайн. Соня и Анастасия
не знали о существовании третьей сестры: мнили себя двойней. Чрезмерная
мягкость одной из них послужила причиной ее раннего душевного заболевания:
девушка считала себя отражением в зеркале. Уже в 11 лет она в первый раз
попала к нам в клинику. Второй раз в возрасте двадцати двух лет. Эти цифры
говорят сами за себя. Выяснилось, что с раннего детства ее сестра,
обладавшая властным характером, подчиняла ее себе, приучила откликаться на
кличку "Эхо", заставляла повторять за собой все свои слова и жесты. Властная
сестра мечтала об артистической карьере. Но ее изнасиловал один ее знакомый
-- несмотря на властность, психика девушки была хрупкой, и она тоже
оказалась в нашей лечебнице. Обе были изолированы, но окна их комнат
выходили в один и тот же дворик -- так, чтобы они могли видеть друг друга в
окнах. Немедленно они возобновили свою "игру в зеркало". Целыми днями одна,
стоя у окна, делала напыщенные жесты, воображая себя примадонной перед
трюмо, раскланивалась, прижимая руки к груди, жеманно или растроганно
улыбалась, делала вид, что роняет платок или перчатку. Ее несчастная сестра
в своей комнате напротив тщательно повторяла за ней эти каскады нелепых
гримас, ведь она была "отражением". Иногда им удавалось достичь подлинной
синхронизации, хотя их разделяли стекла, решетки и цветник. Мы с коллегами
любили наблюдать за "балетом", сидя в цветнике. Этот случай описал Бимерзон.
Соня и Анастасия казались совершенными копиями друг друга, но... но одна из
них была девственница. На этом тонком различии между близнецами Бимерзон
попытался построить свою терапевтическую версию: он стал культивировать это
субтильное различие в сознании сестер. "Девственная плева должна разрастись,
-- говаривал он, -- она затянет зеркало матовой пленкой, она спрячет сестер
друг от друга". Однако вскоре мы узнали о существовании третьей сестры.
Написали в Лондон. Она приехала. Ее появление заставило пошатнуться
болезненный, но сформировавшийся и стройный космос двух сестер. Если бы она
была пациенткой или психиатром, то у нее еще были бы шансы вплестись в их
узор... Но Кэролайн абсолютно нормальна. Она, правда, врач, но не психиатр,
а ухогорлонос. Принцип двойственности треснул, и все расстроилось. Тут-то и
появился Ольберт. Его привел Бимерзон, они ведь друзья. Вы сами знаете:
любовь -- превосходный медикамент. Ольберт влюбился в тройняшек, те ответили
взаимностью. Соня и Анастасия быстро пошли на поправку. Вскоре мы выписали
их. Сейчас они готовятся к браку вчетвером.
-- И что же, вы считаете, они исцелились окончательно?
-- Трудно сказать. За Анастасию я не беспокоюсь. Но Соня... Первый раз
она попала к нам в одиннадцать лет. Одиннадцать это, так сказать,
"отраженное одиночество". Затем в двадцать два года. Двадцать два это
"отраженная двойня". Что будет, когда ей стукнет тридцать три? Ведь тогда
вся тройня окажется "отраженной". Правда, это будет не скоро, но... К тому
же Ольберт скоро устранит своим пенисом ее девственную плеву, на которую так
надеялся Бимерзон. В сорок четыре года она сможет отразить весь их брачный
квартет, вместе с Ольбертом, если их союз, конечно, сохранится до тех пор. В
пятьдесят пять лет...
Старик, равнодушно пожимая плечами, раздвигает тяжелые толстые шторы и
проходит в соседнюю курительную. Здесь светлее, и к запаху табака отчетливо
примешивается запах марихуаны. Одинокий курящий сидит в углу дивана с
маленькой трубкой. Это министр словесности. Он рассматривает блокнот, куда
на скорую руку занесены какие-то цифры.
-- Оказывается, чтобы управлять словесностью, нужны не буквы, а числа?
-- спрашивает старик. Никакой реакции. Министр даже не поднимает изможденное
лицо, наполовину скрытое длинными волосами. Хозяин дома снова пожимает
плечами и проходит дальше. Остальные курительные пусты. Только пепельницы и
диванчики, диванчики и пепельницы.
13
Ольберт переоделся. Теперь он в строгом черном костюме, в белой
рубашке. Он поменял даже очки: прежние были маленькие, расхлябанные,
оправленные в золото. Сейчас на нем крупные очки в солидной, темной оправе.
Это снова наводит на подозрение, что и рвота, и переодевание были придуманы
заранее. Изменилась и манера чтения, даже голос. Первую часть он читал
громко, размеренно и четко, словно под метроном, теперь он запинается, голос
стал тих и влажен -- можно подумать, что у него во
рту идет дождь. Можно подумать, что у него во рту какая-то гнилая
деревня, куда по бездорожью, с трудом, добираются телеги с мокрыми дровами и
пьяными дровосеками. Можно подумать... Но думать уже нельзя, надо
прислушиваться. Он говорит: "Вторая часть вещицы называется... Она
называется "НОЧЬ".
(посвящается моим друзьям)
Сейчи
Когда я умер, то прежде всего была музыка, и у нее были некоторые
свойства животных -- тех, что по природе своей водонепроницаемы: печаль и
блеск бобра, скользкая бодрость утки, скрип дельфина и его же удачная
улыбка, гусиная тяжесть и чьи-то живые ласты, забрызганные росой или же
холодным бульоном. Поначалу я не поднимался и не опускался, а бойко плыл
вперед, улыбаясь. Ноги казались туго закутанными в плед или же в
промасленную бумагу. Правда ли, что я был ПОКУПКОЙ? Возможно ли, чтобы меня
купили? Ноги, не теряя русалочьей слитности, иногда заворачивали в зеленые
боковые ходы -- тенистые, ветошные, надломленные, с внутренней ряской.
Однако неизменно я возвращался на МАГИСТРАЛЬ. Начало ночи было прекрасным.
Для тебя, для тебя венецианская лагуна! Для тебя ночь Трансильвании! Для
тебя настоящая красавица и европейский синдром! Для тебя лунный свет и
бесконечная радость! О, хозяева моря, хозяева островов!
Устлер
Истрачена была одна вечность, и незаметно истаяла вторая, а я все
скитался среди абстракций, чисел, среди всеобщего смеха и собственного
шепота, среди слов (таких как "узнавание", "шутка", "пингвины", "то самое",
"домашние", "оно", "застекленность", "маленькое-милое", "великолепие"),
которые каким-то образом стали вещами или гранями одной-единственной вещи,
напоминающей кристалл. Скитался среди тканей и фактур, проходил, как по
маслу, по бархату, шелку, каракулю, по парче, по камню, по стали... То мне
казалось, что я бесконечно далеко от живых, то, напротив, возникало терпкое
чувство, что я просто иду городской окраиной, пробираюсь задворками людных
улиц, иду витринами, киосками, тентами, тенями, пиджаками, платьями,
туфельками, золотом, вороньими гнездами, заводами... Бывал я и рекой,
уносящей отражения своих берегов. О мосты, медленно гниющие над реками, --
узнаете ли вы меня? СКОЛЬКО сердечного тепла отдал я правительственным
зданиям, ангарам, депо, бассейнам! И снова уходил в глубину вещей, заседал,
как одинокий и ненужный диспетчер, в центральных точках отпущенного им
времени, в технических кабинках, где вершилась кропотливая работа
исчезновения. В общем (как, надо полагать, многие умершие до меня), я
оказался очень привязан к покинутой Юдоли, ибо Юдоль трогает. Так она,
видимо, и задумана -- как аппарат, производящий умиление. Иначе говоря,
здесь-то и создают то, что называется душой. Так в теплой и влажной утробе
взращивают эмбрион, чтобы затем вышвырнуть его в дальнейшее. Душа это герой
Диккенса, она падает на лондонское дно (Лондон -- единственный город,
устроенный как водоем, у него не катакомбы, а дно), чтобы затем всплыть в
детской комнате. Только на исходе второй вечности я впервые увидел ангелов.
Тереза
Никогда не забыть мне то утро. Утро! Утро! То утро... Я стал
возвышаться, идти вверх. Возвышение привело меня в горный ледник. Там я
впервые, со дня моей смерти, остановился. Я лежал или висел, вмерзший в
сверкающий лед, как отдыхающий мамонт. Я был огромен, но и глетчер был
великолепен -- я стал точкой в его белизне, в его необъятности. Мне
казалось, что я всегда лишь шел сюда, и теперь это и есть КОНЕЦ: застывание
навеки в зернистом блаженстве. Если бы я знал тогда, какие гирлянды и
анфилады Концов, Финалов и Окончаний меня ожидают! И тут я увидел небо, и в
нем -- ангелов. Это небо не было похоже на те небеса, которые я уже повидал
после смерти -- извивающиеся от щекотки, смешливые, ластящиеся, как жирный
котенок. Или же, наоборот, неуверенные, туманные, как пятно, как небо во сне
или на рисунке, которое еще надо домыслить, о котором следует догадаться.
Это же небо было безграничным, свободным и пустым. И в этой пустоте, очень
далеко, крошечные и светлые хороводы ангелов вращались в синеве. Два
переплетающихся хоровода, и от них, вбок и вниз, ответвлялась и уходила в
глубину небес длинная танцующая процессия. В целом они составляли фигуру,
напоминающую лорнет. Затем я не раз видел ангелов. Видел спиральную лестницу
Иакова--я лежал у ее подножия и смотрел вверх. Сквозь решетчатые ступеньки я
созерцал розовые, свежие, младенческие пятки ангелов, которые поднимались и
опускались. Сквозь решетчатые ступеньки, с которых небо смыло полярный мох и
птичий помет. В другой раз я оказался в Юдоли, на окраине деревни. Был
полдень, солнце стояло в зените, и небо все было заполнено ангелами.
Внезапно раздался крик петуха, и они исчезли. Долго я хохотал, чуть было
второй раз не умер от смеха. Такие шутки здесь в цене. Очень давно, будучи
еще живым и почти ребенком, я увидел черно-белую фотографию худой, голой
девочки, лежащей на пустом пляже. Она щурилась, заслоняясь рукой от света,
выражение лица было хмурое, замкнутое. Через несколько лет я увидел ее уже
не на фотографии, а в реальности, но тоже на пляже. Это был пляж, где
собирались нудисты. Среди множества голых тел она была единственной
полностью одетой -- в коротком темно-синем платье и в белых туфлях она
неподвижно стояла у самого прибоя и хмуро смотрела в море, как будто там
присутствовало что-то тягостное, скучное, но завораживающее. С ее волос
текла вода. Видимо, она только что вышла из воды и оделась, чтобы уйти, но в
последний момент что-то, находящееся на линии горизонта, заставило ее
оцепенеть. Проследив за ее взглядом, я не увидел ничего, кроме моря --
пустого моря, где не было в тот момент ни пловцов, ни птиц, ни кораблей. Я
не знал тогда, что ты станешь для меня чем-то вроде Беатриче: одним из
проводников по равнинам небес. И это очень странно и смешно, ведь ты жива, а
я умер, и точно знаю, что ты даже и не вспоминаешь обо мне. Однако мне
пришлось усвоить странную истину: чтобы быть прахом, следует быть влюбленным
прахом. Тогда, утром, в леднике, я наконец услышал голос, похожий на твой.
Он пел: "Во Франции любовь начинается с танца. Выстрел раздался в ванной, и
я впервые увидела тебя. Ты появился с веселым криком "А вот и я!"
Зео
После ледника я пробудился скелетом на острове Флинта. Зеленая, сочная
трава буйно обнимала мои белые аккуратные кости, росла между ребер. Я лежал
на горе. Остров каскадами сбегал к морю. Я был скелетом-указателем, стрелкой
-- сомкнутыми костями рук я указывал туда, где находился клад. Этот клад был
лишь краешком того моря сокровищ, которые потом прошли перед моим взором.
При жизни я был равнодушен к драгоценностям, да и сейчас они мало волнуют
меня, но прихоть ночи заставила меня стать инспектором необъятных складов
ценных вещей. Я -- сам Инвентарь, мое зрение заведует шкатулками, перстнями,
инкрустацией, горностаевыми мантиями, резьбой по камню и стеклу,
малахитовыми галереями и янтарными комнатами, хрустальными и фарфоровыми
вазами, яйцами Фаберже, гравюрами на стали и на меди, моделями парусников,
венками, древними знаменами, орденами, монетами всех времен и стран, а также
всеми бумажными деньгами, их водными знаками, всеми печатями, росчерками,
вензелями, изысканными почеркушками, долговыми обязательствами и нотариально
заверенными бумагами, гербовыми марками, всеми коронами, державными
яблоками, скипетрами, дарохранительницами, амфорами, оружием, древними
прялками, гребнями, ткацкими станками, эталонами мер и весов, живописными
полотнами, амфорами, гобеленами, экспонатами всех музеев, слитками
драгоценных металлов... О господа яблок и черепах! Зачем? Возможно, так
слепых еще котят окунают мордочкой в молоко. Пятнадцать человек на сундук
мертвеца! Пиастры! Пиастры! Флинт! Старый Флинт! О Геката, Трехликая,
медо-любивая, покровительница пыльных дорог! О Тривия, дочь Астерии! Хорошо,
когда после смерти только вода во всех ее видах -- пар, лед, снег, водопады,
реки, море, подземные озера, бассейны. Разбитые вдребезги теплицы. Разбитые
вдребезги стеклянные кенгуру, вомбаты. Один, почти целый, утконос.
Корин
Быть мертвым приятно, особенно поначалу. Потом случаются трудные
встречи. Среди битого стекла, среди живых шкафов меня вызвали на дуэль.
Это был огромный рыцарь, словно слитый из тошнотворного чугуна. Было
страшно, но я принял вызов. Для поединка мне выдали тело, способное
сражаться, -- обычное, молоденькое, солдатское тело, какие разбросаны везде
во времена войны. До этого моими телами были тела гор, тела кратеров, тела
ветра, воды и микроорганизмов, ртутные, мраморные, сахарные, хлебные,
ковровые... Бывали и не-тела: похожие на опоздание поезда, на щели в горных
породах, на выздоровление, на взрыв, на промежутки между книгами.
Как Дон Жуан, я отважно протянул противнику руку. Как Командор, он сжал
ее в своей. Но мы не провалились в ады. Нечто вроде шаровой молнии (такие
молнии я видел когда-то в кино) снизошло на наши сомкнутые руки, превратив
их в единое тело. Нас обоих без жалости ударило током, и я почувствовал, что
в слипшихся руках что-то возникло. Это было зачатие какой-то вещи. Рыцарь
исчез. С трудом я разжал измятые пальцы и на своей солдатской ладошке увидел
игрушечный автомобильчик -- грузовое такси, "мерседес" с удлиненным багажным
отделением. Мягкие, нежные белые шины, белые шашечки на черных дверцах.
Ногтем я поддел дверцу багажного отделения и там нашел костяную куколку,
изображающую пятимесячного младенца в скафандре советского космонавта, с
красной пятиконечной звездочкой на шлеме. Краска на нем облупилась, и
румянец его казался фрагментарным, анекдотическим.
Бывал я и в адах. Ады стояли пустые и заброшенные. Я видел
развалившиеся агрегаты, остывшие печи, истончившиеся ржавые котлы, замки и
амфитеатры, колеса, игольчатые горы, похожие на белых дикобразов, мосты и
пыточные стадионы -- все казалось декорацией, глупо провалившейя внутрь
себя. Для пущего смеха я кружил над адом на бутерброде, используя его как
летательный аппарат. Это было уютно: я лежал на свежем белом хлебе, покрытом
ласковым слоем сливочного масла, и глядел вниз. Накрылся же я, как
одеяльцем, овальным кусочком жирной, приятно пахнущей колбасы. А ты пела:
"Привет, странник! Ты -- в опасности. Разреши мне быть с тобой всю эту
ночь".
Журземма
Я люблю святую воду, но Геката принимает только мед. Толстый мед, в
глубине которого горит теплый, пушистый огонь. Однако после поединка
полагается совершать омовение. Я был погружен в ванну. Я нежился в ароматной
белоснежной пене. Над пенным ландшафтом возвышалась моя огромная голова --
самостоятельная и величественная голова воина-победителя. С одной стороны за
бортиком ванны парадом текли бесчисленные священники, кардиналы, католикосы,
епископы, патриархи, ламы, муфтии, раввины, митрополиты, архиепископы. По
другую сторону ванны бесчисленные парочки предавались пылкой любви -- целый
океан совокуплений. Я видел их всех сверху. Я думал о пирожках, которые надо
будет испечь для будущих детей. Внезапно передо мной возник здоровенный
монах. Он столпом поднимался из пены, родившись из нее, как некогда Beнера
близ кипрейских берегов. Мрачный, величественный, в рясе телесного цвета, в
надвинутом клобуке. Лицо аскетичное, гладкое, без черт. Неужели мне
предстоит новый поединок? Но он не двигался, лишь предстоял предо мной.
Монашеский капюшон постепенно сползал на затылок, обнажая лысину странной
формы. Кто ты? Чего тебе надо? Он молчал. Вдруг я с изумлением узнал в нем
свой собственный половой орган -- я и думать о нем забыл за время смерти!
Откуда он здесь? Да еще в состоянии эрекции? Так мы и стояли друг против
друга -- две колоссальные молчаливые фигуры, встретившиеся на белых облаках,
отливающих мириадами радуг: голова и член. С того дня мое живое,
человеческое тело стало постепенно возвращаться ко мне: частями, то
появляясь, то снова исчезая, но снова появляясь и обретая, вечность за
вечностью, свою прежнюю полноту. Я понял тогда, стоя лицом к лицу с монахом
на пенных облаках, что предстоит еще вернуться в отчий дом, откуда я был
похищен смертью. Ведь если у нас есть гениталии, значит, у нас должен быть и
дом. Где яйца, там и гнездо. Я узнал его имя -- Варфоломей. Я так долго жил
с ним, я мыл его и вводил в нежные женские тела, а имени его не знал. Теперь
он написал свое имя белым семенем -- имя на миг застыло в воздухе, словно
вежливо дожидаясь, пока я прочту его, а затем его имя стекло белыми
струйками по бортикам ванны, в пену. Его имя стекло теплыми ручейками по
спинам совокупляющихся людей, его имя стекло по роскошным облачениям
священнослужителей, по митрам, тиарам, камилавкам, по девическим животам, по
рясам, по тонким женским запястьям, по атласным белым перчаткам, на которых
золотой нитью вышиты были инициалы. А ты пела: "Аристократия! Западная ложь!
Мокрые улицы ночного города..."
Бимерзон
Не могу сказать, что после смерти я понял все, но я понял, как все
устроено. Понял, но потом забыл. Жаль. Если бы я лучше учился в школе, если
бы я брал частные уроки физики, химии или даже математики, я смог бы,
возможно, превратить мои понимания в знания, которые удерживались бы
памятью. Но при жизни я был ленивая скотина, к тому же бездарная по части
точных наук. Я же не подозревал, что после смерти меня станут посвящать в
детали мирового механизма. Я видел этот механизм (если его, конечно, можно
называть механизмом) воочию, я, можно сказать, облизал каждую из его пружин,
каждый клапан, каждое сцепление, каждый рычажок. Почему я должен быть
одинешенек -- я и мир, и больше никого? Я видел, как время сжимает события
до состояния вещей, а затем разворачивает их в ландшафты -- так, с хрустом,
рвут в гневе китайский барабанчик. Я видел миры, где царствует чистое
раздражение, и там возникают вещи. Я видел миры умиления, и там тоже
возникают вещи, точнее, вещицы, но они прочнее вещей. А ты пела: "Красота
ангелов проникает в мои сны, чтобы стать моим тайным любовником, чтобы
заставить меня улыбаться сквозь замерзающие слезы..." И ты пела:
"Черно-белый серафим! Якорь в моем сердце! Трусливый мальчишка!" В саду
Бимерзона я видел черные гнилые стожки, одетые в кружева. Я видел слишком
много бессмысленного, и это не объяснить ничем, -- разве что чувством юмора,
которое никак не соотнесено с человеческим. Я познакомился с
Издевательством, которое без устали издевалось над самим собой. В тех краях
оно почиталось в качестве бога. Я видел Олимп, где все боги были убиты, а на
их местах восседали сумчатые животные. Мне сообщали секреты, от которых
веяло ужасом истины. У меня слабая память. Если бы я был ученым! Но я всего
лишь писатель. Иначе нашел бы способы сообщить живым много ценного --
достаточно для того, чтобы они стали обожать саму память обо мне. Я снизошел
бы к спиритическим столикам, пробившись сквозь облака псевдодухов, которых
называют "конфетами", -- вида они не имеют, но их речь живая и сладкая, как
вкус батончиков. Я обратил бы в слова и в формулы трещины на стенах научных
институтов. Я связался бы с разведками сверхдержав. Подавив тошноту, я вошел
бы в телепатическое общение с руководителями религиозных сект и с передовыми
мыслителями человечества. Как новый Прометей, я ввел бы в мир новые
лекарства и новое оружие, новые интриги и фабулы, новый, доселе неведомый
отдых. Если ты мальчик, то ты, рано или поздно, получишь девочку. Кажется, я
смог бы подорвать саму основу страдания и оно было бы забыто. Я сделал бы
это, даже если бы потом меня приковали над бездной и львы ели бы мою слабую
печень. Но здесь милосердно позаботились о том, чтобы меня не за что было
наказывать. Допуск был колоссальный, но, сообщив, они все непринужденно
стирали из моего сознания, словно рукавом. Кто "они"? Здесь множество
всяческих "они", и в то же время здесь нет никаких "они". Здесь нет никакого
"здесь", одно лишь "там". А ты пела: "Красавица и Чудовище! Ты хочешь быть
Королем, я хочу быть Королевой. Мы будем на Троне, но лишь на миг". Я видел
ВСЕ, но это было фальшивое ВСЕ. Я был ВСЕМ, фальшивым ВСЕМ. Я понял
фальшивое ВСЕ, а это почти то же самое, что понять настоящее ВСЕ. Но одного
я не понял и сейчас не понимаю: со дня моей смерти было много встреч, но я
ни разу не встретил никого из тех, кто умер до меня. Такое ощущение, что я
первый мертвец во Вселенной. Почему так? Где они?
Соня
А маленького советского космонавта мне пришлось потерять. Утрата. Еще
одна утрата. Я вспоминаю его так же часто, как и себя, -- то есть почти
никогда. Заблудился маленький мальчик. Дитя в белом скафандре в зыбучую ночь
забрело. Бедный, бедный маленький мальчик! В тонкой плетеной корзинке несет
он смуглый пирожок -- на крови, на крови младенца замешан был пирожок! И сам
же младенец несет его в корзине своей -- сквозь темный лес, сквозь темный
лес мальчик несет пирожок! О сияние силы рыцарей зла -- осыпалось, как хвоя
с елей Шварцвальда, сияние силы рыцарей зла. Оплетены корнями сосен, укрыты
мхом, спят они, как потухшие огоньки -- навеки, навеки потухли рыцари зла!
Маленький мальчик несет пирожок. По темному лесу, по темному лесу, по
темному лесу в легкой корзинке несет пирожок. О, блести, блести красотою
своею, о смерть! О прекрасный блеск смерти, о прекрасный блеск смерти! Между
живыми и мертвыми нет особых различий. Прошлое и будущее -- одно, так как
все мы в будущем станем прошлым. Жизнь живых делится на сон и бодрствование,
причем большинство отчего-то больше времени уделяет бодрствованию. Меня все
занимал вопрос: после своей смерти сплю ли я иногда, или же только посмертно
бодрствую, или же только посмертно сплю? Последнее маловероятно -- смерть не
похожа на сон. Но... Накопив некоторый опыт по части того, как быть
мертвецом, я понял наконец, насколько важно в нужный момент притвориться
спящим! Детский трюк, простейшая элементарная отмычка, но без нее не
проникнуть в заповедные области смерти. Путь в рай прост, как хлеб с маслом.
Смерть -- это бесконечная и совершенно прямая дорога, иной раз она проходит
через области отдаленно-суетливые, где можно увязнуть в бурных событиях,
настолько непонятных и излишних, что потом нет сил даже на смех. Как-то раз
я был втянут в подобный переплет, но затем прикинулся, что вдруг задремал. Я
изобразил себя затуманившимся, безоружным, потерявшим способность замечать
происходящее -- дескать, сплю, сплю как живой, беспечно раскинувшись там,
где настиг меня сон, уткнувшись, как котенок, в молочное забвение. Видно,
сну подобает честь, и бог сна в почете. Меня тут же извлекли из несносных
миров и осыпали милостями. Честно говоря, я удостоился почестей совершенно
незаслуженных, и они каскадами ниспадали на меня, не зная никакой меры. Мне
напомнили, что я -- королевской крови, и тут же меня венчали на царство: мир
стал мягким и эластичным, дабы вместить мои помпезные церемонии, мои
фейерверки, мои балы, мои купания, моих нимф, мои парки, гроты, павильоны,
моих наложниц, мои армии, мои знамена, мои гардеробы, моих белошвеек...
Затем меня облекли в папский сан: к моим туфлям припадали черные монахи,
белокурые девочки и негры. Помню свои атласные белые перчатки, на которых
золотой нитью и жемчугами вышита была схема Голгофы: голова Адама, на ней
три креста, центральный укреплен копьем. Мне сообщили, что я -- гений, и
поднесли мне в дар все вокзальные циферблаты, все шахматные доски, все
шлагбаумы и всех зебр мира. Меня поставили в известность, что я -- святой, и
я стал освещать все вокруг сверканием своего золотого нимба. Мне вернули мое
личное тело, но на ладонях были стигматы, из которых непрестанно сочился
благовонный елей. Мой нимб не только источал свет, он был также отличным
оружием: его края были необычайно остры, и я, весело подпрыгивая и вращаясь,
словно топор, прорубал себе дорогу в любом направлении. Мне сказали, что я
-- бог, но я не поверил. Узрев мое сомнение, все вокруг наполнилось смехом
-- веселым, брызжущим смехом великодушия и щедрости. Меня любезно пригласили
вращать мирами и быть всем. Я был луной, приливом, стрелками на часах, был
мужским членом, входящим в женский половой орган, был женским половым
органом, принимающим в себя мужской член, был самим инстинктом размножения,
наращивающим свою мощь весной, был солнцем, был духом, который развлекает
детей сновидениями, был снегопадом, был четырьмя временами года. А ты пела:
"Как, ты никогда не слышал об этом? Подойди ближе. Прикоснись ко мне. Пришло
время попробовать..."
Анастасия
Аттракционы будущего состоят из "возможностей". Некоторые из этих
"возможностей" я испробовал, другие нет. Как-то раз, например, я был
персонажем американского фильма -- плоской тенью, скользящей по белому
экрану. Я бежал, стрелял, вскрывал письма, но боковым зрением все время
наблюдал зрительный зал небольшого летнего открытого кинотеатра где-то в
Греции или в Крыму, и людей, сидящих на старых скамейках, чьи лица были
обращены к экрану. В их зрачках и стеклах очков, как в битых зеркалах,
отражались фрагменты экрана. Мелькал и я. Изможденный гангстер, спасающийся
от погони, я стоял на пожарной лестнице кирпичного дома. Мое лицо явилось на
экране крупным планом -- черно-белое, с впалыми щеками и глубокими
морщинами. Лента была старая, мой образ был словно из песка или из пепла.
Подо мною уже мелькали полицейские фуражки, похожие по форме на черные
короны или терновые венцы. Я видел их внизу сквозь решетчатые ступени со
следами белого птичьего помета. И в то же время прямо передо мной был
зрительный зал. Я посмотрел на зрителей, прямо на них, я посмотрел на них со
своего экрана. И взглядом я дал им понять, что я вижу их. Минуты шли, а мое
лицо все таращилось на них, бесстыдно, внимательно, невозможно -- я
наблюдал, как до их сознания постепенно доходит неладное, как в лицах
вызревает мистический ужас. Я вдохнул запахи их вечера -- аромат цветущих
акаций, запах болотца и близкого моря. Отчего-то все это доставило мне
необычайное удовольствие -- тонкое, на гурманский вкус, как мне почудилось.
Я стоял на верхней площадке небесной лестницы, я был началом и концом всего,
и при этом скромно наслаждался простыми запахами чужого южного вечера,
затерянного среди других вечеров Юдоли.
Мне была дарована безграничная свобода перемещаться во времени. Я
оказался внутри своего тела, бегущего по железнодорожному мосту, когда я был
десятилетним мальчиком, одетым в оранжевое. Меня окружала тьма моих здоровых
внутренностей. Я слышал над собой -- там, где на морских пейзажах изображают
солнце, спрятавшееся за облаком, -- стук моего сердца, стук, учащенный,
напряженный от быстрого бега. Мне захотелось взглянуть на мое сердце,
которое я так любил и люблю до сих пор. Я посветил вверх своим нимбом, как
комариным фонариком, -- сердце было огромно, и почему-то оно стучало в
мешочке из грубой шерстяной ткани. Наверное, чтобы ему было тепло. Я
вспомнил о сердце, которое я однажды видел в юдоли, -- оно не билось и тоже
лежало в подобном мешочке. Мой брат как-то подарил этот мешочек моей
маленькой сестре. Он также преподнес ей чью-то отсеченную руку, срезанную
кисть. Так непринужденно, как протягивают через стол кисть винограда. В тот
момент я впервые почувствовал вкус скорби. Сердце -- рука -- кисть. Две вещи
являются тремя вещами. Потерянный предмет -- разновидность смерти. Потому
что потерянный предмет становится словом, как и смерть, обреченная быть
словом. В одной из Сокровищниц я снова увидел это сердце и эту руку -- они
были оправлены в золотые скорлупы, усыпанные драгоценными камнями. Девочка
(возможно, это была Китти, но я не разглядел лица), увенчанная короной с
наклоненным набок жемчужным крестом, восседала на троне, сжимая сердце из
сокровищницы в одной ладони, как державу, а отсеченную руку -- в другой, как
скипетр. После этого я сумел вспомнить шум дождя.
Затем я сам стал сокровищем -- бесплотным центром белой, необъятной
залы, где не было ничего, кроме особенного свежего воздуха. После этого во
мне навсегда осталось открытым так называемое "белое окно". Оно всегда
где-то сбоку, всегда открыто, за ним никогда нет ничего, кроме воздуха. В
конечном счете это вентиляционное отверстие, нечто вроде жабр, без которых я
задохнулся бы на безвоздушных вершинах рая. Таковы аттракционы будущего,
таковы вагончики "возможностей". Смерть -- это бесконечная и совершенно
прямая дорога, и по ней идут нескончаемые составы таких вагончиков. Выше
была лишь тьма. Тьма, нареченная глуповатым именем Радость. Я нырял в нее,
резвился в ней, я был ее купальщиком, ее пловцом... То я был один, то
чувствовал недалеко от себя чьи-то огромные тела. "Кто здесь?" -- спросил я.
В черничной темноте в ответ зажглись четыре пятна нежного, словно бы
закатного света, и я увидел лица четырех Животных -- Кита, Слона, Носорога и
Бегемота. Они висели передо мной -- живые, но неподвижные: лишь изредка
помаргивали крошечные глазки на колоссальных лицах. Я спросил их: "Где
Крокодил?" Они не ответили. Они были освещены мягко, но тщательно, вплоть до
мельчайших морщинок, в глубине которых прятались синие тени. Большие
животные -- аргументы Бога, некогда предъявленные незаслуженно страдающему
Иову. Теперь они были предъявлены мне, который блаженствовал незаслуженно. Я
был так высоко, или же так глубоко, что даже твой голос уже не долетал до
меня. Я подумал о тебе и вернулся.
Кэролайн
Мне показалось, что я вернулся в свой труп. Я лежал на склоне, в
жестком кустарнике. Надо мной было звездное небо. Я был одет во что-то
тяжелое и плотное, вроде шубы. Мне показалось, на лбу лежит бумажная полоска
с молитвой. Звезды погасли и снова зажглись -- я моргнул. Бумага вспорхнула
со лба -- это был детский рисунок, неумело изображающий черную белку,
сжимающую лапками изумруд. Рисунок был коряво подписан именем моей сестры. Я
встал. Тело было твердым, бесчувственным, как дрова. Сердце в груди билось
тихо, словно шепотом. Земля вокруг блестела от звездного света. Я пошел
вниз. Я был одет Дедом Морозом -- так, как его обряжают в наших краях:
черный тулуп, белые рукавицы, белая конусообразная шапка, изображающая
снежный холмик, синие валенки до колен, к которым прикалывают бумажные ленты
с желаниями. В левой руке я сжимал мешок с подарками. Не было только посоха.
Возможно, я потерял его.
Это одеяние подошло бы к зиме, но была жаркая летняя ночь, наполненная
скрежетом цикад. Я шел большими, твердыми шагами. На валенках шелестели
развевающиеся ленты, под ногами хрустела земля, усеянная пустыми панцирями
улиток. Змея лежала под кустом, свернувшись кренделем, похожая в звездном
свете на блестящую горку человеческих испражнений. Я подошел к железной
калитке, открытой настежь. Блестели темные окна отчего дома. Я вошел. Пусто.
Поднялся на второй этаж и вдруг увидел Китти -- она стояла в коридоре. Вид у
нее был сомнамбулический, хотя в ту ночь не было луны. Ее маленькое, острое
личико казалось злым, веселым и спящим одновременно. "Старый Холод!" --
крикнула она, увидев меня. На ней была только черная майка. Худые голые
ноги, между которыми виден был половой орган маленькой девочки --
аккуратный, выпуклый, словно бы вылепленный для долгого бесстрастного
созерцания, как сад камней. Я вынул из мешка одеяние Снежной Внучки и кинул
ей. Она подпрыгнула от радости и надела белый тулупчик, белые варежки, белые
валенки -- все белое, расшитое искрами. Я перевернул мешок и вывалил его
содержимое на пол -- образовалась гора игрушек, причем все это были
маленькие копии транспортных средств: самолетики, поезда, автомобильчики,
ракеты, кареты, колесницы, линкоры, лодочки, дирижабли... Наверное, эта
груда была яркой, но в темноте цвета были не видны -- только отблески.
Похоже было на кучу убитых майских жуков, сверкающих в ночи своими
хитиновыми покровами. Китти что-то крикнула и перепрыгнула через подарки. Я
хотел найти отца, чтобы преклонить перед ним колени, как на картине
Рембрандта "Возвращение блудного сына". Я взял Китти за руку, я хотел, чтобы
мы оба упали на колени, -- Сын, одетый Дедом, и Дочь, одетая Внучкой, перед
Отцом, который одет Отцом. Но его нигде не было видно. Все равно мы с Китти
опустились на колени, а затем встали на четвереньки. Так, на четвереньках,
стали перемещаться по дому. "Мы -- звери", -- сказала Китти. Ползли
коридорами. Путь привел нас на кухню. Здесь ярко сияла стальная посуда,
отражая свет звезд. На полу стояло блюдо с абрикосами и сыром. Мы подползли
к нему, стали обнюхивать еду. Запахи охватили меня целиком: острый, сложный
запах сыра, свежий и холодный запах абрикосов...
-- Сыр, -- произнес я, словно называя кого-то по имени.
Китти отчетливым шепотом рассказала мне, что Резерфорд, умирая в
Лондоне, попросил принести ему сыру. "Никогда не любил сыр, а теперь вот
захотелось..." -- сказал он. Съев ломтик, он промолвил: "Неприятный вкус. Я
был прав, не любя его. Теперь я могу спокойно умереть".
-- На самом деле сыр был вкусный, -- прибавила Китти. -- Просто
Резерфорд умирал, и у него не было аппетита.
-- Этому вас учат в школе? -- спросил я.
-- В школе? Я не хожу в школу, -- ответила она.
Раздался звук, как будто о стекло ударился шмель. Китти встала, взяла с
кухонного стола нож и протянула его мне. Я отрезал кусочек сыра, снова
обнюхал его. В ломтике была круглая дыра. С трудом удерживая тонкий и
скользкий ломтик в руке, одетой в толстую рукавицу, я поднес его к глазу и,
как в монокль или в круглое окно, взглянул на Китти, на кухню, на резкое
звездное небо. Затем я поднес сыр ко рту и откусил...
14
Старик, почувствовав некоторое утомление, поднялся на второй этаж,
чтобы немного отдохнуть в своей любимой комнате. Он неторопливо проходит по
коридору между бледными лимонообразными лампочками в золотых веночках,
нащупывая тайный ключ во внутреннем кармане жилета. Доносится шум сыпучих
вод -- это Вольф принимает вечерний душ.
Старик толкает последнюю дверь и дергает за шнурок выключателя.
Небольшая комната без окон освещается тусклым светом пышно закутанной лампы.
Невзрачный шорох сухих цветов -- они всюду, их множество, они огромными
букетами стоят в углах, гирляндами вьются по стенам. Роскошные мумии букетов
на глазах превращаются в пыль. Пучки иссохших трав, свисающие на нитях,
выделяют стародавний зной. На темно-коричневой с позолотой стене, в
обрамлении из цветов, висят несколько фотографий. Золотистые ленты свисают с
витых рамок. Малыш Оле, с брезгливым видом рассматривающий громоздкий
игрушечный паровоз. Вольфганг в день поступления в школу, в униформе с
блестящими пуговицами, насупленно глядящий на шелковый флаг, который он
держит в руках. Малютка Китти зимой, в канун Рождества, сидящая на резном
высоком стуле с бахромой из потертых бархатных шариков. Она же, и тоже
зимой, на фоне снежной горы, щурящаяся сквозь снег, застрявший в ресницах, с
роскошными санками на кожаном ремешке.
Здесь им обеспечен покой. Среди сухих цветов, превращающихся в прах с
шелестом, с покорным лепетом, их лица кажутся насквозь пропитанными тем
сиянием великого отдыха, какое лишь изредка можно заметить на лицах
курортников, проводящих беспечные недели и месяцы на море. Такая свежесть
еще бывает у львят, она встречается на лицах ледяных девочек, которых
изготовляют к зимним праздникам. Вот Оле и Вольфганг за столиком уличного
кафе. Видны липкие разводы на поверхности столика -- одна из кофейных
чашечек у них опрокинулась. Пухлые ручонки Ольберт трогательно сложил на
груди (наверное, паясничает). Кажется, он видит надвигающегося Танатоса и
капризно предлагает ему повременить. Вот фотография в рамке, повитой
скелетцами хризантем: семья на борту летнего парохода. Чопорный и хрупкий
отец с косой коричневой тенью на лице, падающей от широкополой панамы. Его
супруга, с белым зонтом в руках -- лицо молодое, насмешливое. Китти в
купальном костюме, опоясанная надувным лебедем. Ольберт в глубокой
прострации. Угрюмый Вольф с географическим атласом подмышкой. Все они сняты
на фоне большого спасательного круга с крупно написанным названием парохода
-- "Беттина". Солнце освещает их сверху и сбоку -- морское, увядшее, словно
бы увиденное сквозь коричневое стекло пляжных очков.
Старик медленно продвигается вдоль колышущихся стен, метелкой из мягких
перьев стряхивая пыль с фотографий и ребристых ваз.
По стариковской привычке он что-то бормочет:
-- Надо сказать себе: прошлое есть прошлое. Оно не может быть настоящим
-- просто-напросто не умеет. Его этому не научили. Не на-у-чи-ли.
Старичок приближается к громоздкому предмету в глубине комнаты -- это
что-то вроде большого игрушечного театра с тяжелым бархатным занавесом. Его
крыша представляет из себя пыльный металлический органчик, над которым
укреплена кубическая шкатулка из дубового дерева -- в ее стенках проделаны
небольшие овальные окошки, на равном расстоянии друг от друга, откуда льются
лучи белого пыльного света, напоминающего свет диапроектора в промежутках
между кадрами. Всего пятнадцать окошек. Пятнадцать бледных лучей тянутся от
шкатулки к памятным фотографиям на стенах, высвечивая лица умерших. Пятна
света, ложащиеся на неподвижные лица, кажутся робкими, случайными, как
дрожащие солнечные блики ранней весной. То высветят лицо кого-нибудь из
умерших, то руку, сжимающую географический атлас, то пучок сухих цветов.
Старик с помощью шнура поднимает занавес. Внутри -- нечто вроде
искусственного грота, какие часто можно встретить в парках
вельмож-затейников. Здесь находятся несколько стеклянных фигур в
человеческий рост. Сделаны они также искусно и тою же рукой, что и Рой в
гостиной. Приглядевшись, можно заметить, что их расположение напоминает
фотографию на борту парохода: в центре господин в панаме, опирающийся на
трость, рядом дама с зонтом. Пыльные, полупрозрачные Вольф, Ольберт и Китти.
Поверхность стекла все еще пытается имитировать лед. Старичок обмахивает их
своей метелкой, продолжая бормотать:
-- Рой... рой призраков покушается на пустоту ваших мест. Как они меня
порой раздражают! Крошка Китти, никак не припомню, где тебя похоронили -- да
и стоит ли вспоминать, ведь твой живой отпечаток ежедневно маячит передо
мной, окруженный обручами, зверьками и осколками граммофонных пластинок. Ты
это или не ты, а, Китти? Моему голосу не проникнуть сквозь алмазный колпак.
Даже если это действительно ты, уж лучше бы ты отправилась странствовать.
Ведь смерть это дорога, сказал Ольберт. Малыш Оле! Есть, знаешь ли, пропасть
-- бездонная пропасть, отделяющая Твиддлдума от его брата Твиддлди. Здесь, в
этой кумирне, ты -- божок, но вообще-то ты всего лишь рассеянный труп. Весла
Харона! Кривые весла Харона, изогнутые и переплетающиеся, наподобие
пропеллера. Вольф! Вениамин, серый волк! Беги своей тропой! Беги же своей
тропой! Елизавета, язвительная женщина! Ты никогда не показываешься, а дети
здесь каждый день. Но ты всегда была умнее детей. Глупыши... Они застряли...
Старик посмеивается, прикрывая рот ладонью.
-- Простите уж мне этот смех. Я всегда был втайне смешлив, но правила
приличия заставляли меня жестоко подавлять в себе эту склонность. И теперь
невысмеянный смех непроизвольно поднимается со дна моей души. Но это не
означает, что я утратил серьезность. Как бы тлетворно ни действовала бы на
меня привиденческая возня в первом этаже, как бы ни мучили меня подозрения
относительно ваших теней, маленькие обманщики, в душе моей не иссякнут
источники печали. Дети, дети! Если какие-ни будь жестокие иконоборцы вдруг
разрушат мой крошечный храм, я пущусь в путь, я предприму поиски, я соберу
все по крупицам и восстановлю все заново, в надежде, что терпеливые боги
когда-нибудь поступят так же и с нами. Этот мир -- мир богов, и из него нет
выхода. Бегите же своими тропами! Напои ее тропами! Напои ее берлеевыми
тропами!
Старик нажимает на рычажок: в глубине театрика оживает невидимый
механизм, что-то щелкает, стеклянные фигуры начинают перемещаться на
небольших бронзовых подставках -- в полу проделаны своего рода каналы,
сплетающиеся в узор, по которым ездят стальные штыри, несущие на себе
металлические коврики с возвышающимися на них истуканчиками. Траектория их
взаимных перемещений напоминает крендель. Их скольжение сопровождается
звоном колокольчиков, вызванивающих мелодию песенки "Я обрызгана оранжевым
соком". Когда-то, когда старик был еще молод, была в моде эта игривая
датская песенка:
Юкки Двенадцатиглазый продал королевство,
Продал королевство за один острый нож...
Некоторое время старичок наблюдает плавный ход этих якобы ледяных
фигур, чем-то напоминающий менуэт, -- медленно сходятся и расходятся
полупрозрачные тела, как огромные сосульки, потерявшие способность к таянию
и назначенные быть деталями в молитвенной машине. Затем он нажимает еще один
рычажок -- дно грота слегка раздвигается, так что становится виден сам
механизм -- несложный, но прекрасный: большая стальная спираль,
раскручивающаяся и затем сжимающаяся напряженными судорожными толчками,
массивный медный валик, сонно вращающийся увалень, чье добродушное
отполированное тело усеяно мельчайшими зубчиками. Отшлифованные до тусклого
блеска молоточки, сонливо вздымающиеся по очереди из-под вращающегося
цилиндрического валика, поднимающиеся несколько устало, но в то же время
бодро и легко, как люди на борту корабля, уронившие голову на грудь в
надежде подремать или же в отчаянии, но время от времени вскидывающие их,
чтобы посмотреть, не близко ли земля. Вскинувшись, эти головы теряют надежду
на несколько секунд и падают восвояси, задевая при падении тот или иной
колокольчик -- отряды этих колокольчиков, как отряды приютских девочек в
медных платьях, исполняющие под надзором воспитателей свои короткие песни
голосками то плаксивыми, то радостными.
Спроси девчонку, где тропа
В усадьбу "Горькая Пчела".
Поцелуи и черепахи, а также молнии над болотами --
Это и есть то, что называется "любовь".
Намеки, когда-то непристойные, давно стали непонятны. Старик
завороженно созерцает безмятежную работу механизма. Отличный, чистый блеск
металлов, осенние оттенки сдержанного сияния -- от платинового до
многочисленных сортов меди. Из овальных отверстий в стенах грота, которые
деликатно спрятаны под украшениями, источаются прозрачные светлые струйки
смазочной жидкости -- легчайший и нежный внутренний сок механизма,
позволяющий ему работать легко, без скрежета и страданий. Все детали
остаются свежими и неизношенными благодаря этому заботливому омовению.
Старик протягивает руку к одному из отверстий, смачивает кончики пальцев в
подтеках технического нектара. Приближает увлажненные пальцы к носу, нюхает.
Масло. Тончайшее, ароматное масло. Пахнет елеем, как в древних греческих
церквях. Запах милосердия, запах помилования. Он вызывает в памяти священное
греческое слово "элейссон". Долгожданное смягчение. Старик приближает руку к
губам, осторожно облизывает сморщенную подушечку одного из своих пальцев --
он словно бы коснулся языком старых бумаг, на которых остался свежий след
меда.
-- Летом, когда мы стояли на палубе "Беттины", под нашими ногами тоже
работал механизм. Более тяжеловесная и сильная машина -- валы и поршни
парохода.
Произнеся эту фразу, старик замирает, прислушиваясь. Слышно, что
снаружи идет дождь, словно бы подражая циркулированию прозрачного сока в
простом механизме, подражая старческим слезам, некстати увлажнившим лицо,
которое все еще хранит выцветшую, но благородную печать сарказма.
15
Сильный дождь за окном узкой, уютной комнаты. Ветхий обитатель этой
изящно обставленной спаленки лежит в постели и читает перед сном. Наконец
("Пора спать!" -- наставительно замечает он себе) лампочка гаснет, и за
прояснившимися стеклами начинает медленно проступать тусклый и мокрый сад.
Влажный снотворный шелест царствует в полумраке, но к нему присоединяется
металлическое постукивание. О, да это вязальные спицы! Какая-то старушка уже
успела пристроиться в углу и проворно вяжет. Два круглых зеркальца на ее
лице отражают оконный переплет и серебристые воды, заливающие сад.
-- Вязание и вода! -- громко произносит старик. -- Здравствуй же,
Елизавета!
-- Здравствуй и ты, -- отвечает старушка. -- Что читают нынче перед
сном?
Она указывает спицей на книгу на ночном столике.
-- Это Диккенс. "Тяжелые времена".
-- Разве времена нынче тяжелые? Скорее, я бы сказала, легчайшие,
невесомые. Как пух.
-- Давно не видел тебя, дорогая. Ты превосходно выглядишь.
-- Спасибо. Ты тоже свеж.
-- Да, ты совсем не изменилась, только что это на тебе за нелепый
чепец? Такие, кажется, носили только в прошлом веке. Когда мы жили с то- ]
бой вместе, ты никогда не одевала ничего подобного.
-- Действительно, при жизни я не носила чепцов. Но я считаю, что если
уж ты умер, бессмысленно цепляться за старые привычки.
-- Надо полагать, ты намекаешь на наших детей, на Вольфа, Ольберта и
Китти. Я тоже осуждаю их консерватизм. Их режим дня после смерти не
претерпел изменений. Впрочем... Сегодня Ольберт прочел нам любопытное
повествование о своих посмертных приключениях. Уж не знаю, писательская ли
совесть или же писательское бесстыдство побудили его к откровенности. Во
второй части он подробно описал то, что русские ортодоксы называли
"мытарствами души". Должен признаться, я слушал с интересом. Писатель есть
писатель -- все, что происходит с ним, становится материалом для литературы,
даже если это собственная смерть. Я уважаю эту позицию -- она
профессиональна. Он посвятил эти заметки своим друзьям -- я, знаешь ли,
раньше с некоторым неудовольствием косился на всю эту компанию, на всю эту
золотую молодежь, с которой он свел дружбу еще в школе, на всех этих Сейчи,
Устлеров, Кориных, Бимерзонов... Эта Тереза, этот Зео... Сколько
неприятностей и волнений доставили они нам своими безрассудными шалостями,
своими проделками! Человек пятнадцать молоденьких шалопаев -- девчонок и
мальчишек -- об их дерзостях ходили легенды! Но они были детьми из самых
привилегированных семейств, и все смотрели на их выходки сквозь пальцы. В
городе их называли "золотоглазыми" из-за дурацкой манеры носить очки в
золотой оправе. Кажется, это придумал Бимерзон. Но, видно, они все же были
хорошими друзьями, раз Оле вспоминает о них даже после смерти. В молодости
мы с тобой тоже не были кенгурятами. А уж друзья наши...
-- Я помню.
-- В конечном счете Оле стал обычным "голодным духом". Он попал на
приманку -- вернулся, привлеченный всего лишь запахом сыра. На мой вкус,
вторая часть повести Ольберта слишком цветаста. В первой части он, возможно,
более честен. Не знаю, конечно, но я всегда подозревал, что жизнь мертвеца
однообразна, как тиканье часов. Считается, что после смерти у людей отнимают
время. Подозреваю, что отнимают, напротив, пространство, оставляя только
неразбавленное, чистое время. Впрочем, тебе виднее.
-- Никто ни у кого ничего не отнимает. Глупость отнять невозможно, --
провозглашает старуха, наставительно ударив толстым концом спицы по синему
пуфу. -- Что же касается литературных произведений Ольберта, я читала только
одно. Оно называлось "Чадолюбивый убийца" -- что-то о римском офицере,
вынужденном участвовать в избиении младенцев по приказу Ирода. Этот римлянин
очень любил детей. Мучимый совестью, он поставил перед собой задачу
произвести на свет столько детей, сколько было загублено им во время
избиения. В основном Оле описывал бесчисленные зачатия. Тогда я сказала ему:
"Неплохо, но недостает свежести. Для чего писать, если нельзя обеспечить
хотя бы краткий освежающий эффект?" Да и сейчас... Что он, вообще-то говоря,
может знать о смерти? Думаю, что и его последнее произведение -- не более
чем литература. Если он и описывает какой-то реальный опыт, то скорее всего
имеется в виду просто галлюциноз. "Смерть" для Ольберта -- всего лишь
эвфемизм. Тем более, что он...
-- Ладно, хватит об Ольберте! Неужели у нас нет других тем для беседы,
мы ведь так давно не видели друг друга? Лучше скажи мне, дорогая, почему ты
ни разу не навестила меня за все эти долгие, долгие годы?
-- "Эти долгие, долгие годы". Ужасно звучит, как нытье шарманки.
Подайте нам монетку.
-- Ты, как прежде, язвительна, моя Беттина. Мы ведь выбрали тот пароход
из-за его имени. Из-за твоего имени. Мысленно разбивая о его борт бутылку
шампанского, я цитировал английскую загадку о Бетси, Лиззи и Бесс, которые
ходили с корзинками в лес. Собранные ими грибы не были разделены на три
порции. Ты сказала, что после смерти не стоит цепляться за старые привычки.
И все же я благодарен тебе за то, что ты осталась такой же, как была, той
самой едкой Елизаветой по прозвищу Кислота, какой была еще в школьные годы.
Помнишь, твое детское прозвище -- Кислота? Я рад, что ты не луч и не парящая
вуаль. Беседуя с лучом, я вряд ли смог бы выговорить имена "Бетси", "Лиззи"
и "Бесс". Эти имена были бы съедены светом вместе с корзинами, их снесло бы
в миры, где не найти ни тропинки, ни грибка. Я счастлив, что ты ограничила
свои превращения чепцом.
-- Говоря о чудовищной власти привычек, я имела в виду вовсе не Вольфа,
Ольберта и Китти. Они...
-- Оставим их! Вспомним лучше молодость, наши путешествия... Нам дарили
цветы на причалах. Из окон поезда мы любовались фейерверками...
-- Я скорее намекала на тебя, ведь ты невольно переносишь на других те
недостатки, которым сам подвержен. Например, ты...
-- Ах, да. У меня вообще много недостатков. Я надеюсь, наш разговор не
перейдет в тривиальное супружеское брюзжание?
-- Я отнюдь не собираюсь упрекать тебя в чем-либо. Тебе самому, видимо,
хотелось бы, чтобы наш разговор стал чем-то привычным, вроде препирательства
двух старых супругов.
Старик вскакивает с кровати и начинает раздраженно расхаживать по
комнате. На нем шелковая пижама, расшитая серебристыми водорослями, которые
слегка мерцают в темноте.
-- Кажется, я больше похож на привидение, чем ты? -- весело спрашивает
он.
Однако старуха строго стучит спицами.
-- Привидение? Может быть, ты меня считаешь привидением?
-- Я пошутил. Вовсе не хотел тебя задеть. Но, согласись, привидением
считается особа, которая после своей смерти является кому-либо из живых в
неурочное время, то есть после полуночи. Так ты и поступаешь, Елизавета.
-- Глупости. Я всегда считала и продолжаю считать, что быть призраком
-- величайшая пошлость.
-- Да, но ты появилась здесь только после двенадцати, да и то лишь
тогда, когда я выключил свет.
-- Ошибочка! Я сидела здесь и раньше и мирно вязала. Ты просто не
замечал меня. Точнее, делал вид, что не замечаешь. Ты до такой степени
усовершенствовал свой самообман, что тебе легко было убедить себя в том, что
комната пуста. Но я не закончила относительно привычек и недостатков...
-- О, твой педантизм! Твоя аптекарская страсть к последовательному
размещению слов! Ты по-прежнему держишь при себе драгоценный пинцет, которым
когда-то расправляла волокна моей души!
-- Так вот, мы говорили о самообмане...
-- Я действительно поддаюсь наивному самообману, поддерживая беседу с
тобой. На самом деле ты ведь молчишь -- я сам говорю за тебя. В этой
наивности есть, конечно, некоторая доля артистизма. "Я тоже художник!" --
как-то раз сгоряча воскликнул Микеланджело. Я разыгрываю партии двух
собеседников, имитирую оживленный спор. Согласись, для этого требуется
известная изощренность. Впрочем, шизофрения -- величайшая искусница. К тому
же -- длительное одиночество. Я ведь вдовец, дети мои умерли, я давно не
выходил из дома. Все сижу здесь один, забившись в собственную скорлупу. Что
же касается умерших, то я давно наблюдаю за этим народцем и неплохо изучил
их повадки. Они не умеют воспринимать слова и звуки из мира живых. С ними
невозможно беседовать -- они общаются только друг с другом. Поэтому ты,
бедная Лиза, самый бессловесный из призраков, который мне когда-либо
приходилось видеть.
-- Вот как?
-- Да, но я согласен продлить этот хрупкий самообман, поскольку бывают
ведь милосердные иллюзии.
-- Ты так любезен!
-- К чему эта ирония, Елизавета?
-- А что мне еще остается? Если верить тебе, ты сам иронизируешь над
собой. Только все это глупости. Не приходило ли тебе в голову...
-- Лиза, давай вспомним времена нашего знакомства. Как написал Данте:
Мне было восемь, Биче девять лет,
Когда у Портинари мы впервые...
С ней встретились...
-- ...что дело, собственно, обстоит как раз наоборот?
-- Вспоминаешь ли ты старика Портинари? Как он раскачивался под
потолком в своем лоснящемся халате, с толпой попугайчиков на плечах! Как он
пил залпом горячее молоко! Как он надевал на лоб зеленый козырек, бросавший
мертвенную тень на его пухлые щеки? А помнишь ли, как, указав на большой
пыльный кактус...
-- Неужели ты до сих пор не понял, что и Вольф, и...
-- ...он предложил нам взять конфеты, привязанные к шипам. А когда мы
укололись, он так обрадовался, что обрызгал мелкой слюной всю комнату...
-- ...и Ольберт, и Китти, и герцог...
-- И стоял прекрасный летний день, и солнце вдруг хлынуло пыльными
потоками в гигантские окна, и стариковский особняк утопал в цветущем
жасмине... а за окном молились спортсмены, обнимая на прощанье своих грубых
дам...
-- ...и сегодняшние гости...
-- А музыка, медленно плывущая в сонном небе сиесты? И чьи-то крики:
"Старикан! Старикан!" И та музыка, плывущая сквозь сиесту...
-- ...и все те люди, которых ты называл мертвецами...
-- Подожди! Остановись на минуту. Припомни хотя бы ту сладкую музыку
сиесты!
-- ...все эти люди на самом деле отнюдь не мертвецы, а просто-напросто
живые.
-- Однако... Я видел: сквозь них просвечивало. Сквозь них проступала
сиеста!
-- Просвечивало сквозь них только потому, что зрение твое с некоторых
пор изменилось.
-- Не надо уже об этом, Давай прекратим этот разговор.
-- ...и не только зрение, но и сам ты...
-- Неужели нам нечем заняться? Хочешь, я тебя поцелую?
-- И сам ты уже не тот, каким был...
-- Прекрати! Меня сейчас стошнит!
-- Пойми же, наконец, что ты...
-- Остановись!
-- Пойми же, наконец, что ты давно...
-- Нет! Молчи, Лизонька, молчи!
-- Пойми же, наконец, что ты давно умер, дорогой.
16
Утро. Прекрасное утро. По дому, вместе с посвистыванием птиц из
раскрытого, сверкающего (после ночного дождя) сада, разносится сладкий
граммофонный голосок. Это Китти снова с раннего утра крутит и крутит
заезженную русскую пластинку. Ольберт, проходя через столовую, тихо
подпевает. Он, видимо, только что проснулся, на нем пижама. Тяжело дыша, со
свистом втягивая воздух, почесываясь и шаркая, он проходит в гостиную и
долго стоит в дверях, оглядывая изгаженный ковер, разбитые бокалы,
опрокинутые кресла. Затем он медленно продвигается среди всего этого, иногда
поднимает и изумленно рассматривает тот или иной предмет: чей-то хлыст,
ободок очков (их, видно, долго топтали ногами), невредимые женские часики на
черном ремешке.
Стеклянная дверь в сад, которая уже давно находится во власти
сквозняка, толкает сервировочный столик на колесиках, и он послушно, через
всю гостиную, катится к Ольберту, как бы предлагая ему последнее, что еще
уцелело на его поверхности -- вазочку со сливами. Ольберт берет сливу и,
чмокая, съедает, глядя в сад. Косточку он по рассеянности опускает в
кармашек пижамы.
-- Как бы она там не проросла, Ольберт, -- замечает из глубины комнаты
старик, уже давно занявший свое место рядом со стеклянным Роем.
Он, как всегда, одет с подчеркнутой аккуратностью, в сером
респектабельном костюме.
Ольберт ничего не слышит. Съев несколько слив, он уходит, видимо, для
того, чтобы переодеться к завтраку.
Через полчаса вся семья уже сидит за столом. Здесь же, конечно, и
герцог.
Вольф благоухает фиалкой. Даже он сегодня в хорошем настроении и
рассказывает веселую историю про какого-то государственного изменника.
Старичок сидит на своем месте во главе стола. Он натянуто улыбается, но не
спешит притрагиваться к еде. Внимательно осматривает прозрачный и
трепещущий, словно от страха, кусочек желе. Затем возвращает его обратно на
тарелку.
-- Пора, пора переходить на диетическое питание! -- бормочет старик. --
Диета! Строжайшая диета! Эти разносолы не доведут до добра!
Ольберт и герцог обсуждают вчерашний вечер, вернее, с трудом
припо-минают.отдельные его моменты, так как за ночь почти все вылетело у них
из головы. Китти, вертясь, нетерпеливо расспрашивает их, она желает знать
каждую подробность: сколько было гостей, как был одет каждый из них, из чего
состояло угощение, какие реплики произносились во время чтения, и так далее.
Ольберт, как всегда повязавшийся огромной салфеткой, тяжело пыхтит, пытаясь
вспомнить хотя бы что-нибудь более определенное. Герцог потирает лоб тонкими
изящными пальцами, словно это может прояснить его память.
Старик не особенно прислушивается к их болтовне, но вдруг до него
доносится возглас Китти: "Почему мы так давно не навещали папочку? Он,
наверное, уже соскучился без нас". Старик замирает с куском бело-радужного
желе на вилке. Он -- весь настороженность. Рука Китти указывает куда-то в
раскрытые двери веранды, куда-то вверх, в безграничную даль, как будто она
предлагает навестить папочку непосредственно в небесах. Однако при более
внимательном рассмотрении можно заметить, что ее палец направлен туда, где
над пышной, слегка размытой зеленью сада виден крутой гребень холма.
-- Вряд ли он успел соскучиться, Китти, -- говорит Вольф. -- Мы были
там не так уж давно. К тому же его могила расположена в таком месте, откуда
виден весь наш дом и сад. Таким образом, он может всегда наблюдать за нами.
Но, если тебе хочется, мы пойдем туда сегодня вечером, когда я вернусь с
работы, поскольку тебе и Ольберту полезно будет прогуляться в гору. Впрочем,
ты вроде бы хотела в зоопарк.
Старик откладывает вилку и встает. Выходит на веранду и некоторое время
напряженно всматривается в темную неподвижную точку на вершине холма.
За его спиной в столовой снова слышен оживленный разговор, но смысл
слов уже почти не доходит до него. Кажется, беседа идет на незнакомом языке.
Ему удается разобрать одно лишь, особенно громкое, восклицание:
-- Уф, Тадеуш Майский! У, лисятник Санского!
Старик брезгливо пожимает плечами и перестает прислушиваться к их
болтовне, которая стала нечленораздельной.
Посмеиваясь и тряся головой, он надевает легкую соломенную шляпу, берет
трость, перекидывает через руку светлый плащ.
-- Я иду на прогулку. Рой, -- обращается он к стеклянной собаке. -- Ты,
может быть, составишь мне компанию? Я, собственно, направляюсь на любопытную
экскурсию. Хочу совершить осмотр собственной могилы. Как тебе это нравится,
а, Рой?
Легкой походкой он выходит из дома и идет через сад, помахивая тростью.
Выходит на сонную улицу, где ноги глубоко увязают в мягкой пыли. Прямо
посреди улицы кто-то оставил одинокий стул. Старичок направляется к этому
стулу и вдруг пинает его ногой с такой силой, что стул отлетает на несколько
метров и ударяется о дощатую стену какого-то сарая. Отзвук грохота на
некоторое время повисает в тишине, но на улице по-прежнему не видно ни души.
Слышна только Киттина пластинка, разносящая шероховатый вращающийся тенор.
Если кто и выглянет из окон дремотных пыльных вилл, то не увидит никого,
кроме элегантного старика, быстро поднимающегося в гору. Последние дома
остались позади. Теперь его окружают только коричневые, умерщвленные зноем
кустарники, которые тянутся по склону холма длинными унылыми полосками.
Хрупкий стрекот слышится из бесцветных благоухающих трав. Эти лекарственные
запахи напоминают об укромной кумирне, спрятанной в глубине оставленного
дома.
Он оборачивается. Пейзаж кажется наполовину засосанным в ракушку
улитки. Где-то очень далеко, в центре игрушечной спирали, виднеются
раскрытые железные ворота, за ними мутная зелень сада и почти совершенно
растаявшие очертания дома. Оказывается, он удалился уже на значительное
расстояние. Однако, прежде чем уйти, надо было, пожалуй, навестить
комнатушку, наполненную сухими цветами, и попрощаться с бедняжками. Но тут
же он хлопает себя по лбу.
-- Ах, да... Теперь они не более чем стекляшки. Те, чьи образы они
бережно представляли, оказывается, вовсе не нуждались в представительстве.
Но все равно, не мешало бы пройтись напоследок по дому, по Дому Сухих
Цветов. Заглянуть во все комнаты. В комнату Ольберта, где на храмоподобных
письменных столах и шатких конторках возвышаются громоздкие пишущие машинки.
В комнату Китти, где игрушки образуют целые наслоения, где с утра поет
граммофон, где на специальной полочке стоят две священные склянки с
заспиртованными рукой и сердцем директора театра, трогательно прикрытые
ковриками, вышитыми с детской небрежной тщательностью. В комнату Вольфа, где
пахнет химией и фиалкой, а на пустом пространстве стола разложены в
идеальном порядке блестящие инструменты. Известно ведь, что перед отъездом
следует пройти через все комнаты, -- замечает старик.
-- Перед отъездом? Ах, да!.. (Второй раз за эту минуту протяжное
рассеянное восклицание.) Впрочем, мне надо сделать крюк, то есть... Я имею в
виду совершить движение по полуспирали -- тогда я попаду вон туда и окажусь
прямо над домом.
И старичок, все еще что-то бормоча, продолжает свой путь.
Несмотря на то, что ему приходится взбираться в гору, он испытывает
удовольствие от прогулки. Воздух почти холодный, несмотря на огромное
солнце. Ему кажется, что он идет неторопливо, но всякий раз -- стоит ему
только оглянуться -- он убеждается, что преодолел большое расстояние.
Наконец впереди, на конце гребня, он видит темный прямоугольник,
отчетливый на фоне неба. Старик не сомневается, что преодолеет оставшееся
расстояние с божественной легкостью. И действительно, несколько шагов -- и
он уже подходит к небольшому надгробному памятнику. Он видит перед собой на
песке легкую тень тонкого маленького господина с тросточкой. Эта тень
впитывает в себя отдельные песчинки, клочки пожухшей травы, полураздавленные
ракушки улиток. Тень падает даже на памятник и косо скользит по мрамору. Еще
минуту назад его бы обрадовала эта тень в качестве доказательства
собственной осязаемости, как обрадовал его отброшенный стул, но что значит
этот воздушный отпечаток по сравнению с именем, выбитым на мраморной доске?
Он читает свое собственное имя, дату рождения, дату смерти. Позолота
скромно прячется в глубине букв. Его взгляд опускается ниже, словно ожидая
обнаружить примечания, комментарии. Но ниже только прожилки мрамора, и он
рассеянно перебирает их взглядом, пытаясь превратить их в письменные знаки.
Теплый мрамор похож на кожу, густо усыпанную веснушками. Пятна не выдают
секретов. Хотя секреты и производят пятна.
-- Уп-уп, Тадеуш Манский! Уп-уп, лисятник Санского! -- задумчиво
повторяет старичок случайно услышанную фразу, постукивая концом трости по
надгробию.
Отсюда, с обрыва, действительно открывается превосходный вид. Дом и сад
видны как на ладони. Видно, как Вольф в синем пальто медленно идет по
дорожке, направляясь к автомобилю. Ольберт спит в кресле на веранде,
подставив лицо лучам солнца. Китти и герцог играют в крокет на небольшой
площадке. Герцог согнулся вдвое и, расставив тонкие ноги в белых брюках,
размахивает молотком. Он как будто превратился в часы с маятником. Кажется,
так никогда и не осмелится ударить по мячу. Китти бежит за укатившимся
мячиком, подбирает его, останавливается и смотрит вверх, на гребень холма.
Она очень похорошела за последние сорок дней -- в этом возрасте все
происходит быстро. Грядущая девическая невинность скоро сотрет с ее лица
память о преступлениях детства. Старик ясно представляет себе, что она
сейчас видит: нависающий над садом холм, крошечный квадратик надгробия и
рядом с ним силуэт человека с тросточкой. Он поднимает руку и медленно машет
ей, как пассажир с борта отходящего парохода. Китти засовывает подмышку
крокетный молоток и машет в ответ рукой с зажатым в ней мячиком. Кому?
Одинокой могиле? Прогуливающемуся незнакомцу? Старичок уже не думает об
этом. Он поворачивается спиной к обрыву и дому.
Он пустился в путь. Идет, размахивая тростью. На ходу, размышляя,
опускает пальцы в жилетный карман. Вынимает банковскую карточку, задумчиво
смотрит на два пересекающихся нимба на ее поверхности. Карта хозяина. Если
счет не аннулирован, то денег хватит как минимум на полвечности. Тогда к его
услугам транспорт и комфорт транспорта: ехать, лететь и плыть; поезда,
автомобили, самолеты и корабли, горькое пиво, солнце, билеты, снова билеты,
завтраки, обеды и ужины, окошки -- овальные, квадратные, с закругленными
уголками, с зеленоватыми стеклами, шторки, столики, откидные. Легкие,
откидные столики. Кресла, купе, каюты, кабины...
Если же счет аннулирован, тогда предстоит пеший ход, легкий откидной
пеший ход. Пустыни, и паперти, и сон в садах, и постепенно нарастающая
святость, и комфорт постепенно нарастающей святости. Старичок идет быстрее.
Он бодр. Быстрее.
Постепенно ему становится виден край другого плато, от которого он
отделен расщелиной. Виден склон, песчаный косогор, сосны, корни сосен. Все
видно отчетливо. Необычная ясность. Все словно бы залито стеклом. Более нет
никакой расплывчатости, никакого расплывания. Ясно виден дровосек, только
что подрубивший своим топором ствол дерева, превращенного некогда в тотемный
столб. Руки язычников вырубили на этом стволе череду нанизанных друг на
друга -- грубые деревянные лица, снабженные незамысловатыми признаками
зверей и божков. При падении этот столб проломил крышу дачной веранды --
витражи веранды частично разбились и пестрыми осколками лежат в траве. С
другой стороны дача срезана наполовину как будто ножом -- так называемый
демонстрационный срез, позволяющий видеть внутренность комнаты: срез
проходит через буфет, он отхватил край стола, даже крошечный краешек подошвы
ботинка девочки, которая лежала на софе. Это не Китти, другая девочка лежит
на софе. Можно видеть подробно цветы и ягоды, изображенные на темной ткани
ее платья. Срез -- как будто здесь скользнула алмазная гильотина -- отхватил
даже кусочек стеклянной вазочки с вареньем, которая стоит в буфете. И теперь
малиновое варенье медленно стекает по матовому срезу стекла вазочки, по
светлому срезу древесины буфета, стекает, сверкая своими яркими бугорками,
полупрозрачными, сквозь красноту которых проступают бесчисленные белесые
малиновые косточки, которые так часто застревают -- и надолго! -- между
зубов любителей малины. Дровосек явно приготовился позавтракать. На свежий
пень, оставшийся от срубленного тотемного столба, он постелил белую бумагу,
а на бумагу положил кусок черного хлеба, щедро смазанного творогом. Пока что
он еще не приступил к еде, а только наклонил к краюхе свое лицо и жадно --
видимо, предвкушая трапезу, -- принюхивается к запахам хлеба и творога, к
которым присоединился также острый запах только что обнажившейся древесины.
Еще одна девочка -- немного постарше, чем та, что лежит на софе, -- смотрит
на дровосека из окна следующей дачи, чья бревенчатая стена, украшенная
деревянными резными коронами, виднеется между двух огромных елей. Видно, что
эта девочка долго болела, но теперь пришло время выздоровления - впервые за
долгое время на ее лице появился румянец, а глаза заблестели блеском
приближающегося здоровья. Все это очень ясно стapичку.
-- Я, правда, не вижу бобров, которых обещал мне Ольберт, - замечает
старик. - Видно, мой сынок-дружок шел сквозь влагу, мне же, отцу причитаются
ясность и сухие тропы. Что ж, отлично. Здравствуй же ясность. Здравствуйте,
сухие тропы.
1984
(редакция -- ноябрь 1995)
II
Холод и вещи
На дощатом полу веранды, среди рассыпавшихся цветов,
нашли только ленточку и маленький ледяной крестик,
который через несколько минут растаял.
"Пол-яблочка "
История потерянного зеркальца
История потерянного крестика
Как можно сомневаться в сочетаньях
Печальных ветхих слов, не ведающих бедствий?
Как можно апатично и бессильно
Взирать на черных стекол отраженье?
Лишь утереть нахлынувшие слезы
Платочком кружевным -- потом его отбросить,
Идти, упиться снежными садами --
Пространств необозримых простота,
Простор и холод. Полные снежинок
Над нами тихо дремлют небеса...
Все успокоится... Так мирно, мирно
Снисходит с райских высей эта мякоть
Пушисто-хрупких невесомых тел...
Не надо больше плакать. Обещаешь?
Да, обещаю. Только здесь, тихонько,
В заснеженных домах вязать и брякать
Изогнутыми спицами. Писать
Романы длинные без четких содержаний
С плавнотекущим медленным сюжетом,
Что строится из полувнятных фраз,
Из увядающих и вязких предложений,
Из разговоров о еде, о свете,
О смене дней, о завтрашней погоде...
Все кончилось. Не будет больше боли.
Ты обещаешь? Да, я обещаю.
Но только ты, веселый как младенец,
Напитанный подсахаренной кашей,
Из мячиков своих, из медвежат,
Из плюшевого вздора развлечений,
Из колпачков, утят, магнитов, лодок,
Из детских мирно преющих вещей,
Что были так когда-то мной любимы,
Что долго так в душе моей хранились,
Оставив там пустующие лунки,
Прорытые глубокие проходы
И норы тайные, куда не заглянуть,
Где, может быть, и до сих пор таятся
Какие-то жильцы, неведомые нам,
Ослепшие от тамошнего мрака,
Смеющиеся там каким-то общим шуткам --
Нам этих шуток странных не понять,
И никогда нам не смеяться вместе
С жильцами наших душ.
Никогда
Нам не взглянуть в их маленькие лица,
Не видеть их блуждающих улыбок,
Не лицезреть дрожащих детских щечек
С пылающим невинностью румянцем...
Из этого всего сложи надгробье
Ты над моей заснеженной могилой,
Где я покамест сплю. Покамест
Еще рождаются все новые миры,
Кишащие весельем содроганья --
Огромные пустующие вазы,
Где никогда не будут гнить цветы,
Где никогда уже цветов не будет.
Творцы миров -- загадочные боги,
Их множество и так они слабы,
Что лишь едят и мыслят...
Ты накорми их, деточка, не то...
Когда голодные, они творят сильнее,
И лучезарнее плодящихся небес
Слои растущие -- Господств, Утрат, Вращений,
Престолов, Царств и Ангельских Пределов,
Которые питаются их мыслью.
Уж лучше пусть они уснут --
Наевшись, они спят обычно долго,
Сложив свои светящиеся веки
На брюшках тепленьких, как будто бы жуки
Иль мыши робкие, ночующие в поле.
Читал "Дюймовочку"? Ну вот, они такие...
Потерянные... Углубленные...
Согбенны... Сугубы... Сиротливы...
Пассо и детриумфация
Попытка классификации
по принципу отношений с предметом
Всякий человек, должно быть, обращая внимание на вещи, среди которых он
находится, иногда задается вопросом о том, что они представляют сами по
себе; в детстве он склонен наделять их некоторой долей одушевленности,
признавая за ними неведомое внутреннее состояние, иногда статичное, а иногда
и изменчивое, вплоть до ощущения враждебности или симпатии, исходящей от
окружающих его предметов. У большинства людей это чувство впоследствии
притупляется до такой степени, что, если они и способны, наблюдая
какое-нибудь животное, внезапно поинтересоваться (даже испытать приступ
острейшего интереса) "как оно думает?" или "как видит?", то уж во всяком
случае никогда, в силу своего здравомыслия, не станут вопрошать подобным
образом о состоянии какой-нибудь вещи. Еслинекий человек и задаст вопрос
типа "Интересно, видят ли меня мои часы?" или "Любопытно бы знать, любит ли
меня мое кресло так же, как я его?", то этот вопрос останется как для него
самого, так и для окружающих просто странностью, проявлением чудачества,
инфантильной мечтательности или артистизма, но никто -- покуда он в своем
уме -- не станет всерьез размышлять над подобным вопросом, тем более уделять
ему длительное время. Исключение составляет группа людей, вынужденная
испытывать озабоченность о сущности предметов в силу собственной
вовлеченности в тесные и неудобопонятные отношения с миром вещей. Эта группа
разделяется на значительное число подгрупп, из числа которых мы выделим
только несколько основных.
Во-первых, есть люди, несущие на себе по каким-то необъяснимым причинам
(возможно, вследствие некоего рока, проклятия или внутреннего устройства)
бремя "ненависти вещей". Такой человек может быть чрезвычайно достойным и
заслуживающим всяческого уважения, он может представлять из себя само
обаяние, однако окружает его удручающая враждебность предметов. Проявления
этой враждебности он встречает на каждом шагу, однако по большей части
предпочитает не распространяться об этой стороне своей судьбы -- иногда эта
особенность может казаться ему разоблачающим свидетельством собственной
несостоятельности, в большинстве же случаев несчастный настолько
адаптируется к этой атмосфере мелочного вредительства, что она начинает
представляться ему нормальным положением дел, и он естественно и вполне
неосознанно приходит к выводу, что вообще сущность вещей -- затаенное
недоброжелательство. Если такой человек более или менее "пластичен", то он
легко смиряется со своей судьбой, принимая на себя обозначения "невезучего",
вообще "человека, с которым вечно случаются мелкие неприятности", и играет
затем эту роль достойно и без особого напряжения, воспринимая данную черту
как неотъемлемую и ценную часть своей личности, себя же -- как представителя
определенного "типа", имеющего такое же право на существование, как и
представители других "типов". Однако человек, склонный к болезненным
фиксациям, переносит подобную предопределенность тяжелее, так как частная
враждебность вещей кажется ему отражением внутренней драмы его собственного
существа: он ищет внутри себя причины каждого укола, исходящего извне, --
больно ударившись об угол стола, он задумывается о неясности своей судьбы,
извлекает на свет всю свою неудовлетворенность и опасения, а то и признает
за этой "мелочью" роль символа, чье значение следует разгадать ценой долгих
и безрадостных усилий.
Вторую подгруппу составляют люди противоположной судьбы, которых можно
было бы назвать "любимцами вещей". Представители этого типа не столь часто
обращают внимание на вещи, поскольку вообще ненависть в большей степени
требует какого-либо объяснения, нежели любовь.
Эти же люди настолько окутаны любовью и благорасположенностью вещей,
что в результате не только не замечают этой любви, но склонны плохо
различать и сами вещи, ощущая вместо них -- вероятно -- лишь теплое и
мерцающее марево, из глубин которого они, в меру своих способностей, могут
черпать силы, эмоции, догадки и предчувствия, которые окружающие затем чаще
всего относят за счет их личной интуиции. Впрочем, этот тип трудно поддается
опознанию. Как уже было сказано, сами счастливцы обычно не замечают за собой
бесценного дара, окружающие же могут лишь предполагать о нем.
Литература (в соответствии со своим призванием) достаточно пристальное
внимание уделила описанию подобных эффектов. Среди писате лей XX века
искусными изобразителями этих двух противоположных типов судьбы могут быть
признаны Кафка и Томас Манн.
У Кафки враждебность вещей, просачивающаяся отовсюду, чувствуется,
пожалуй, только в силу взвинченной заинтересованности, проявляемой к ним со
стороны "одушевленных". Между этой нервной и опасливой заинтересованностью и
вещами наблюдается разрыв, заполненный ледяным холодом. Особый, почти
тошнотворный, драматизм эти отношения приобретают, когда речь идет о
собственности -- персонаж льнет к вещи, считая ее "своей", то есть частью
себя, однако вещь брезгливо и враждебно отстраняется, оставляя "хозяина" в
омерзительном одиночестве. Вспоминается эпизод из знаменитого "Превращения"
Кафки, где Грегор Замза, имеющий вид огромного насекомого, живет в комнате,
наполненной вещами, которые служили ему еще в ту пору, когда он был
человеком. Теперь он уже не может пользоваться этими вещами, они только
мучают его, мешая его передвижению по комнате. Тем не менее он относится к
ним с нежностью, продолжая считать их "своими", свидетелями, помнящими его
прежним и, должно быть, узнающими его, прежнего Грегора Замзу, и в его новом
нечеловеческом облике. Вещи, однако, покидают его -- их выносят из комнаты,
и Замза остается совершенно один... В своей кульминации эта сцена достигает
чудовищной трогательности: желая сохранить последний, оставшийся в комнате
предмет (портрет некоей дамы), Замза повисает на стене, закрыв его своим
телом. Впрочем, это не может ему помочь -- вещи испытывают к нему такое же
отвращение, как и люди. Свойства Замзы таковы, что портрет дамы поступает с
ним так же, как, вероятно, поступила бы и сама дама, -- Замзу покидают. Сам
уже почти предмет, Замза лишается права пользования женственной
податливостью своего имущества. Вещи не принадлежат вещам, поэтому труп не
имеет собственности. Монстр -- это "живой труп", поэтому если у него и
имеется какая-то собственность, то ее всегда отнимают.
У Томаса Манна вещи также не выходят на первый план, довольствуясь
ролью фона. Однако в его текстах имеет место эффект "лакающего окутывания",
которое исходит со стороны описываемых мимоходом, неодушевленных предметов.
Самый трагический сюжет у этого писателя неизменно предстает погруженным в
"нежность вещей". Даже мрачные и печальные события настолько обильно
"смазаны" этой нежностью, этим сверхбуржуазным эросом комфорта, что эффекты
трагизма отчасти сходят на нет, как цветы зла, увядающие под заботливым и
снисходительным светом комнатных ламп и вечерних торшеров. В этом
обезболивании, видимо, и обретает свою цель деятельность того
полубожественного духа, сочетающего в себе игривость с добросовестностью,
которого Манн именует "духом повествования". Можно вспомнить хотя бы шезлонг
Ганса Касторпа, в котором этот вымышленный пациент туберкулезного санатория,
завернувшись в верблюжьи одеяла, возлежал на своем заснеженном балкончике.
Или, обращаясь к повествованию автобиографического жанра, надо бы
вспомнить эпизод из "Романа одного романа", где описывается пребывание
автора в больнице и операция. Этот трудный и, без сомнения, опасный момент
своей жизни Манн описывает в тонах непрекращающегося восторга. Восторг
порождают разнообразные тумбочки, комфортабельные кресла и тому подобные
предметы, излучающие надежность и дружескую заботу.
Наконец, третью подгруппу, безусловно заслуживающую пристального
внимания, составляют люди, не испытывающие на себе какого-либо повышенного
или определенно окрашенного отношения со стороны вещей, но зато сами
питающие глубокую и захватывающую "страсть к вещам". В этой подгруппе
следовало бы выделить два типа. Первый из них я назвал бы "зафиксированным",
второй же "расплывчатым". Принадлежащий к зафиксированному типу субъект,
"оставленный наедине" с миром предметов, выбирает из всего этого огромного
мира один объект или же один тип объектов, в жертву которому и приносит --
со свойственной ему пылкостью и фанатизмом -- свое обожание. Сюда относятся
скупцы и стяжатели, вся страсть которых состоит в накапливании денег
(поскольку деньги тоже -- вещи и к тому же знаки возможности всех остальных
вещей). Сюда же относится и коллекционирование, особенно производимое
фанатически. Эти страсти постоянно удерживают человеческое существо "лицом к
лицу" с предметом, и к тому же представляют предмет в качестве "объекта
страсти" -- а предмет, представленный таким образом, как подозревают, может
внезапно "расколоться" на спонтанные проявления каких-то скрытых сторон
своей "внутренней жизни".
Впрочем, если считать предмет как таковой воплощением пассивности,
местом если и не совсем мертвым, то во всяком случае абсолютно неспособным к
какому бы то ни было самовыявлению, то следует, видимо, отнестись
недоверчиво к любому приоткрыванию внутренних свойств предмета, пусть даже и
выделенного в качестве "объекта страсти". Здесь мы сталкиваемся с одним из
самых важных вопросов, касающихся вещи, а именно: может ли вещь вообще, или
какая-либо вещь в отдельности, обладать определенной внутренней активностью?
Задав этот вопрос здесь и сейчас, мы мгновенно оказываемся в "щели",
между двумя интенсивными дискурсами. Эти дискурсы существуют на разных
уровнях, они нигде не пересекаются, и только задав вопрос об "активности
неодушевленного", мы обнаруживаем, что в этом месте эти дискурсы оставляют
чрезвычайно узкое свободное место между ними. Речь идет, с одной стороны, о
дискурсе так называемых "экстрасенсов" -- проект бытового сплава науки и
магии. Эта модернизированная магия, медленно и неуклонно идущая к
окончательному слиянию с современной наукой, известна всем, и толкует она в
основном об энергиях, об энергетической памяти вещей, о балансе, о проверке,
об излучениях, вредоносных или целительных. И на это нечего возразить, хотя
бы потому, что самый откровенный тип активности вещей это их
радиоактивность. В этой интерпретации вещи это прежде всего тела -- реальные
тела среди других тел, с их лабиринтом взаимных отношений и влияний, с
бесконечным узором переплетающихся "аур" и собственных "интересов". С другой
стороны, мы имеем психоаналитический, фрейдистский дискурс, и в его рамках
вещи, напротив, бесплотны, они всегда знаки, образы, и соотношение их друг с
другом происходит через совпадение образа с образом, через цепляние знака за
знак. По всей видимости, не так уж и трудно было бы согласовать один дискурс
с другим, что часто и делается, тем более, что символы и знаки обладают
собственной энергетикой в той же степени, как и собственной экономикой
(энергия -- одна из основных экономических категорий), а энергии так или
иначе связаны с семантизациями. Тем не менее, хотя экономически все это
связано, "вещи как тела" и "вещи как знаки" все же остаются в основном
несогласованными, и эта несогласованность не случайна -- она порождает,
казалось бы, лишь узкую щель, но щель этой рассогласованности на самом деле
необъятна, так как только в ней вещи по-прежнему существуют в качестве
именно вещей. "Вещи как вещи" представляют собой некоторый традиционный
интерес для философии, а также для литературы, особенно детской литературы.
Возвращаясь к "зафиксированному типу", можно припомнить известный
рассказ Борхеса "Заир". В этом рассказе речь идет о предмете, обладающем
необыкновенным свойством: его невозможно забыть. Более того, облик этого
предмета не только навсегда фиксируется в памяти того, кому он попался на
глаза, но и стягивает на себя всю деятельность сознания, постепенно оттесняя
и заслоняя все остальное. Борхес дает понять, что "заир" это нечто,
настолько интенсивное по своему содержанию, что может соперничать в сознании
человека с (как сказал бы Хайдеггер) "всем другим сущим, взятым как целое".
"Заир" не пребывает постоянно в одном облике: это кочующая сущность,
меняющая свои воплощения. Герой рассказа встречает "заир" в виде небольшой
монеты, однако мы узнаем, что в предыдущих воплощениях "заир" был тигром и
астролябией.
Как мы уже сказали, "заир" -- это сверхинтенсивный предмет, настолько
интенсивный, что завладевает сознанием всякого, кому лишь стоило бросить на
него взгляд. Однако огромное количество предметов обладает тем же свойством,
только в ослабленной форме: их воздействие более избирательно и не столь
всепобеждающе, они не обладают способностью целиком подавлять сознание и
вытеснять из него все остальное, однако они могут (во всяком случае, на
какое-то время) укорениться в сознании увидевшего их лица. На эти свойства
предметов и реагирует "зафиксированный тип". "Расплывчатый тип" отличается
от "зафиксированного" тем, что то внимание, которое в случае фиксации
относится в первую очередь за счет какой-то определенной категории предметов
(денег, драгоценностей, тростей, ключей, спичечных этикеток) или даже
скапливается вокруг какого-либо одного конкретного предмета (любимой
картины, монеты, драгоценности, трости, кресла), предстает перед нами в
постоянном движении. Оно (это аффектированное внимание) свободно
перемещается с предмета на предмет. Аффект при этом не становится слабее.
Такой человек может называть себя "эстетом", "субъектом, тонко чувствующим
красоту", однако это мало что объясняет, так как "красота" в этом случае это
скачущий код меняющихся состояний, сшивающий все со веем и затем мгновенно
стирающий эти связи. Эйфория стирает границу между вещами и не-вещами, делая
их украшениями или деталями одной Сверх-вещи, кристаллоподобной и
лабиринтообразной, сложно отражающей себя мириадами своих граней. Продолжая
ряд аналогий из Большой Литературы, можно указать на Пруста, как на
абсолютного представителя такого "расплывчатого типа". Вот две цитаты из "В
сторону Свана", обе -- в завуалированной и изысканной форме -- описывают
физиологические акты дефекации и онанизма. Сама возвышенная околичность этих
описаний, которая только подчеркивает их непристойность (и в том смысле эти
два фрагмента -- шедевры непристойности, создающие непристойность "из
ничего"), способна дать исчерпывающее представление о проницаемости тел и
вещей, о их тотальной взаимозаменяемости внутри Сверх-вещи, которая есть
мир, то есть нечто среднее между Машиной и Драгоценностью. "Когда я входил в
кухню узнать про обед, он уже готовился, и Франсуаза, повелевая силами
природы, которые стали ее помощницами, как в сказках, где великаны
нанимаются в кухонные мужики, колола уголь, тушила картофель и дожаривала
произведения кулинарного искусства, которые приготовлялись в кухонной
посуде, в состав которой входили большие чаны, котлы, чугуны, сковороды для
жарения рыбы, миски для дичи, формы для пирожных, горшочки для сливок и
целый набор кастрюль любого размера. Я останавливался у стола, за которым
судомойка лущила горох, -- горошины были сосчитаны и выстроены в ряд, словно
зеленые шарики в какой-то игре; однако восторг во мне вызывала вымоченная в
чем-то ультрамариново-розовом спаржа, головка которой, лилово-голубая,
выписанная тонкой кистью, незаметно, благодаря каким-то небесным переливам
красок, переходила в еще не отмытый от земли, вытащенный из грядки корешок.
Мне казалось, что небесные эти оттенки служат приметами неких дивных
созданий, которым вздумалось преобразиться в овощи и которые сквозь
маскарадный костюм, прикрывающий их съедобное и плотное тело, дают мне
возможность уловить в этих нарождающихся красках зари, в этих отливах
радуги, в этом угасании голубого вечера их драгоценную сущность, и сущность
эту я узнавал, когда они потом, в течение всей ночи, разыгрывая поэтичные и
грубоватые фарсы, похожие на шекспировскую феерию, превращали мой ночной
горшок в благоухающий сосуд".
"Увы, напрасно я молил башню русенвильского замка послать мне навстречу
какую-нибудь юную сельчанку, -- взывал же я к башне, потому что она была
единственной моей наперсницей, которой поверял первые мои желания, и, глядя
с верху нашего дома в Комбре, из пахнущей ирисом комнатки, и только эту
башню и видя в четырехугольнике полуотворенного окна, испытывал героические
колебания путешественника, отправляющегося в неведомые края, или человека, в
отчаянии решившегося на самоубийство, и, изнемогая, прокладывал в себе самом
новую дорогу, казавшуюся мне дорогою смерти, прокладывал до тех пор, пока на
листьях дикой смородины, тянувшихся ко мне, не намечался некий естественный
след, напоминающий след, оставляемый улиткой".
В первом отрывке, в начале, описывается ряд пустых сосудов для пищи.
Затем процедура лущения горохового стручка дает матрицу дефекации с ее
анально-эротическим педантизмом, с пронумерованностью каждого "шарика для
игры". Затем повествование скользит по спарже, опускаясь от ее головки
(пища) к "неотмытому от земли корешку" (испражнения), который, несмотря на
его "неотмытость", не уступает в "живописности" верхним этажам "древа
мирового", проходящего сквозь все тела. Впоследствии спаржа стала довольно
традиционным (шаблонным) элементом эротических фильмов. "Дивные создания"
переодеваются в маскарадные костюмы, чтобы пройти сквозь тело повествующего.
Повествование радостно узнает их и в виде экскрементов, доказывая, что в
эйфорическом мире нет отбросов, из него ничего не исчезает, а следовательно,
из него нет выхода. Событием, к которому здесь все готовятся, является театр
дефекации -- шекспировский театр, "поэтичный и грубоватый". Дневные, пустые
кухонные сосуды начала приводят к полному ночному сосуду окончания,чьи
запахи называются здесь благоуханиями, -- здесь и не может быть вони,
поскольку тело не посылает отходы "вон" из себя, оно просто пропускает
сквозь себя вещи, как анфилада или аллея заботливо пропускает сквозь себя
гуляющих.
Во втором отрывке башня замещает собой "юную сельчанку". Комнатка, где
находится онанирующий (видимо, туалет), благоухает цветами, и человеческое
тело, гостеприимно впускавшее вещи в себя в предшествующем отрывке, столь же
доверчиво выплескивается на поверхность предметов, кончая на листья
смородины. В этом раю, где богом является память, все новые дороги кажутся
дорогами смерти, поскольку смертью является сама новизна. Однако стоит лишь
первым онанистическим актам повториться, стать ритуалом и традицией, как
"дорога смерти" превратится в безобидную дорогу улитки. Привычка закручивает
линейные маршруты нового в спирали и ракушки "уже виденного". Если Борхес в
"Заире" демонстрирует маниакальный предел "зафиксированного типа", то Пруст
описывает эйфорический предел "типа расплывчатого". Можно, конечно, сказать,
что за этими описаниями стоят физиологические проблемы самих писателей --
возможно, "Заир" имеет отношение к прогрессирующей слепоте Борхеса: нечто
вроде смерти, с одной монетой, прикрывающей циклопическое внутреннее зрение,
вместо двух монет, положенных по традиции на глаза мертвеца. Эйфория Пруста,
вероятно, связана с его астмой: экстаз это прежде всего эффект дыхания,
пневматические сжатия компенсируются пневматическими расширениями, когда
человеку кажется, что он, как Бог, свободно вдыхает и выдыхает из себя Все.
Однако эти люди и повествования -- какое это имеет отношение к
неодушевленным вещам? Вещи не умеют читать, если, конечно, это обычные вещи,
а не сложные приборы.
Можно, при желании, сказать, что предмет сам по себе обладает силой
воздействия, почувствовать которое может предрасположенный к этому субъект.
Можно сказать и иначе... Вопрос в том, как построить фразу. Именно вопросу о
построении фраз, а точнее, о произвольном полагании терминологии, которая
соответствовала бы потребностям "говорения о вещах" , и посвящена эта
статья. Но зачем нужна еще одна терминология, мучительная для запоминания?
Затем, что терминотворчество отличается от прочего изобретения неологизмов
тем, что вводится не просто новое слово, а новое слово с ограниченным
временем его использования. Слово передается для специального употребления
вкупе с теми сроками, которые, собственно, и есть условия специального
употребления. Поэтому термины это тип "вещей текста".
"Условия" прочих слов, которые не являются терминами, расплывчаты.
Поэтому время, отпущенное им, кажется вечностью. Термин же определен, он
рожден искусственно, поэтому его время -- живое и ограниченное время
несовершенного создания.
Вещи -- это события, но только обладающие особым типом времени, в
котором они совершаются. Говоря о вещах, мы пользуемся словами, но подспудно
желаем "говорить вещами" -- говорить вещами о вещах. Поэтому мы вожделеем к
терминологиям. Более того, мы жаждем именно новых терминологий, поскольку
введение новых терминов -- это событие всегда неудобное, даже нелепое, но
завораживающее, как упавший с неба предмет, хохочущий неодушевленным
хохотом. Этот хохот предмета, хотя бы и похож на стук или треск, все же
является заразительным: не потому, что он заражает нас смехом, а потому, что
он заражает нас своей предметностью. Мы вспоминаем о своем каркасе, о
скелете внутри нас и о других вещах, которыми мы являемся.
То в нас, что "не есть вещь", желает, чтобы такого рода переживания
сопровождались еще и ужасом, наше "одушевленное" порой стилизует такие
переживания в духе традиционного кошмара. В этом случае нам напоминают о
застывшем хохоте вещей, к которому мы якобы не причастны. Однако мы,
естественно, причастны ко всему, о чем имеем хоть какое-то представление.
Поэтому не имеет принципиального значения, шарахаемся ли мы от вещей или же
соучаствуем в хохоте этих бесчисленных и скромных "богов-олимпийцев",
присоединяясь к сдержанному ликованию сервантов, валенок, прялок, роялей,
заборов, шапок...
Кроме четырех рассмотренных нами "глобальных" типов вовлеченности в
аффектированные отношения с миром предметов, существует еще множество
локальных случаев такой вовлеченности, проявляющихся лишь в определенных
ситуациях. Чтобы дать представление о них, упомянем так называемое
"пропадание". Это знакомо многим. Человек ищет какой-нибудь предмет, ищет
долго и тщательно, стараясь быть сосредоточенным, а потом оказывается, что
искомый предмет находился все это время на самом видном месте, которое
ищущий чаще всего и внимательнее всего осматривал.
В этом случае мы имеем дело с каким-то временным дефектом восприятия, с
временной "невидимостью" предмета. Предмет буквально "пропадает" или
"западает" в восприятии, как иногда "западают" клавиши в пишущей машинке.
Говоря иными словами, он временно перестает"производить впечатление".
"Невидимость" основана на том, что этот предмет как бы "замолчал", прервал
контакт с восприятием, перестал подавать информацию о себе.
Человеку, мучительно ищущему какой-то предмет, который скорее всего
лежит на видном месте, лучше всего позвать кого-нибудь себе на помощь или
же, если никого нет, выйти из комнаты, а потом внезапно вернуться. Предмет
на какое-то время перестанет "гасить сигналы", его можно застать врасплох --
"застать вещь врасплох", -- выражение, которое употребляет Хайдеггер в своем
тексте "Вещь и творение", -- кинуться на него, схватить... И что дальше? Как
"наказать" вещь? Как вовлечь ее в узор своих страстей и юрисдикции? В этой
ситуации мы еще раз обнаруживаем, что вещь целиком состоит из границ, из
непреодолимых препятствий. Всякая вещь это барьер. Она бесчувственна, а
следовательно, на ней обрывается мир поощрений и острасток, мир насилия,
кажущийся всевластным. Она так податлива, но так глубоко -- до сердцевины --
анестезирована, что, глядя на нее, мы видим место, где кончается страх. Вещь
это нечто существующее, но индифферентное к своему существованию, не
желающее ни продлить его, ни оборвать. Вещь, иначе говоря, это не Бог, а
святой. Аскеза вещей является, возможно, праобразом и человеческого
аскетизма.
Существует, впрочем, несколько вариантов мифа о местопребывании и
свойствах "души предмета". В том числе есть мнение, что "душа предмета"
находится вне самого предмета. В фольклоре мы встречаем различных существ,
"душа" которых находится вне их -- наиболее известен Кощей, чья душа или
жизнь спрятана на краю света: на дубе, в сундуке, в медведе, в зайце, в
утке, в яйце и, наконец, в иголке, которую надо преломить. Мы видим, что
душа Кощея весьма удалена от него. Возможно, что так же обстоит дело и с
предметом? А как обстоит дело с нами? Не все ли мы -- Кощей? Не умираем ли
потому только, что где-то уничтожили незначительную вещицу?
Как бы там ни было, можно убедиться, что здесь мы имеем дело с чем-то
действительно скрытым. Какие-то внутренние свойства предмета могут, конечно,
блеснуть или приотвориться в разных ситуациях, однако "скрытое" все равно
оказывается прямо перед нами, когда мы начинаем размышлять о предмете. И все
же что-то определенное уже есть, какая-то точка, и эта точка и есть
собственно "скрытое". Любая ситуация предстояния перед "скрытым" создает
благоприятную возможность для "фонтана" предположений.
До этого, рассуждая о предметах, мы употребляли достаточно расплывчатые
обозначения: "душа предметов", "сущность предмета", "внутренние или скрытые
свойства предмета" и так далее. Утомление, вызванное употреблением этих
неопределенных, громоздких и вялых обозначений, заставляет нас слить все эти
"души", "сущности" и "тайные свойства" в один общий икс, в одно
гипнотическое нечто, такое далекое, непонятно-бегающее, как черная тень
девочки с обручем, падающая из-за дома на одной из картин де Кирико.
Это "нечто" можно было бы обозначить словом "пассо".
Слово это образовано посредством мгновенного стечения ассоциаций -- оно
включает в себя представления о пассивности и, одновременно, о магнетических
"пассах". Это некая подспудная, незаметная, "пассивная активность"
предметов.
Если "пассо" представляет собой умозрительную сущность предмета, то
"пассонарность" является полем проявлений пассо, то есть тем местом, куда
еще может "вскочить" наше восприятие, в то время как с другого конца
"выскакивает" само "пассо", позволяя нам увидеть себя только на мгновение,
как зыбкую ускользающую неопределенную тень. Одновременно, "пассонарность"
является чем-то противоположным той "пассионарности", с помощью которой
мыслители вроде Л. Гумилева сеют беспокойство среди стариков и молодых
людей.
Как-то раз, размышляя о всех этих вопросах, я сидел в дачной уборной и
прочел на обрывке газеты стихотворение, присланное в газету какой-то
школьницей, Стихотворение называлось "Разворонились вороны":
Разворонились вороны
Перестали вдруг кричать
Превратились в макароны
И не стали к нам летать.
В первый момент меня поразило, что столь инфантильное стихотворение
могла написать ученица девятого класса. Однако потом, вдумавшись в этот
текст, я осознал, что он вовсе не так абсурден, как кажется. В этом
стихотворении изображается потрясающее явление, явление "детриумфации".
Что же такое "детриумфация"?
В книге С. С. Аверинцева "Поэтика ранневизантийской литературы"
приводится богословский текст, где говорится о состоянии, в котором
пребывают Солнце, Луна, все другие планеты вселенной, стихии природы и т. д.
Это состояние добровольной аскезы, "трудного служения". Все эти явления
природы якобы производят положенные им движения и действия не механически, а
добровольно приняв на себя епитимью, наложенную Богом. Весь космический
порядок и есть эта "епитимья", которую все планеты и другие явления природы
несут с осмысленным усилием, с трудом и преодолевая себя, так как сущность
их, в общем, отчасти тяготеет к хаосу, из которого они были выдернуты. Таким
образом, каждое мгновение их существования представляет собой подвиг, своего
рода "триумф" над собственной неопределенностью. Однако при приближении к
концу света, в эсхатологические времена, Бог (как предполагают) отчасти
"стянет" с них эту епитимью. Это хаотическое освобождение вещей,
дерегламентация предметного мира и называется словом "Апокалипсис". Однако
если допустить, что космические тела и явления природы находятся в состоянии
постоянного триумфа, то почему бы не допустить, что в таком же состоянии
пребывает "каждый предмет"? Следует тогда признать: "каждый предмет" есть
нечто, что только ценой большого усилия остается собой.
Однако вряд ли он сам производит это сдерживающее усилие над собой,
скорее всего он сдавлен со всех сторон специфической средой, которая и
удерживает его в его пребывании в качестве именно этого предмета. Эту
атлетическую среду нужно бы назвать "мормо" или "мормальной средой".
Постоянно пребывающая ситуация мормальности обеспечивает триумфальное
осуществление пассо в виде конкретного предмета. Однако возможность
детриумфации составляет постоянное содержание этого удерживаемого предмета
-- пассо несет в себе потенциальную детриумфацию и осуществляет ее при
первой же возможности, при любом ослаблении или нарушении равновесия в
мормальной среде. Колдун или шаман могут колебать моральную среду таким
образом, что пассо предмета высвобождается и принимает другие формы --
происходит чудесное превращение предмета.
В рассказе Ю. Мамлеева "Изнанка Гогена" описывается вампир, вставший из
могилы и явившийся к собственной дочери, чтобы сосать из нее кровь. Увидев
его, она в ужасе закричала: "Папа... папочка... что ты?!" В нем, среди
небытия, на одно мгновение как бы что-то пробудилось, и он успел словно
сверхъестественным голосом вымолвить (сверхъестественным в той степени, в
какой его "естество" было естеством вампира): "Доченька... да это же не я...
не я...", но в следующий момент он уже присосался к ней. Именно предупреждая
дочь, что "это уже не он", этот человек в последний раз был собой.
Почти так же душераздирающе и страшно звучит детский английский стишок
в переводе Маршака про старушку, которая в полдень заснула под деревом, а
потом проснулась и обнаружила, что она -- уже не она. Ее нетождественность
себе затем заверяется ее собакой, которая отказывается узнать хозяйку. Что
касается предметов, то эти их скользящие свойства, открывающиеся в подобных
необычных ситуациях, следовало бы назвать "иммемуарностыо". Дело не в том,
что они "ничего не помнят", дело в том, что они "помнят Ничто".
Потерянный предмет -- разновидность смерти. Найти потерянное означает
извлечь из неизвестного нечто вроде "хвоста" в виде реанимационных
воспоминаний -- воспоминаний о переживаниях потрясающих, но оборвавшихся в
самом начале. При ослаблении и колебании мормальной среды пассо предметов
начинает чуть ли не лучиться своей инкриминированной склонностью к
детриумфации. Вся область пассонарности срывается со своих триумфальных
стоянок, ее начинает "носить" и "трепать" различными "сквозняками",
тогда-то, собственно, вороны и превращаются в макароны. Стимулированная
тягой иммемуарности, детриумфация не сразу реализуется как эксплозия
пассонарности. Сначала она свободно и необязательно перетекает с одной
"стоянки" на другую. Корней Чуковский, создавший кан"н советской поэзии для
детей, сделал описания такого рода "полтергейстов" центральной темой своего
творчества. Он также показал, что в таких ситуациях следует вести себя
отважно, "как ни в чем не бывало". И в самом деле, такие всплески
детриумфации в пассонарных полях предметов не содержат в себе ничего
угрожающего, хотя иногда и могут напугать детей и пожилых. Эти всплески
смягчаются следующим компонентов пассо: Кроме иммемуарности и противостоящих
ей сдерживающих сил мормо, пассо включает в себя еще один важный компонент
-- своего рода "рессорную прокладку". Этот компонент мы называем "белой
кошкой".
Это обозначение призвано охватить собой ту неопределенную часть пассо,
которая, сохраняя за собой холодные просторы иммемуарности, все-таки
ластится к человеку, точнее, к его потенциальным "мемуарам", словно бы
мурлыкая и мягко играя, желая войти (возможно, в качестве диверсанта) в
интимные слои памяти и в интимные варианты записи. Благодаря "белой кошке",
предметы в общем-то настроены к нам благодушно. Суть предметов --
ненадежность, но тем не менее они по природе своей являются "союзниками".
"Союзность" -- рок вещей. Поэтому они остаются в союзе с нами даже после
того, как разражается их локальная или же глобальная детриумфация.'
В сказках Андерсена, многие из которых написаны от лица предметов, вещи
наделяются в общем-то "утепленным" сознанием. Не исключено, что так оно и
есть -- холод вещей скрывает в себе особое галлюцинаторное тепло, наподобие
того тепла, которое присутствует в ощущениях замерзающих, в их летних
видениях, заполненных цветущими садами и жаркими, пшеничными полями. Надо
надеяться, что Андерсен, составивший эти милосердные тексты, обеспечил себе
(а может быть, и своим читателям) резерв райского блаженства, дополнительные
объемы нирванической вечности, подпитываемые из неисчислимых ресурсов
неодушевленного.
Не следует, как бы там ни было, упускать из виду как катастрофические,
так и целительные возможности, кроющиеся в том, что мы называем
неодушевленным. Само это слово может звучать по-разному, иногда в его
глубине проступает некая новая, неиспробованная душевность, "нео душа" --
свежая, неистерзанная, словно бы вмороженная в сладкий сон предрождения.
"Вещи как тела" и "вещи как знаки" -- и те и другие исчисляются
временем, в частности временем их исчезновения в глубине нашего незнания о
них, в бездне нашей растерянности или нашей амнезии. Такие термины как
"пассо", "мормо", "детриумфация", "иммемуарность", "белая кошка" -- это
слова, призванные обозначать вечные свойства предметов, но сами эти термины
становятся предметами благодаря тому, что им отпущен слишком короткий срок
-- они созданы таким образом, чтобы родиться и умереть на наших глазах.
1985
Знак
Маленький знак нашел я в траве.
Вот прибежал я с блестящих тропинок,
Я запыхался, в коротких штанишках,
Руку свою протянул -- было солнце
В сонном зените над млеющим садом,
Плакали горлицы, гравий молчал,
Тихо вращались вдали водометы --
Я показал, вопрошая очами:
Что это, что это, знак сей нежданный?
Там я нашел. Там, где ветхие листья
Злобной крапивы приносят укусы.
Там он лежал, притаившись как кролик,
Он не дышал и надеждой светился,
Что не заметят его мои очи,
Что мои руки его коснутся,
Что он там спрятан надежно, навеки,
Что он обитель свою не покинет...
Весь он скукожился, был словно ветка.
Видно, стремился к последнему сроку
Там сохраниться, укрывшись от мира.
Но я прозрел, как великий начальник,
Словно пророк, словно нищий, что громко
В буйном восторге стучит костылями,
Видя, как ангел спустился на кровлю.
Быстро схватил я, быстро помчался,
Вот прибежал, задыхаясь, и руку
Вот протянул -- вот лежит на ладони
(Чувствую я его тонкою кожей,
Чувствую бледною потной ладонью).
Что означает потерянный знак?
И почему он так долго таился
В сонной траве, средь печального зноя?
Что он имеет, что он содержит
В кротком, надменном, суровом молчанье?
Что заключается в этих пределах?
Что говорит он мысли и небу,
И отражениям фейерверков
(Часто, должно быть, будили его,
В пруд погружаясь за мрачной оградой)?
Что схоронил он для зоркого глаза
И для ума, искушенного в книгах?
Есть ли в нем смех золотой и злорадный,
Тонкий, витой и шуршащий змеею?
Есть ли в нем вести из мира умерших,
Взмахи их ручек, маханье платков?
Есть ли поклоны от дяди и тети?
Есть ли хвала изучающим играм
Созданным для многострунного мозга?
Есть ли о будущем бледном и темном
Сеть предреканий? Или на завтра
Точный прогноз изнуренной погоды?
Милый мой мальчик, дитя молодое, --
В глазках дрожат полупьяные блики,
Он прибежал и стоит еле-еле:
Тучное тельце на тоненьких ножках
С мелко дрожащей протянутой дланью --
Милый мой мальчик, дитя молодое,
Знак этот древний вещает о малом,
Но многостранен пророческий глас.
Малое то разбредется повсюду,
Будет на кровлях, будет в подвалах,
Будет с небес опадать словно гром...
Все, что содержится в скорченном теле,
В точных и диких затеях, что держишь
Ты на дрожащей и потной ладони,
Все это, я бы сказал, означает
"Ключ ко всему". Отворенье пределам
Замкнутым, запертым ныне -- от века,
От сотворения этого мира,
Что мы так нежно и трепетно любим
Вместе с лужайками, с прудом, с аллеей
И с чаепитьем на светлой террасе...
Да, от начала многие двери
Были закрыты и заперты крепко
Но -- говорит сей ветшающий знак --
(Шепот его ты услышал случайно
В полдень, сегодня, среди крапивы
И сорняков возле дальней ограды),
Что ослабеют по предначертаньям
Мощные стены, замки и препоны,
Все разрешится, что замкнуто было.
Ветхие тайны, шурша, развернутся
Над площадями, как свитки истлевшей
Золототканой узорной парчи,
Над поездами, идущими к югу
(Там веселы размягченные люди,
Хлопают пробки, музыка льется,
И ожидания теплых курортов
В тучных телах поселяют отвагу).
Вдруг обнажатся изнанки предметов,
И биллиардный игрок, что в жилетке
Низко нагнулся к зеленому полю,
Вдруг обнаружит, что справиться с кием
Стало почти невозможно, что возле
Тихо прогнулись дубовые стены,
А костяные шары поражают безвольной
Мягкостью, словно подгнившие фрукты.
Милый мой мальчик, дитя молодое,
Станут могилы плеваться телами,
Вскроются шкафчики бледных сирот,
И позвоночники книг распадутся,
Сгниют корешки, а из тучной истомы
Выплывут фразы и буквы повиснут.
Грешные души исторгнутся Адом:
Будут сочиться в комнатах старых
Меж половиц дорогого паркета --
Тут мы увидим порочного дядю;
Дико худой, в пропотевшей рубашке,
С бледной улыбкой в измученном лике
Выйдет, скрипя иссушенным коленом
И потирая лысеющий лоб.
Всех нас обнимет, поест для начала,
Как возвратившийся из заключенья,
Ну а потом все расскажет подробно:
Все о мученьях, все о скитаньях,
Об изнурительных каверзных тропах,
Где он блуждал в нескончаемой Ночи...
Рая откроются дальние двери,
Души оттуда изыдут толпою --
Нежны улыбки, ласковы взоры,
Кружево зонтиков над головами
(Им заслонятся от грубого солнца
Этого жесткого бренного мира).
Тут мы увидим добрую тетю --
В синей беретке, в белых перчатках,
С милой улыбкой на тающих щечках,
Нам привезет золотистых орешков,
Яблочек райских, сморщенных, тихих,
Триста сортов утонченного сыра,
Двести бутылок вин неземного
Вкуса и запаха, сладкий пирог,
Птиц говорящих, ручных и разумных
С древнееврейскими именами,
Кошечек двух белоснежных, двенадцать
Белых мышей с голубыми глазами,
Двадцать рулонов небесной бумаги,
Двух голубков с поцелуями в клювах,
Венские стулья для нашей террасы,
Мусор цветущий, посыпанный солью,
Восемь крылатых солидных старушек,
Девять тарелок с магическим знаком,
Шарик светящийся, очень удобный
Чтоб пробираться в уборную ночью,
Рыбок вертлявых, отличных брильянтов,
Маленький крестик на тоненьких ножках,
Страшно подвижный, веселый и ловкий,
Сто девяносто изысканных строчек,
Пять акварелей с видами Рая,
Десять кастрюлек с дымящимся супом
Тысяча триста набитых котомок,
Полных забытыми нами вещами, --
Мячики всякие, палки, расчески,
И недоеденные бутерброды,
Робкие кучки потерянных денег,
Малые зеркальца с бликом осенним,
Милые пальчики розовых кукол,
В вечность ушедшие венчики листьев,
Пуговки жизни с обрывками ниток,
Плюшевых мишек очи стеклянные,
Свечки церковные, спички и туфельки,
Зубки, зарницы, огни, причитания,
Сумочки, письма, загадочки, часики,
Грязные котики, жизнь обожавшие,
Даже зачем-то окурки ненужные:
Тысячи тысяч окурков задушенных --
Кто там с дымком голубым и мечтательным,
Кто там потухший, помятый и скорченный,
Кто почерневший совсем, разложившийся,
Кто еще тихо и дивно мерцающий
Красным своим огоньком непогашенным,
Кто там с пожухшей осеннею травкою,
Кто-то там с черной болотистой лужею,
Кто-то другой с аппетитным пожариком,
С домиком маленьким, в уголь спалившимся...
Даже билетики здесь перепрелые:
Тьмы их различных -- автобусных, дырчатых,
В поезд, в кино, на концерт и на выставку,
Желтые, красные, синие, ветхие,
Все они здесь -- бумажонки безгласные,
Тихие, мирные, добрые лапочки,
Жизнь нашу мелкой листвой устилавшие,
Тучами гнившие в урнах для мусора
Среди прозрачных плевков перламутровых...
Да и они здесь, плевочки убогие!
Перебирая мельчайшими ножками,
Самостоятельно прыгают весело,
Что-то лопочут себе по-младенчески
С тоненьким писком, с великою радостью.
Милая тетя, столько подарков!
Милая тетя, мы, право, не знаем,
Как-то неловко, дивно и странно...
Где это все положить, где запрятать?
Где это все разместить и развесить?
Где раскидать, закопать, изумляться?
Где разрыдаться, смеяться и прыгать,
Кушать котлетки, играть на рояле?
Спать на диванчике, делать уроки?
Где же теперь заниматься нам жизнью?
Милая тетя ответила тихо --
Речь была с маленьким райским акцентом,
Мирно и ясно глазки сияли
Из-под заломленной синей беретки
С длинным и белым пером страусиным:
Милые дети, давно не видала
Ваши таинственно-бледные лица,
Ваши отекшие малые щечки,
Ваши матроски, покрытые пылью.
Мало питались, тщетно пытались...
Где-то скитались, болтая ногами,
Где-то корябали пальцами стены,
Где-то дрожали, измучены страхом,
Мучились где-то больные горячкой,
В школу весенней походкою плыли,
Бритой поникнув корявой головкой.
Милые дети, как вы постарели!
Лысые дети стоят предо мною,
Дряхлые дети в широких костюмах.
Этот ребенок зажег сигарету
(Долго дрожала горящая спичка
В маразматической сморщенной лапке),
Эта же детка совсем поседела
Щурится сонно сквозь толстые стекла
Мятых очков в золоченой оправе.
Этот же мальчик давно уже умер
И исхудал в своей дальней могиле.
Милая тетя, это же дядя --
Муж ваш покойный. Сегодня вернулся
Из запредельного темного Ада.
Как же его вы совсем не узнали!
Как же тебя я совсем не узнала?!
Эдгар, голубчик, совсем не узнала!
Да, дорогой, ты весьма изменился:
Очень худой, и скрипучий, и лысый.
В грязной какой-то тюремной одежде...
Как поживал ты прозрачные годы?
Или, быть может, большие минуты?
Или, быть может, века золотые?
Милая Эльба, довольно несчастно
Было мне там, откуда вернулся.
Было тоскливо, и глупо, и больно.
Было навязчиво, скучно и долго...
Но да чего там... Закончилась вечность.
Снова настало нормальное время,
Хоть и немного оно повернулось,
Хоть и немного оно проварилось
В супе отсрочек и не-возвращений...
Ты ж, моя Эльба, наверно, забыла
Эдгара бедного в райском блаженстве?
Помнишь, бывало, как в белом костюме
Был я иным? Да и выглядел с шиком!
С красной гвоздикой в узкой петлице
Смуглым блондином к тебе подошел я:
Взор голубел воспаленно и лихо,
В сжатых зубах подыхала сигара,
Руки вертели отточенной тростью.
Я прошептал: "Вы позвольте... на танго?"
Ты поглядела большими зрачками,
И унеслись мы в томительном танце.
Хищно тогда я к тебе наклонялся
Носом орлиным, прищуренным глазом,
И утомленное солнце прощалось
С морем под томный напев патефона.
Эдгар и Эльба, Эльба и Эдгар --
Вишни в вине, отраженья в шампанском!
Помнят тебя зеркала в ресторанах,
Помнят меня озаренные залы.
Эдгар и Эльба, Эльба и Эдгар!
Скупо цвели очерненные пальмы,
Мир весь дымился брутально-веселый.
Было отличное, сладкое время!
Да, я украл тебя, милая Эльба,
В быстро-блестящей рессорной коляске,
Спрятал тебя в своем доме -- вот в этом:
Старом, большом, грязноватом и ветхом,
Среди большого и дивного сада,
Где мы теперь неживыми тенями
Очень спокойно, прерывистым шепотом
Тихо беседуем, сидя за столиком,
Мы, возвращенцы из мира загробного.
Эдгар и Эльба, Эльба и Эдгар...
Нас обвенчал православный священник --
Школьный приятель по имени Эрих.
Жили мы здесь отрешенно и замкнуто.
Нас окружали лишь слуги угрюмые,
Белые, старые, вечно молчащие,
От тишины этой здесь отупевшие.
Да еще Эрих захаживал вечером --
Толстый, болезненный, бледный, обжорливый...
Но все же счастливы были с тобою мы --
Утром тебе приносил я букетики
Роз распустившихся, травок изысканных,
В чудном саду по аллеям бродили мы,
Ты на качелях качалась, и помнишь ли
Книги стихов, те, что вслух я читал тебе?
Вечером тешились мы фейерверками,
Пили шампанское, пела романсы ты. --
Тонкие пальцы струились по клавишам.
Эрих рассказывал нам анекдотики
И заедал маслянистой сардинкою
Каждую шутку свою перепрелую.
Ах, это счастье и лучик тот солнечный,
Летние блики, дорожки заросшие,
Запахи трав опьяняюще-сонные,
Очи твои золотисто-веселые!
Как было счастье непрочно, обманчиво,
Скоро как рухнуло в тьму непроглядную,
В черную ночь улетело рассеянно,
В черную ночь удивленною бабочкой...
Ты изменила мне, Эльба неверная!
Лгали мне речи и очи коварные,
Ты полюбила другого, безумная!
Чем он прельстил тебя, как омрачил тебя?
Как он вошел в твое сердце тропинкою,
Словно слепец, усмехавшийся сумрачно,
Входит дрожащей походкой в волшебную
Тайную землю, от смертных сокрытую?
Эльба! Каким колдовством отвратительным
В сумерках бледных прозрачной души твоей
Он занимался, танцуя на пальчиках,
Толстый священник с болотистым запахом?
Жирною птичкою, тусклым фонариком
Дерзко зажженным во тьме засыпающей,
Мягким, совиным, загадочным крылышком
Тронул тебя он за сердце дрожащее.
Ты полюбила священника Эриха...
Эльба! Но он ведь страдает поносами!
И он венчал нас, он толстый и с крестиком!
Пахнет трясиной, неряшливо кушает,
Глупый, тоскливый, задумчивый, ласковый.
Он еще в школе мучил кузнечиков,
Крылышки резал мухам беспомощным,
Плохо учился, плакал от музыки,
Слух не имея, насвистывал арии,
Писал в штаны, увлекался религией,
Тесто сырое в огромном количестве
Он поедал, и рыгал оглушительно.
Стал он священником в церкви запущенной,
В ближней деревне -- так что же ты думаешь?
Скоро совсем его церковь обрушилась,
Вся проросла гниловатою травкою --
Эрих слюною своей пузырящейся
Всем прихожанам плевал прямо в лица,
Тыкал им пальцем в глаза изумленные,
Маленьким детям выламывал руки
Или пинал своим тучным коленом.
Эльба, он только мышей обожает:
В черненьком домике, там, за погостом,
Кучи мышей -- и пищат и играют.
Он им кидает колбасные корки,
Сала кусочки, ломтики сыра,
Ну, а на хвостики тонкие, верткие
Вяжет им всем разноцветные бантики...
Эльба, взглянула ты холодно, холодно,
И оттолкнула ты руки молящие,
И отвернулась, воскликнув: "Оставь меня!
Поздно! Не сможешь ты сердце свободное
Снова окутать цепями звенящими.
Я не люблю тебя, Эдгар. Все кончено.
Он же... Пусть скажешь ты много противного,
Пусть еще тысячу раз очернишь его!
Нет для любви ничего запредельного,
Нет для любви ни пределов, ни выбора,
Нет для любви ни испуга, ни времени,
Нет для любви ни забвенья, ни старости,
Нет для любви ни земли и ни космоса,
Нет для любви ни страданья, ни скорости,
Нет для любви ни желанья, ни холода,
Нет для любви ни молчанья, ни песен,
Нет для любви ни законов, ни злобы,
Нет для любви ни грехов, ни печали,
Нет для любви ни встреч, ни прощаний,
Нет для любви ни холмов, ни оврагов,
Нет для любви ни мужчин и ни женщин,
Нет для любви ни границ, ни народов,
Нет для любви ни ночей и ни дней,
Нет для любви ни зверей, ни людей,
Нет для любви ни рождения, ни смерти.
Нет для любви..." -- И тихонько
Ты к окну отошла, уронивши
Пропитанный слезною влагой
Комочек платочка невзрачный.
-- Эльба, Эльба! -- воскликнул я с болью, --
Ты ответь мне еще на один
На вопрос, на один, на последний:
Неужели ты любишь его?
-- Да, мой Эдгар, он тихий и нежный.
Он возлюбленный мой, и всегда
Его, Эриха, помнить я буду
И в трепещущем сердце хранить.
Не протягивай длинные руки,
Не страдай и забудь обо мне:
От него жду я ребенка
И уехать хочу поскорей.
Тихо скрипнул я только зубами.
На горячем моем скакуне,
Меж клубящейся зелени кладбищ,
Меж кривых искалеченных сосен,
Между скал, изнуренных жарою,
Я скакал. Бился тонкий шнурок.
Исступленные ветви хлестали
По открытому смуглому лбу.
И отчаянный ветер соленый
Оседал на суровом лице.
И в кармане измятого френча,
Закаленный в боях, тяжелел
Револьвер мой, заряженный туго...
Вот он -- домик за диким погостом.
Я коня у крыльца привязал,
С громким стуком ударились двери,
Тихо всплыли фонтанчики пыли.
Эрих мышку кормил из ладони.
Ушки прозрачные нервно дрожали
Над искрошенною мелкою пищей.
Он посмотрел затаенно и нежно,
Мягкая тронула губы улыбка --
С детства знакомое мне искривлены;
Тонких и розовых губ на небритом
Пухлом лице с летаргическим взором:
"Эдгар... Какая приятная встреча..."
Я лишь нечаянно скрипнул зубами
И утонченное черное дуло
К белому лбу его быстро приставил.
Брызнули мыши с отчаянным писком,
Хвостики тонкие так и плясали,
Бантики яркие быстро мотались...
Только хозяин остался спокоен.
Та же улыбка таинственно млела,
Так же задумчиво ясные очи
Что-то в лице моем мирно искали.
"Эдгар... Какая приятная встреча..." --
Он повторил машинально и тихо.
"Эрих! -- сказал я. -- Если ты веришь
В жизнь запредельную, в вечного Бога,
То помолись же! Тебе наступает
В этой цветной, быстромеркнущей жизни
Смертный конец". Он слегка усмехнулся:
"Милый мой Эдгар, конца не бывает...
Впрочем, поверь мне, ты выглядишь плохо.
Слушай-ка, спрячь эту грязную штуку,
Ибо она отвратительно пахнет
Смазочным маслом, физической смертью,
Сказочным вздохом, агонией мерзкой,
Аляповатой бульварного драмой.
Лучше присядь-ка вон там, у печурки,
Где только пыльный пробившийся лучик
Сонно лежит в притулившемся кресле.
И поболтаем. Об ангелах света,
Об озаренных небесных лужайках,
Об исполинских вертящихся тронах...
О непонятных и маленьких детях,
Что вдруг находят старинные знаки
Средь сорняков возле дальней ограды..."
Тут он поднялся. Высокий и толстый,
Весь колыхаясь, в запачканной рясе,
С медным крестом на груди, величавый,
Гордо стоял он, смеялся все громче,
Взгляд же его прожигал меня больно
Невыносимой, бездонной любовью...
Я заорал, отвратительно корчась:
"Эрих! Прости!!!" -- и сведенной рукою
Выпустил прямо в него всю обойму.
Рухнул он. Громко ломались предметы.
Выстрелы лопались звонко и страшно,
Пыль поднималась клубящейся тучей
Полупрозрачной, где тускло мерцали
Пыльные лучики теплого солнца,
Косо лежащие в комнате ветхой.
Вдруг все затихло. Я корчился долго.
Френч весь намок от тяжелого пота.
Всюду кишели испуганно мыши.
Робко теснились к лежащему телу,
Носиком чутким толкали в ладони,
Что-то пищали ему прямо в уши...
Но благодетель их был неподвижен.
Год я провел на войне. Средь пожарищ,
Среди ударов, и крика, и стонов,
Многих я там убивал, и нередко
С дрожью смотрел я в предсмертные очи.
Но постоянно, пред мысленным взором,
Все заслоняя, сквозь всех проступая,
Виделся Эриха взор мне последний
И вспоминались последние фразы:
"...об озаренных небесных лужайках,
Об исполинских вертящихся тронах,
О непонятных и маленьких детях,
Что вдруг находят старинные знаки
Средь сорняков возле дальней ограды..."
Дальше лишь смех... И я целился крепче,
Тверже бежал в штыковую атаку,
Чувствовал лучше небо и ветер,
Тише стучало убитое сердце...
После вернулся. Старые слуги
Молча стояли в пустынной прихожей,
Только белели угрюмые лица.
Вошел вперед, наконец, самый старый,
В черных очках, затрапезный и лысый:
"Ваша жена умерла. А ребенок
Вроде здоров, до сих пор некрещеный --
В город без вас мы везти не решились.
Здесь же священника нет. Застрелился
В прошлом году. Так что надо бы срочно
Чадо крестить и наречь ему имя".
Тут я услышал, как в комнатах гулких
Плачет ребенок. И с ужасом тихим
В пыльном мундире, в измятой фуражке,
Все я стоял и стоял неподвижно
С похолодевшим и скованным телом.
"...о непонятных и маленьких детях..."
И наконец я промолвил: "Ребенка
Вовсе не надо крестить. Я считаю,
Он без того может жить и погибнуть.
Я лишь посыплю его сухим просом,
Зеркальцем маленьким три раза стукну,
Свечку зажгу, прочитаю молитву.
Имя же будет ему -- Лапидарий".
Годы текли. В этом сумрачном доме
Жили мы мирно с малюткою новым.
Лапкою мы его здесь называли.
Лапка все рос, я старел потихоньку,
Слуги весною варили варенье --
Плыл ароматный дымок над травою.
В сумерках, с крупной плетеной коляской
На чуть трясущихся ржавых колесах,
Я выходил, чтоб гулять по аллее.
Сад наш разросся, огромный и дикий,
Старый садовник все реже и реже
Здесь подстригал золотые лужайки.
Стекла потрескались в белой теплице,
Пруд весь покрылся печальною тиной...
Все-таки здесь было дивно-прекрасно.
С Лапкой вдвоем мы гуляли по саду,
Вскоре он встал на некрепкие ножки,
Булькал невнятно, словам подражая.
Я вырезал ему ловко игрушки
Острым ножом из сырого картона.
Кошку купили мы, ездили летом
В ельник дремучий кататься в коляске,
Бабочек ярких ловили и пели
Местные песни двоящимся голосом.
Осенью ели печеные груши,
Я пил коньяк с земляными грибами,
Ну, а зимой засыпал нас снежок,
Все погружалось в глубокую спячку:
В библиотеке топили дровами,
Мы у камина в вольтеровских креслах
Долго сидели, я с трубкой, а Лапка
Ветхую книжку листал, примостившись
С дремлющей кошкой уютным клубочком.
Сонный слуга приносил на подносе
Лапке какао с горячим сухариком,
Мне же -- дымящийся грог с кренделечками.
Так шли года...
...но однажды в разгаре
Жаркого лета, средь зноя и лени,
Когда я в кресле сидел на веранде,
Мирно смакуя окурок сигары,
Вдруг прибежал он с блестящих тропинок,
Руку свою протянул -- было солнце
В сонном зените над млеющим садом,
Плакали горлицы, гравий молчал,
Тихо вращались вдали водометы...
Я заглянул в изумленную лапку --
Там, на дрожащей и влажной ладошке,
Знак сей лежал -- незаметный и тихий,
Найденный там, у далекой ограды.
И задрожало убитое сердце...
Милый мой мальчик, дитя молодое,
Вот ты принес мне свой найденный знак,
Вот ты спросил меня: что означает?
Я отвечал: отворенье пределам,
"Ключ ко всему". То, что замкнуто было,
Все отворится в известное время.
Замкнуты долго уста мои были,
Но отворились сегодня, и слышал
Ты изложенье о собственной жизни
И о своем невеселом рожденье...
Знай же: отец твой -- убитый священник.
Мать твоя -- славная, добрая Эльба.
А окрестил тебя сумрачный Эдгар,
Щедро посыпав блестящей крупою.
Он же тебя воспитал и сегодня
Здесь пред тобою сидит в этом кресле...
Может быть, ты поражен? Но все это
Лишь пустяки по сравнению с теми
Толпами тайн, что раскроются скоро
По предсказаньям усталого знака
В сонно грядущее, дивное время!
1985
История
потерянного зеркальца
На одном дачном участке стоял большой шкаф. Он был слишком высокий и не
поместился внутрь дачи, поэтому его оставили снаружи и решили использовать
для хозяйственных нужд. А чтобы его не испортила дождевая вода, над ним был
сделан небольшой навес, покрытый брезентом. Когда-то это был, пусть и не
слишком элегантный, но солидный шкаф. Должно быть, он стоял в каком-то
огромном кабинете и доставал своим фронтоном до потолка. Теперь это было
облезлое, несколько бесформенное сооружение с пузырящимся деревянным
покровом. Несмотря на навес, косые дожди исступленно бились о его стенки.
Это на нем отразилось. Он разбух, расселся, рассохся, его дверца больше не
закрывалась плотно, а оставляла большую зияющую щель. Его теперь не запирали
элегантным медным
ключом, а повесили грубый ржавый засов. Внутри на полках валялись
разные ненужные и почти ненужные предметы. Однажды осенью, в весьма
дождливый день, в шкаф случайно заглянул, спасаясь от падающих струй дождя,
граф Кви, иностранец, в сопровождении Цисажовского, который должен был быть
его переводчиком. Цисажовский, впрочем, был косноязычен, а Кви отлично
владел всеми возможными языками. Это было талантливое светское существо.
Дело в том, что этот аристократ не был человеком. Это было очень маленькое
создание, не больше мыши, поросшее мягким бурым мехом. Впрочем, теперь с
него ручьем текла вода, он дрожал, не попадая зубом на зуб, его природная
шуба обвисла как мокрый вздор. Но аристократизм все же давал о себе знать.
Он сквозил в его осанке, в превосходных манерах, в чутких темных глазах, в
длинных утонченных пальцах, оканчивающихся продолговатыми и нехищными
коготками. На одном пальце виднелось золотое кольцо-печатка для оттискивания
родового герба Кви: восьмиконечная звезда, пронзенная стрелой, далекий
горящий домик, лодка, куст крапивы.
Цисажовский был от природы гол как сокол. Размерами он превосходил
белку, на его нежной светло-коричневой коже виднелся сложный узор из
веснушек, родинок и других разноцветных пятнышек. Издали его принимали за
пятнистый камень. Хвост был тоже голый и напоминал крысиный. Одежду ему
круглый год составляло великоватое кукольное пальтецо в мелкую клетку.
Проникнув в шкаф через большую щель, они огляделись. Стояла полутьма.
Среди кучек сыроватого барахла молчаливо сидела кое-какая живность, также
спрятавшаяся от дождя. В глубине, за огромными полуразложившимися сапогами,
виднелись четыре кролика. Был заметен большой задумчивый еж, сидящий на
картонной коробке. Остальные, скорее по привычке, чем из предосторожности,
терялись во тьме. Появление двух незнакомых оригиналов внесло долю
оживления. Послышалось принюхивание, шебуршание, какое-то перетоптывание
маленькими лапками, поскрипывание быстро задвигавшихся усов. Кончики носов
робко, но радостно (все же какое-то развлечение, что ни говори) задвигались
и втянули влажный воздух, напоенный запахом мокрой земли, осенних
подгнивающих трав, грибов, луж, заколоченных дач и подобных вещей,
неотъемлемых от этого времени года.
Вошедшие не смутились ни капли. Переводчик был тотальным флегматиком, а
граф поистине светским существом. "Его сиятельство" ловкими лапками
непринужденно отжал свой мохнатый хвост, отряхнул шкурку. И обратился к
присутствующим со следующей краткой речью:
Друзья! Раз уж мы так неожиданно вторгаемся в ваше общество, гонимые
неблагоприятной стихией, то позвольте мне первому представиться и
представить вам моего спутника. Я -- граф Кви, я прибыл сюда из далеких
мест, а это любезно согласившийся сопровождать меня в моих скитаниях
господин Цисажовский. Итак, поскольку дождь как будто зарядил надолго свое
тысячествольное ружьецо, то не скоротать ли нам время в искренней
содержательной беседе?
-- Пожалуй, -- послышался довольно размякший, но все же отчетливый
голос. Это сказала, между прочим, картонная коробка. Остальное общество
вежливо и несколько удивленно выразило свое согласие. Кролики затрясли
ушами. Еж что-то пробормотал себе под нос, не выходя из задумчивости, что-то
вроде: "Чего уж елочной веточке не привидится..." Из темноты раздалось
какое-то неразборчивое восклицание. Чей-то высокий тенор, чья
любознательность доходила, видимо, почти до истерики, выразил горячее
одобрение: "Отлично! Но только искренность должна быть полной". Где-то
совсем в глубине, у противоположной стенки шкафа, кто-то, словно включенное
радио, стал глуховато бубнить с абсолютной готовностью свою залежавшуюся
исповедь: "Я был офицером. Весною, с ружьем на плече, я выводил своих солдат
на цветущий луг..."
-- Нет, нет, господа, не все сразу, -- заметил граф. -- Каждый желающий
поведает свою историю, однако по порядку. Кто начнет?
Кто-то стал предлагать свою кандидатуру, однако всех перекрыл звучный
голос с категорическими интонациями (это был голос кролика по фамилии
Жуковский): "Если уж мы играем в эту салонную игру, то пусть первым
рассказывает потерянное зеркальце".
Я вышло на Божий свет из картонной коробки. Меня продавали в киоске. Я
было выставлено напоказ, как рабыня на невольничьем рынке. Со мной
продавались три моих сестры -- белое, голубое и оранжевое. Неподалеку лежали
расчески, далее -- солнечные очки и зубные щетки.
Это было на юге, где всегда гнездилась торговля рабами. Светило жаркое
солнце. Мы были совсем молодыми.
("Это несколько напоминает "Историю бутылочного горлышка", -- подумал
граф. -- Впрочем, биографии предметов имеют между собой, должно быть, много
общего, также как и биографии людей".)
На ручке у меня в те времена было оттиснуто цветное изображение Кремля.
На Спасской башне сверкала выпуклая звездочка из стеклянного рубина. От нее
расходились лучи. Я впервые отразило солнечный свет, я отразило синее небо,
я отразило приветливый променад какого-то курорта, белую балюстраду, зеленую
веточку, проходящих людей, разнеженных теплом и праздностью, пробегающих
детей в белых панамках, загорелых женщин в золоченых босоножках, веселых
смеющихся курортников. Продававший нас старик работорговец в зеленом
козырьке, бросавшем тень преждевременной мертвизны на его морщинистые щеки,
что-то бормотал. Возможно, заклинания. Сначала купили мою голубую сестру,
потом меня. Мы, четыре сестры, простились друг с другом, выходя в
неизвестную жизнь, мы обронили несколько прощальных полуслов беззвучным
полушепотом, мы обменялись лукавыми лучиками, мы четырежды преломили
солнечный свет, мы отразились на прощанье друг в друге, образовав
четырехкратную бесконечность. Прощайте, прощайте! Увидимся ли когда-нибудь в
нашей судьбе? Увидим.
Меня приобрел высокий, худосочный мужчина в коричневой рубашке и белых
широких штанах. Он отразил во мне свое не очень здоровое и не очень
загорелое лицо с удивленными блекло-зелеными глазами. Он неуверенно
улыбнулся мне (себе). Он купил меня для своей семилетней дочки Верочки. "Для
Веруньки", -- пробормотал он. Так я попало к Верочке Зеггерс. Мы провели
очень милое время на взморье. Оно незабываемо. Верочка и я были неразлучны.
Мы привязались друг к другу. Я навсегда отразило в своей душе это, в
общем-то заурядное, детское лицо со светло-зелеными глазами. Мать Верочки
Инна Ильинична также иногда пользовалась мною, в тех случаях, когда
оставляла дома свою надменную пудреницу или внутренне угрюмое (несмотря на
внешний блеск) квадратное зеркальце в оправе из искусственных жемчужин. От
частого пребывания на пляже в узкий промежуток между мной и моей розовой
рамочкой набились крупинки песка.
Однажды меня чуть не разбили тяжелым каучуковым мячиком. Я любило
лежать на горячем песке пляжа, глядя в небо и отражая высокие облака. Потом
случилось следующее: семейство Зеггерс отправилось на прогулочном пароходе
для осмотра изумительных коричневых скал. Верочка стояла на палубе,
облокотясь о перила. Ее белая лайковая сумочка трепыхалась на ветру.
Внезапно я выпало и оказалось в воде. Я слышало, как Верочка плачет и
кричит, призывая обратно свое любимое зеркальце, пытаясь повернуть на
секунду вспять колесо судьбы. Но по силам ли это дело ее детским ручонкам?
Было поздно. Я быстро погружалось, прорезая морские воды, вспененные
уходящим пароходом. Я трепыхалось и танцевало, посылая сквозь зеленоватую
хлябь прощальные блики, светлые утешения милой Верочке. Однако мир уходил в
вышину, и колышущаяся тьма обступала меня.
("Ну, уж это совсем похоже на "Историю горлышка", -- снова подумал
граф.)
Да, тьма обступила меня. Замшелые каменные скалы выступали из этой
тьмы. Вверх уходили аморфные медузы. Я упало в тенета липких высоких
водорослей, они замедлили мое падение. Уже в совершенно бесшумном мире я
соскользнуло на мягчайший, чуть склизкий мох. Какая-то рыба вяло
приблизилась и тупо поглядела в меня. Я отразило ее невыразительное лицо.
Душенька бредовая! Бедовые глаза без выражения ничего не поняли. Но я
покорно согласилось с судьбой -- пусть так! Пусть мне суждено после
краткого, яркого бытия погрузиться в черную тьму. Пусть! Я согласно на все.
Я/ в высшей степени толерантно по отношению к судьбе.
Прошло время. Может быть и долгое. Но, видимо, не очень. Видимо,
парадней. Я смутно различало смену дня и ночи. Да, парадней. Ночью на дне
кое-кто фосфоресцировал и светился. Вдалеке кто-то светился. К тому же
водные толщи над нами прорезались суровыми лучами прожекторов пограничной
службы. И в свете такого вот, медленно ползущего, луча я однажды ночью
увидело возле себя некое существо. Оно сидело, прижимаясь боком к мохнатому
камню, и внимательно взирало в мою сторону. Лицо было отчасти человеческим,
впрочем, разглядеть как следует не удалось. Тонкие, лунно-зеленоватые лапки.
Слезы луны. В следующий момент чьи-то пальчики схватили меня и повлекли
куда-то. Я пробыло у "слез луны" месяца два. Это пребывание многому научило
меня. Оно было полезно для молодого зеркальца, послужило формированию
личности. Трогательные подводные обитатели жили в большом подводном доме,
сложенном из камня. С виду это был нормальный дом: стены, крыша, окна.
Обычная деревянная, несколько истлевшая от воды, дверь с медной ручкой. На
окнах колыхались ветхие занавески в цветочек. Внутри, конечно, все было
трухлявое. Я отражало мебель -- мягкую-мягкую, как будто из пыли, готовую
вот-вот развеяться. Кресло-качалка лежало в углу, как распавшийся скелет
какого-то животного. Над ним висела застекленная и потому отлично
сохранившаяся икона, под которой -- обстоятельство, казавшееся чудесным, --
теплилась лампада. Все комнаты, естественно, были заполнены водой. Кстати, я
догадалось, кто это фосфоресцировал по ночам. Это были так называемые пять
подводных священников. Они жили в центральной комнате дома. Днем они
неподвижно сидели вокруг большого стола на тяжелых деревянных стульях. Если
под одним из них подламывалась сгнившая ножка -- он бесшумно и медленно
падал, вздымая при падении гипнотический темно-зеленый столб ила, который
долго потом оседал. "Слезы луны" тогда вносили другой стул. "Слезы луны"
были нежнотелыми и робкими морскими созданиями, они преданно служили, чем
могли, пяти священникам. В моей памяти навсегда отражен этот загадочный дом,
где в некоторых комнатах пол, и потолок, и стены, и все предметы были
покрыты мягким, колышущимся ковром мохоподобных водорослей. Я отразило и
священников -- высоких, больших, зеленобородых и зеленоволосых мужчин в
длинных развевающихся черных рясах. На груди у каждого висел светящийся
крест. К тому же вся борода и волосы были покрыты фосфоресцирующими
полипами-бедняжками. Ночью священники выплывали из окон, как медленные
корабли огоньков. Это было очень красиво, но я часто вспоминало Верочку
Зеггерс. Священники утонули здесь много лет назад. Их души предстали перед
Богом, а в телах поселились "слезы луны". Однако оболочка излучала настолько
сильное действие, что с течением времени эти "слезы" почувствовали себя
настоящими священниками. Имея лишь смутное представление о христианстве, они
старательно поддерживали огонек в лампаде, своевременно подкладывая туда
очередного флюоресцентного полипа (как видите, это чудо объяснилось
естественным образом). Они выучили наизусть молитвы из ветхого молитвослова,
который затем истлел. Считалось, что они на огромном расстоянии чувствуют
тонущего человека или тонущий корабль и поспешают туда темными подводными
путями, чтобы успеть исповедовать и причастить утопающих.
-- Но позвольте, -- перебил зеркальце влиятельный кролик. -- Откуда же
у них было причастие?
-- Вы правы, Жуковский, -- ответило зеркальце. -- Причастия у них
неббыло и быть не могло. Вообще-то, я сомневаюсь, чтобы они действительно
занимались этим делом. Тонущих было немного, да и то возле берега, куда они
не приближались. Скорее всего, это красивая легенда.
Во всяком случае, при мне они выплывали из дома только для того, чтобы
оплыть его вокруг раз двенадцать. А то и двадцать. Зачем они это делали --
трудно сказать. Может быть, смутное воспоминание о крестных ходах? У них
было текучее, непроясненное сознание.
-- А что они ели? -- спросила маленькая мышка.
-- Ели? -- Зеркальце задумалось. -- Честно говоря, не знаю. Меня этот
вопрос никогда не интересовал. К тому же я обычно содержалось у них в
большой шкатулке (и потому совсем не попортилось, только изображение Кремля
несколько поблекло). Они вынимали меня только два раза в день, чтобы
расчесывать передо мной свои бороды. Кстати, у них были чудные
интеллигентные гребни с инкрустациями из мамонтовой кости.
"Купите старинное зеркало. В море выловил", -- глухо сказал Федор,
выходя из лиловых цветущих благоухающих кустов в наступающем вечере.
Проходящий человек в стройном сером костюме и начищенных ботинках не
вздрогнул, не отшатнулся, а молча вынул деньги, положил меня в карман и
пошел дальше, даже не взглянув на свое отражение в купленном предмете. Я
впервые почувствовало сладковатую смесь запахов: табака и тройного
одеколона. Так я было продано во второй раз. Вскоре я услышала хриплый голос
своего нового хозяина. Он обращался к кому-то: "Лелек, я купил тебе
старинное зеркало". Я было вынуто и отразило сначала мужское лицо, а потом
женское. Мужское было пересечено кривой усмешкой и шрамом.
-- Шутишь? -- спросило женское лицо. -- Такую дешевку.
-- Шучу, -- ответил хриплый голос. -- Не все ж бриллиантовые носить.
А это зато родное, советское. Родную Москву вспомнишь.
Мужчина ухмыльнулся: "Не нравится, Лель? Так я ж его себе оставлю.
А тебе вот вместо него -- стекляшечка". И он вынул из другого кармана
кольцо с камешком.
Так я попала к уголовнику Соленому.
Я познакомилась с его револьвером, у которого была скабрезная кличка
Барсучок. Мы часто лежали в одном кармане или в одном ящике стола.
-- Вам случалось лишать жизни? -- спросила я Барсучка.
-- Бывало, -- признался он. -- Порою ментов зашивал. Как кочевого
варишь, так все -- мусора моченые на срезе. Один раз, помню, старуху
замочили. Это я еще у Костыля работал. Шаман был законной закваски. Потом
Газырь перенял. У этого рука сикиляла, как псих на прогулке. Никогда не мог
свалять в туза: режет по плечу, по уху, а так чтобы в карту -- никогда. А
морсу одного вокруг поналяпает -- противно. Он потом у следователя Соснова
на допросе усох. Вчистую. Теперь я у Соленого. Нормальный парень. Вообще-то
не мокрятник, играет только, когда чисто подмораживает, когда голимый мороз.
Без необходимости -- ни-ни. Спокойный. А глаз -- сурок, почти как Король был
(земля ему пухом), с которым мы два года назад работали. Не сикильнет на
ноготь, когда надо. Нормал!
Соленый с Барсучком часто ходили на дело. Почти всегда и я было с ними
-- в кармане Соленого. Мы бывали в разных городах, ездили на поездах и на
самолетах. Я увидело жизнь во многих ее проявлениях. Уютные залы ресторанов,
сырые подвалы, мчащиеся автомобили. Я увидело столицу, чье изображение несло
на себе. Я увидело люксовые номера гостиниц и подозрительные дачи с
собаками. Особенно вспоминается мне одна глухая хаза в еловом лесу под
странно поэтическим названием "Шорохи". Вспоминаются темные пьяные ночи,
когда в "Шорохах" рыдали гитары и люди осипшими голосами пели грустные песни
о несчастной любви, о щемящем чувстве необратимости, когда жизнь гаснет в
глазах уркагана, смертельно уязвленного злыми пулями мусоров. Пели о
неудачном выстреле и удачном ударе ножа.
"...Все плакали, убийцу проклиная. А я в тюрьме сидел, на фотографию
глядел -- с нее ты улыбалась как живая..."
Но особенно мне запомнилась песенка о зеркальце:
Зеркальце, ты мое зеркальце
В рамочке голубой,
Зеркальце, ты мое зеркальце,
Солнечный зайчик золотой!
Наденька тебя мне подарила,
Когда как-то я на дело шел,
И сказала: "Возвращайся, милый,
И пускай все будет хорошо".
И в тот вечер выстрелы звучали
Словно музыка вдоль темных улиц,
И когда мы Сизого кончали,
Мы друг другу на прощанье улыбнулись.
Сизый, старый друг, зачем ты предал?
Ссучился ты, бедный уркаган...
Следователь сытно пообедал,
Пули уходили, как в диван.
Зеркальце, ты мое зеркальце
В рамочке голубой,
Зеркальце, ты мое зеркальце,
Солнечный зайчик золотой!
Мы в тот вечер взяли наудачу,
Мусоров немало полегло,
Я же вспоминал твой взгляд прозрачный
И "пускай все будет хорошо".
Уходили задними дворами.
Длинный хвост не удалось стряхнуть.
Впереди все зацвело ментами,
Выстрелы нам преградили путь.
И теперь ты, зеркальце, разбито,
Словно сердце у меня в груди,
Что тебя когда-то так любило --
Наденька, меня уже не жди.
Ты, что это зеркальце держала,
Над моей могилой наклонись
И, как бы твое сердце ни рыдало,
Другу на прощанье улыбнись!
Зеркальце, ты мое зеркальце
В рамочке голубой,
Зеркальце, ты мое зеркальце,
Солнечный зайчик золотой.
Соленый расчесывал передо мной пробор, смазывал его бриолином, брился,
отирал одеколоном худое длинное лицо с выступающими скулами. Он аккуратно
повязывал яркий галстук в одной из темноватых комнат "Шорохов", оклеенных
рваными старинными обоями. Чистил ботинки гуталином. Проверял Барсучка и
бережно прятал его во внутренний карман серой пиджачной пары. Он мыл руки с
мылом над алюминиевым тазиком. Потом бесшумной элегантной походкой он
проходил по малоосвещеиному коридору, постукивая костяшками пальцев в
высокие двери. Спускался вниз, в большую переднюю, подходил к длинному
мрачному зеркалу, вынимал меня и показывал меня ему. Мы отражали друг друга
с этим мрачным замкнутым зеркалом из "Шорохов". А Соленый, застыв в
неподвижной небрежной позе, засунув одну руку в карман брюк, вглядывался
зачем-то в бесконечность. Постепенно в переднюю спускались остальные --
молчаливые, сосредоточенные, с белыми измятыми лицами и синими кругами под
глазами после вчерашнего шабаша. Рассаживались по машинам и ехали.
Веселый балагур Гена по прозвищу Струя. Тихий, интеллигентный альбинос
Дупло. Угрюмый, но верный Фонарь. Претенциозный Граф -- в пестром клетчатом
пиджаке, с холеными розовыми ногтями на пальцах. Молодые Сережа Подлянка и
Леша Шепот. Однажды Соленый вынул меня из кармана, чтобы поправить сбившийся
галстук. Мы были в чьей-то роскошной многокомнатной квартире, куда попали
определенно без ведома хозяина.
Кроме нас, здесь был только белоголовый Дупло, возившийся над каким-то
шкафчиком. Видимо, дело опять шло о бриллиантах, к которым Соленый испытывал
пристрастие. На огромном письменном столе горела зеленая лампа. С улицы
донесся свист. Уркаганы зашухарились. У дверей столкнулись с входящим
мужчиной. Соленый уронил меня на пушистый ковер. На протяжении минуты мне
грозила возможность быть раздавленным бестолково топчущимися ботинками.
Потом мужчину ударили кулаком по голове так сильно, что он упал.
"Кончить?" -- непристойно ухмыляясь, спросил Дупло, вынимая своего
короткоствольного Дятла.
"Оставь", -- ответил Соленый. Он поднял меня, и мы ушли в быстром
автомобиле.
Как правильно говорил Барсучок, Соленый не очень любил мокрые дела. К
тому же он гордился, что не оставляет следов.
На следующий день Соленого взяли в ресторане "Пекин". Он был совершенно
спокоен. Барсучок был предусмотрительно оставлен в "Шорохах". Против
Соленого не могло быть улик.
В кабинете следователя я было положено на убогий письменный стол,
вместе с другими предметами, найденными у Соленого, -- выглаженным носовым
платком, бумажником, чертовым пальцем, привезенным вместе со мной из Крыма,
и прочими мелочами. Я отразило склоняющееся надо мною пожилое лицо с
жесткими устами и проницательным взглядом. Это был следователь Соснов. Он
задал несколько вопросов о происшедшем вчера инциденте -- попытке ограбления
в квартире ювелира Шатунова.
Соленый ничего не знал об этом.
-- Это ваше зеркальце?
-- Мое.
-- Потерпевший Шатунов показал, что в руках одного из грабителей было
овальное зеркальце.
Соснов потер лоб пальцами, выдвинул ящик стола, оттуда достал конверт,
а из конверта -- маленькую пятиконечную звездочку красного стекла.
-- Эта звездочка была вчера найдена в квартире Шатунова на коврике в
передней, то есть там, где произошла драка, -- сказал он. После чего он
показал Соленому то место на моей ручке, где был отчетливо виден силуэт
отклеившейся пятиконечной звездочки. Затем он приложил звездочку к ее
силуэту -- они сошлись.
Соленый задумчиво улыбнулся следователю и мне, взял меня из рук
следователя, посмотрел в свои глаза, как бы ушедшие далеко-далеко. Так я
попало в квартиру Соснова. Роковая звездочка, аккуратно подклеенная
следователем, снова сияла над моей Спасской башней. Соснов показал меня
семье и сказал, что это зеркальце принадлежало одному опасному преступнику.
Я часто вспоминало Соленого. Вскоре, из разговоров следователя с семьей, я
узнало, что Соленый бежал из следственного изолятора. Милиция вскоре напала
на его след. Он скрывался в "Шорохах". Старое гнездо было взято приступом.
Струя, Граф и Фонарь погибли, отстреливаясь. Соленый застрелился из Барсучка
в последней комнате "Шорохов", где никогда не удавалось как следует
проветрить. В духоте убил себя этот замечательный человек.
Продолжение истории потерянного зеркальца
Итак, я поселилось в квартире следователя Соснова. Какое-то время я
лежало в ящике его письменного стола среди каких-то скучных бумаг и редких
фотокарточек воров и убийц. Вечерами Соснов иногда вынимал меня и
рассматривал с тщеславной улыбкой. Я напоминало ему о его победе над
Соленым. "Это зеркальце принадлежало одному из самых опасных преступников",
-- в который раз говорил он семье. Вечерами он снимал свой серый жестокий
пиджак, надевал вязаную кофту и позволял себе погрузиться в приятную дымку
неглубокой сенильности. Он садился в кресло под уютной оранжевой лампой,
лохматый Каштан свертывался клубочком у его ног, дети -- Володя и Катя --
устраивались на диване поближе к отцу, высокая, полная Маргарита Михална
приносила плетеную корзиночку с вязанием, и тогда Степан Тихонович (так
звали Соснова) начинал тихим неторопливым голосом очередной захватывающий
рассказ о борьбе с преступниками из своей богатой событиями жизни. Дети
часто просили отца принести "то зеркальце". Он приносил, показывал. Я
отражало эти мирные, семейные вечера, раскрасневшиеся лица детей. Володе
было шестнадцать лет, а Кате двенадцать. Я очень нравилось им, однако по
разным причинам. Володе я нравилось как предмет, коего касались
окровавленные руки легендарного преступника, а Катеньке я нравилось само по
себе. Чистенький, послушный отличник Володя Соснов давно уже решил в глубине
души стать известным уголовником. Это и неудивительно. Степан Тихонович, всю
свою жизнь отдавший беспощадной борьбе с выходцами из преступного мира,
незаметно для себя установил в собственной семье культ этих существ. Более
того, бессознательно он и сам обожал их. В глубине души он презирал всех
честных бесцветных граждан, не запятнавших себя преступлением закона. Что
касается Катеньки, то она через какое-то время выпросила меня у отца. Степан
Тихонович отдал меня дочери без сожалений, так как история Соленого быстро
покрылась пылью. Ее заслонили другие, не менее интересные случаи. Катенька
сразу потащила меня в школу показывать своим подружкам. "Это зеркальце
знаменитого опасного преступника", -- сказала она. Я переходило из рук в
руки. Вдруг одна девочка издала удивленное восклицание. Я отразило ее лицо
со светло-зелеными глазами. "Да это же мое зеркальце! -- воскликнула она. --
Мое любимое зеркальце, которое я уронила в море пять лет тому назад". Да,
это была Верочка Зеггерс. Она повернула меня и показала девочкам
нацарапанные на моей оборотной стороне буквы В.З. Все были поражены. Очень
поражены. Все не знали как поступить. Возникла непонятная ситуация. Верочка
говорила, что зеркальце ее, и просила вернуть меня ей, а Катенька говорила,
что это зеркальце опасного преступника (следовательно, не Верочки), и не
хотела отдавать меня. Тут вошел учитель физики Илья Игоревич Зверев.
Школьницы обратились к нему за решением этого непонятного вопроса. Они
уважали Илью Игоревича и считали, что он слегка догадывается об истине.
Зверев внимательно выслушал обеих девочек. Рассмотрел меня, потрогал ногтем
роковую звездочку над Спасской башней. Отразил во мне свое большое белое
лицо с маленьким пятнышком от соляной кислоты на щеке. На нем были очки в
тонкой золотой оправе.
-- Давайте применим соломоновский метод, -- сказал Илья Игоревич.
Девочки спросили, кто такой Соломонов.
-- Профессор Соломонов был моим учителем, -- ответил Зверев с тонкой
улыбкой. -- Это был мудрый человек. Я часто вспоминаю его.
-- А в чем заключается его метод? -- спросили дети.
-- Метод очень простой, -- сказал Илья Игоревич. -- Давайте разломим
это зеркальце на две половинки. И разделим поровну между Верой и Катей. Вы
согласны?
-- Хорошо, -- сказала рассерженная Катя. -- Уж лучше разбить его, чем
отдать ей, этой мерзости.
-- Нет, ни за что! -- запротестовала Вера. -- Ни в коем случае нельзя
его разбивать или разламывать. Пускай тогда оставит у себя.
Исходя из этих ответов, Зверев отдал меня Вере. Он думал, что она
больше любит меня, чем Катя. Может быть, так оно и было, но ответ Веры был
продиктован другими соображениями. Она знала, что разбитое зеркало означает
смерть. Из этого я делаю вывод, как ненадежны схематические приемы
нахождения истины, поскольку учесть все моменты, имеющие
влияние, невозможно. Впрочем, все равно во всем проявляется судьба, так
что это безразлично.
Так, после долгой разлуки, я вернулось к Верочке Зеггерс. Это было
радостное событие. Я любило Верочку. Она была моей первой хозяйкой. Я было
привязано к ее скромным интеллигентным родителям Инне Ильиничне и Борису
Генриховичу. Борис Генрихович был музыкантом. Он очень удивился, увидев меня
снова. "Не может быть, -- прошептал он. -- Ты же уронила его в море". "Да, я
и сама не понимаю, как это могло случиться". Зеггерс даже побледнел. Понятие
судьбы было чуждо ему. Он думал, что все происходящее зарождается
исключительно в настоящем. Зеггерс был высокообразованным человеком. Он
любил говорить о Боге. "Бога невозможно представить себе, -- говаривал он.
-- Однако представления о нем необходимы. Представьте себе поезд, идущий
сквозь густой лес. Тень от деревьев ложится на крыши вагонов. Только в одном
месте лес расступается, и краткий участок дороги -- соответствующий примерно
длине одного вагона -- освещен золотистым светом заходящего солнца. Немного
подальше над железной дорогой возвышается пешеходный мост (вроде того, что
недавно трагически обрушился в Пушкино). По мосту идет человек с маленьким
ребенком. Краткое мгновение ребенок наблюдает поезд, проходящий внизу. Затем
говорит отцу: "Папа, смотри -- все вагоны серые, а один -- золотой". В этом
случае этот золотой вагон (представляющий на самом деле все вагоны в
движении) и есть Бог".
Борис Генрихович вынимал меня и показывал гостям. "Это зеркальце умерло
и воскресло, -- говорил он. -- Много лет назад моя дочь уронила его в море,
когда мы ехали на прогулочном пароходе. Это было в Крыму. А потом, уже в
Москве, в школе, она увидела его в руках своей школьной подруги".
Гости и друзья бывали поражены такой удивительной игрой случая.
Рассматривали меня. Отражались во мне. Шли годы. Мы жили простой мирной
жизнью. Верочка росла, но со мной по-прежнему не расставалась. Я было частью
ее души. Но вот произошло событие: вскоре после того как Верочке исполнилось
17 лет, она убежала из дому с одним молодым человеком. И меня взяла,
конечно, с собой. Вот как это было. На зимние каникулы семья Зеггерс поехала
в дом отдыха для музыкантов и композиторов. Этот дом отдыха назывался
"Струны". "Надорванные струны", как шутили музыканты, поправляющие здесь
свое пошатнувшееся здоровье. Это был бывший помещичий дом с облупленными
колоннами посреди парка. Находился он на отшибе, среди заснеженных полей.
Ехать надо было сначала по железной дороге, а потом в дребезжащем автобусе.
Внутри дома были красные ковровые дорожки, стены, покрашенные желтоватой
краской с элегантными латунными светильниками. Там я неожиданно встретило
свою белую сестру. Оно лежало на подоконнике в уборной, несколько
потрепанное, но все же хорошо сохранившееся. Мы радостно приветствовали друг
друга. Мы преломили на двоих яркий солнечный свет, пробивавшийся сквозь
высокие заиндевевшие узкие окна, наполовину покрытые изморозью, наполовину
небрежно закрашенные белой технической краской. Зеркальце, с которым мы
когда-то лежали рядом, выставленные на продажу в набережном киоске (о, заря
нашей жизни!), теперь прозябало на далеком севере, у морозного двойного
стекла, за которым до бесконечности простирались волнистые белые снега, где
только чернела у самого горизонта убогая деревенька Бетховенка (бывшая
Бехтеревка). В деревню ездили на санях, под звон бубенчиков и веселое
выкликание деревенских кучеров. Там в облупленном сельском клубе имени
Моцарта показывали заграничные фильмы. Когда в темном кинозале Верочка
иногда вынимала меня, чтобы поправить волосы, я успевало отразить кусочки
этих изумительных разноцветных лент. Вертолет с вооруженными людьми, летящий
над экзотическим лесом и изумрудной лагуной. Дама в белом платье, читающая
письмо. Мерцающая собака, плывущая в ночи. Ковбойский бар с алкоголическими
зеркалами, которые даже разбиваются с умоляющим возгласом "Дринк!" В
остальное время я слышало только голоса, доносящиеся с экрана.
-- Мэри, неужели ты оставляешь меня? Теперь, когда меня преследуют,
когда Доил отказался выплачивать проценты...
-- Да, Джемс, я больше не могу, не могу...
Позвякивание. Шаги.
-- Мэри!
Удаляющиеся шаги. Скрип гравия. Тихо вступающая музыка. Вкрадчивая
печаль. Звук подъезжающей машины. Хлопающие дверцы.
Мужской голос: Это мы.
Заплетающийся мужской голос: Стэнли, это ты... Боже мой... Не теперь...
еще полгода... я докажу... это неправда... нет, нет!..
Суровый мужской голос: Время истекло, Джемс. Приготовься.
Заплетающийся мужской голос: Нет, ты не сможешь... не сейчас...
Выстрел. Падение тяжелого тела. Удаляющиеся шаги. Отъезжающий
автомобиль. Нарастающая музыка. Музыка, заполняющая все. Сладкая томительная
музыка, означающая сладость смерти. Грустная, медленная, безбрежная,
головокружительная мелодия, означающая конец. Жизни, фильма.
После фильма это как после жизни. После фильма мы веселою гурьбой
садимся в сани и под звоны бубенчиков возвращаемся в "Струны". Верочка
вынимает меня из сумочки. Я отражаю дрожащую луну в зеленоватых небесах. Я
отражаю раскрасневшееся от мороза и увиденной призрачной жизни лицо Верочки.
Она показывает меня сидящему рядом с ней студенту консерватории Владику
Плеве. Он подающий надежды виолончелист. Верочка рассказывает ему мою
историю: много лет назад она уронила меня в Черное море, а потом увидела в
руках школьной подруги. Учитель Илья Игоревич Зверев присудил ей право
обладания волшебным зеркальцем. С тех пор она не расстается со мной.
В "Струнах".шумно и весело справили Новый год. В столовой устроили
концерт. Владик Плеве с большим успехом исполнял виолончельные шедевры
барокко -- творения Вивальди, Гайдна и Боккерини.
После новогоднего вечера, после бенгальских огней, подарков, прогулок
на быстрых санях, шампанского, танцев, конфетти, мандаринных корочек,
праздничного компота, ленточек, бумажек, игр в фанты и прочего наступила
таинственная новогодняя ночь. Таинственной она была, главным образом,
благодаря некоему Георгию Романовичу Горенко, якобы дальнему родственнику
Ахматовой.
Дело в том, что этот Георгий Романович Горенко, уже старый седой
человек, устраивал каждую новогоднюю ночь в подвале "Струн" спиритический
сеанс, в основном для молодых девиц. Так было и в этот раз. Верочка Зеггерс
со своими консерваторскими подружками и девочками из музыкантских семейств
Олей Загряжской, Машей Вольт-Борисовой, Линой Лившиц, Настенькой Поляковой,
Кариной Израэлянц и другими спустилась в подвал. Шел четвертый час ночи, и у
многих девушек уже слипались глаза. Я лежало в маленькой Верочкиной сумочке.
Родители не знали об этом мероприятии. Они сидели за неряшливым после
праздника столом и допивали винцо. Кое-кто уже ушел спать.
Спустившихся охватил страх. Они оказались в большом, гулком и пустом
помещении, освещенном всего только четырьмя свечами в медных подсвечниках.
Свечи стояли на полу, образуя квадрат, а между ними в кресле сидел, держа
спину очень прямо, седой маленький и худощавый человек с черными сверлящими
глазами. На нем была бархатная куртка и красный шейный платок -- многие
девушки потом с недоумением спрашивали друг у друга, что означал этот
пионерский галстук на шее у медиума. Сбоку, у бетонной стены, по которой
тянулись какие-то технические провода, были прислонены темно-зеленые щиты --
столы для игры в пинг-понг. Даже они сейчас казались зловещими. У одного из
этих щитов стояло высокое большое зеркало в массивной деревянной раме. Возле
зеркала виднелся черный рояльный табурет на взвинченной ножке.
Горенко посадил Верочку спиной к большому зеркалу, дал в одну руку
свечу, а в другую меня. Верочка должна была всматриваться в меня, как бы
заглядывая за свое собственное плечо. Таким образом она могла видеть тот
бесконечный коридор, куда, бывало, любил посматривать Соленый.
-- Гляди пристальнее, и ты увидишь своего суженого, -- обещал Георгий
Романович.
-- Суженый-ряженый, -- почему-то подумала Верочка. Рука ее дрожала.
Георгий Романович встал в центре "магического квадрата", держа в руке другую
свечу. Тихонько, как будто целуя воздух, он задул огонек и, обращаясь к
извивающейся струйке дыма, прошептал:
-- Обитатели страны мертвых, покажите этой девушке ее жениха. Напои ее
тропами. Напои ее берлеевыми тропами. Тяжелый и холодный подвальный
сквознячок пробежал по "надорванным струнам", и те застонали в ответ.
Некогда я без трепета смотрело в лицо угрюмому и огромному зеркалу из
"Шорохов". Теперь я как будто обмерло перед этим непонятным зеркалом из
"Струн". И тут, в этом гулком техническом подвале, где летом играли в
настольный теннис, я испытало нечто, чего мне не доводилось испытывать
прежде. Я впервые в жизни отразило то, что не было отражением. Нечто
возникло во мне незаконным образом, проникнув в мою глубину из фиктивной
бездны подвального зеркала. Это было ощущение настолько сильное и
непривычное, что я показалось себе овальной лужицей, прихваченной первым
заморозком, чей хрупкий прозрачный ледок вот-вот будет взломан изнутри. В
бездонной глубине наших взаимных отражений зародилось слепое пятнышко, нечто
вроде крошки, запавшей между линзами оптического прибора. Но это пятнышко
росло. И становилось мутным силуэтом. Он поднимался из моих пучин, как
утопленник, всплывающий из темной морской бездны в светлые верхние воды:
выплывал, расплывался, выплывал неуклонно, расплывался и снова собирался,
словно кто-то настраивал фокус. И не было подводных священников, чтобы
причастить его. И чем ближе и отчетливее был этот силуэт, тем более жестокое
давление ощущало -- как будто меня собирались расплющить изнутри. Мне
казалось, что я вот-вот стеку по Верочкиной руке ручейком ртути, убегающей
от самого себя. Черный фрак, белая манишка, черный фрак, белая манишка,
черный фрак, белая манишка. Румяное, узкое, словно бы спящее лицо. Это был
Владислав Плеве.
Все сильнее дрожала рука Верочки, дрожала Верочка. Дрожало я. Затем все
оборвалось. Верочка покачнулась и упала навзничь. Старик Горенко был
наготове -- он ловко подхватил ее и меня. Судьба была решена. Теперь Верочка
знала, кто предназначен ей. В последующие дни зимних каникул она и Владик
Плеве были практически неразлучны. Наверное, выступление Владика на
новогоднем концерте заставило Верочку влюбиться в него -- игра на виолончели
представляет собой для людей зрелище откровенно сексуальное, если не сказать
почти порнографическое -- придерживая женоподобный инструмент между
раздвинутыми коленями, исполнитель водит смычком по струнам, извлекая звуки
более человечные, нежели сам человеческий голос. Великий виолончелист Пабло
Казальс, играя в Белом Доме для президента Кеннеди и его жены Жаклин,
сопровождал свою игру стонами явно оргиастическими. Владик часто ставил
Верочке эту пластинку с записью концерта в Белом Доме -- на конверте была
воспроизведена фотография, где лысоватый Казальс в крупном фраке кланяется
залу: в первом ряду можно различить взвинченные лица Кеннеди и Жаклин. Стоны
и печаль Казальса взвинчивают и Верочку. К тому же Владислав из хорошей
семьи. Моя Верочка девочка интеллигентная и любит словесные игры. Фамилия
"Плеве" наводит ее на мысль о собственной девственной плеве, которую Плеве
мог бы устранить так же музыкально и человечно, как он исполняет концерт для
виолончели с оркестром Антонио Вивальди, концерт для виолончели с оркестром
Hob. VLLb:2 Гайдна, концерт для виолончели с оркестром Boccherini. Имя
"Владик Плеве" она трансформирует во внутренний призыв "владей плевой".
Вскоре они составляют план побега.
Как водится в таких случаях, все устраивают друзья Владислава -- Грушин
и Песков. В одну из ночей они бегут из "Струн" на двух санях, со свидетелями
и подружками невесты. Для Верочки заготовлено превосходное венчальное
платье. Владислав обладает концертным фраком. Они должны обвенчаться в
бетховенской церкви, а затем отправиться, опять же на санях, с бубенцами и
песнями, в пансионат со странно-лаконичным названием "Дома" -- в "Домах"
предполагалось отпраздновать свадьбу. Там же молодые должны провести свою
брачную ночь.
Согласно этому плану все и произошло. Престарелый батюшка наскоро
обвенчал их в заснеженной деревенской церкви. Убор невесты Верочке был очень
к лицу. В маленькой гостиничного типа комнатке, где произошло первое соитие,
было два зеркала -- оба квадратные, в позолоченных рамах. В одном,
старинном, словно бы все время шел дождь. В другом, помоложе, дождь как
будто бы только что кончился, и все отражалось промытым и посвежевшим. Но
Верочке этого показалось мало -- она желала видеть все до последней детали,
видеть, как прольется ее девственная кровь. Для этой цели понадобилась моя
помощь.
По просьбе Плеве она осталась в белых кружевных чулках и белых
туфельках, не сняла шуршащую фату и небольшой символический веночек,
замещающий некогда обязательный флер д'оранж (оранжевый, скрытно
присутствующий в белизне, -- вот цвет невинности). Рукой в белой кружевной
перчатке Верочка сжимала мою пластмассовую ручку (может быть, правильнее
было бы называть ее "ножкой"?), прикрывая тонкими пальцами изображение
Спасской башни Кремля. Плеве поставил на тумбочку небольшой японский
магнитофон, вложил кассету с записью концерта Казальса в Белом Доме. Нажал
на "плэй". "Играй" -- было приказано всему. Звуки виолончели и стоны
исполнителя потекли по комнате. Вскоре они смешались со стонами Верочки.
Крови было совсем немного. Пабло казался... Кем? Чем? Тяжелым, сладко
рыдающим богом, может быть? Или сверкающим лакированным дельфином, ныряющим
в глубину с улыбкой на скрипучих щеках?
Множество раз прежде Верочка отражала во мне свой аккуратный половой
орган, разглядывая его с придирчивостью, свойственной девочкам. У нее не
было повода для претензий: он был идеален. Теперь я отразило момент лишения
невинности: фаллос Плеве вошел, и вошел еще немного, и был легкий вскрик, и
совсем немного крови... Верочка, конечно, преувеличила свои возможности
наблюдателя -- она ничего не видела, глаза ее во время соития были закрыты.
Зато я отразило все в подробностях. Но вскоре я выпало из ослабевших
пальцев, одетых в ритуальные кружева. Вера и Плеве мгновенно уснули, и я
прикорнуло возле стройного бедра своей любимой хозяйки. На ее нежной коже,
еще сохраняющей память о крымском солнце, блестела струйка спермы
виолончелиста, чем-то напоминающая сгущенную слезу.
Те, кто не являются вещами, с трудом могут представить себе сновидения,
свойственные нам, вещам. Но предмет, столь близкий к молодой девушке (я
являлось таким предметом), иногда проникает в девичьи сны. Изредка я,
каким-то образом, словно с краю, отражало Верочкины сновидения. В ту снежную
ночь в "Домах" Верочке снилось (или это снилось мне?), что она простужена и
лежит в постели с температурой. К ней приходят ее школьные одноклассницы и
одноклассники. Толпятся вокруг постели, болтают, показывают учебники. В
момент, когда одноклассники собираются уходить, их вдруг настигает волна
превращений: они грушами и зайцами разбегаются по углам, скрепками и
зубочистками заваливаются в паркетные щели, стружками и шарфиками повисают
на стульях, авторучками зарываются в рыхлую землю цветочных горшочков. Затем
мне приснилось (или это приснилось Верочке?), что какая-то незнакомая
девушка дарит меня своему возлюбленному при расставании. "Наденька тебя мне
подарила, когда как-то я на дело шел". Но на этот раз это не уголовник,
уходящий в земную ночь со своим пистолетом, а космонавт, отправляющийся в
безвоздушную ночь небесную. Ракета изнутри почему-то оформлена в стиле,
напомнившем мне ресторан "Пекин" -- любимое местечко Соленого: аквариумы с
узорчатыми стеклами, красные лакированные притолоки, вазы с драконами,
свастиками и фениксами. Есть и приборы, но и они излишне декорированы.
Космос в иллюминаторах напоминает черносиний измятый шелк, собранный
складками и пучками. Катастрофа немедленно начинает происходить. Она
состоит, как это ни странно, в появлении Бога. В глубине космоса, в месте
особой его "измятости", особо плотного сгущения складок, как бы на линии
невозможного в открытом космосе горизонта появляются два дородных старца.
Они осанистые, совершенно белые, как выточенные из слоновой кости или из
сала. Стоят поодаль друг от друга, а между ними тянется клубящееся, живое
облако, переливающееся множеством оттенков -- от чернильно-лилового и до
изумрудного. Из центра того облака вырывается сияющий столб или сверкающая
щель, рассекающая, как бы взрезающая космическую тьму. Все это в целом --
старцы, облако и сверкающая щель -- и есть Бог, точнее, один из Его
бесчисленных обликов. Все это настолько огромно, что земной шар, солнце и
другие планеты кажутся светящимися пылинками на фоне этой грандиозной
констелляции. "Явление Бога" действует на ракету разрушительно: приборы
начинают взрываться друг за другом, лопаясь искрящимися фонтанчиками. Однако
голос из репродуктора сообщает, что волноваться не надо, так как
"катастрофа" устроена специально для развлечения космонавтов. Однако людям
рекомендуется засунуть все десять пальцев в рот и изо всех сил вжимать зубы
в десны, иначе они могут вылететь из своих гнезд. Почему-то мой космонавт
впивается зубами в мою ручку -- мне кажется, что след его зубов может
остаться на нежной пластмассе. Сразу после этого он выходит в открытый
космос и там яростно выплевывает меня в пустоту. В этот миг я словно бы
прошло в какой-то другой космос: пустой, свободный, ничем не обремененный.
Мое парение было великолепным. Я ликовало. И иногда во мне бликовали далекие
солнечные диски. Паря, я неспешно вращалось. Плавно развернувшись, я
отразило Землю -- этот зеленовато-пепельный шар, подернутый облачным
покровом, похожим на куколь из разреженных волокон подмокшей ваты. Я
отразило далекий морщинистый океан и острова, и материки, и точки, и
крошечные цифры, и муравьев, и пухлые каменья, и яйца всмятку, и ветры, и
завихрения облачные, и пики гор, и альпинистов, пьющих из фляжки... Ее
сверкающее, серебряное донце...
Зеггерсы уже на следующий день разыскали дочь в "Домах". Но дело было
сделано -- она была венчанной женой Плеве. Правда, до официальной
регистрации брака в ЗАГСе надо было еще ждать, так как Верочке не
исполнилось покамест нужное количество лет. Каникулы скоро кончились, юные
супруги погрузились в студенческие будни. Я все чаще задумывалось о
собственной судьбе. Размышляло я и о судьбах других зеркал. Краем уха, как
говорят люди, а в моем случае лучше сказать "срезом амальгамы", я уловило
историю о зеркальной пудренице, которую кто-то уронил со смотровой площадки,
находящейся на вершине останкинской телебашни. Пудреница должна была
разбиться в зеркальную пыль, как страшное зеркало тролля из "Снежной
королевы", чтобы проникать внутрь вещей и отражать их изнутри, отражать их
микроскопическими фрагментами в качестве особого зеркального вируса. Но оно
упало в открытый канализационный люк. Словно нож сквозь масло, оно прошло в
глубину фекальных масс, постепенно замедлявших его падение. И на глубине оно
осело надолго.
На ночь меня оставляли на трюмо, возле Верочкиной кровати. В ночном
свете я часами смотрело на зеркала трюмо, на этот алтарик, думая о том, что
когда-нибудь мы снова станем песком, из которого вышли. И может быть, я буду
бураном, буду частью торнадо или смерча, буду проникать в людей,
просачиваться сквозь вещи... По утрам Верочкина мама Инна Ильинична
приносила дочке горячую чашку какао. Она ставила ее рядом со мной, на трюмо,
и тогда все мы покрывались сладковатой испариной...
Философскому настроению способствовали разговоры, которые Зеггерс
иногда вел со своими гостями. Как-то раз, весной, они обсуждали меня в
небольшой компании людей пожилых.
-- Слово "зеркало", -- сказал Борис Генрихович, -- происходит от слова
"зреть". "Зреть" -- то есть видеть и созерцать, и "зреть" -- то есть
созревать, расти. В отличие от животных, человек существо вертикальное,
прямоходящее, он растет вверх, подобно растениям. Мы подозреваем, что
являемся растениями в большей степени, чем животными. Мы подозреваем, что
свет заставляет нас расти. Глаз это зерно, потому что он кормит нас светом.
Остальное тело есть стебель этого зерна, его побег. Мы растем, чтобы видеть,
и видим, чтобы расти. Зрак, зрачок, он же зеница, зарница и заря. Отсюда и
слово "царь" -- кесарь, сверкающий подобно солнцу. Тот, кто источает свет
(если его зрение не ослеплено собственным сиянием), видит все "в собственном
свете". Быть зрячим солнцем -- наверное, это и есть идеал человека
просвещенного?
-- Если произвести в слове "зеркало" небольшую полузеркальную
перестановку, -- отозвался некий старик голосом, звенящим, как ржавые
бубенчики, -- если поменять местами первый и второй слог, мы получим слово
"калозер", то есть "кал озер". Озера всегда казались зеркалами.
Лежат озера словно зеркала
В темно-зеленых хвойных рамах...
Зеркала это испражнения озер. Озера срут зеркалами в наше сознание.
"Зеро" -- ноль. "Зеркало" можно понять как "нулевой кал" -- безотходное
производство образов. Овальное зеркальце, когда оно обращено к пустоте, есть
опредмеченный ноль. Кал смывается без остатка, как образ с амальгамы.
Зеркальная поверхность гигиенична. Срать значит забывать. Но надо не просто
срать, но и смывать за собой -- забывать о забвении.
Старики рассмеялись. Перед ними на столике стояли чай, мед и сухарики.
Дождь неожиданно кончился. Сквозь рваные облака пробились солнечные
лучи. Все сделалось пестрым, хрупким и влажно сверкающим. Гости шкафа стали
спешно расходиться по своим делам, даже не думая о том, чтобы дослушать
захватывающую историю зеркальца. Компания распалась. Вышли и граф с
Цисажовским.
-- Мы так и не узнали, как зеркальце попало в этот шкаф, -- сказал
граф. -- Зеркальце не довело нас до нас самих, до момента рассказывания
самой истории. Оно не отразило нас. Не успело, а может быть, не пожелало.
Жаль. Я буду думать об этой поучительной истории. С самого начала этот
рассказ зеркальца напомнил мне "Историю бутылочного горлышка" Андерсена,
которую я читал в детстве. Жизненным пиком бутылки была помолвка девушки и
моряка. Однако судно пошло ко дну. Бутылка донесла до берега предсмертную
записку утопающих, но ее никто не прочел -- чернила были смыты морской
водой. Как и бутылка, зеркальце спускалось к глубинам и поднималось в
высоту. Бутылку вторично наполнили вином, и она поднялась на воздушном шаре.
Зеркальце, во сне, было выброшено в открытый космос из ракеты. Бутылку,
выпив, бросил вниз воздухоплаватель. Она разбилась, и осколки попали на
балкончик той самой девушки, которая напрасно ждала своего утонувшего
моряка. Она так и осталась девушкой -- Андерсен называет ее "старой
девушкой". От разбитой бутылки уцелело лишь горлышко -- оно попало в птичью
клетку в качестве поилки. С одной стороны оно заткнуто пробкой, с другой
разбито. Разбито сердце "старой девушки", но плева ее не повреждена. В
отличие от бутылки, зеркальце осталось целым -- зато ее хозяйка была лишена
невинности, и зеркальце отразило дефлорацию. Проучаствовав в акте лишения
невинности, оно сохранило собственную отражающую плеву. Но не является ли
весь этот рассказ нагромождением цитат? Зеркальце насторожило меня своей
образованностью. Видимо, оно умеет читать. Наверняка оно читало "Историю
горлышка". Люди создают лишь усеченные копии собственных тел: бутылка это
нечто вроде желудка с горлышком, зеркальце -- подобие глаза с ручкой.
Подглядывающего глаза. Вы сами, Цисажовский, читали исповедь бутылочного
горлышка?
-- Читал когда-то, -- хмуро сказал Цисажовский, почесывая пятнистое
надхвостье. -- В детстве я много читал. А потом подумал: глупо читать. Книги
написаны для людей, а мы ведь не люди.
-- А кто мы? -- спросил граф с философским холодком.
-- Подробностей нам не сообщали, -- флегматично ухмыльнулся переводчик.
-- Ну вот вы, например, поляк, а поляки ведь люди, -- сказал граф.
-- Вообще-то я чех, -- парировал Цисажовский.
-- Все равно, не могу согласиться с вами насчет чтения. Мы не люди, и
тексты не люди. Мы с текстами в равном положении. Нам они даже ближе, чем
людям.
-- Вы, как я погляжу, мыслитель, а я простой переводчик, -- отвечал
Цисажовский, затаив скепсис под слипшимися усами.
По мокрой опавшей листве быстро удалялись эти два нечеловека прочь
от случайного шкафа.
1987
История
потерянного крестика
Евреи входят длинною цепочкой,
Полощутся седые сюртуки,
И солнца луч древнееврейской строчкой
Ласкает их и падает во мхи.
И я еврей. Торжественно и гордо
Иду я между всех. На мне сюртук просторный.
Я вымыт в микве, чист
(С осенней высоты спадает ветхий лист)
И, как младенец, свеж. Воротничок мой снежен.
Он шею чуть сдавил, шероховат и нежен.
В Европу сонную скользят мои глаза,
По сморщенным щекам, блестя, скользит слеза.
Промытые седины пахнут сладко.
В них спрятаны прозрачные уста,
В них спрятана таинственная складка,
В них мягкая усмешка так проста!
Проста, загадочна, нежна, неуловима,
Слегка грустна, как будто чуть ранима
Дрожащая улыбка мягких уст
Всеведущих -- лукава, терпелива.
Ее от смертных глаз седой скрывает куст
Огромной бороды, разросшейся спесиво.
Колышутся огромные знамена,
Звезда Давида золотом горит:
Шестиконечный силуэт прозрачный,
Он сердцу шепчет, сердцу говорит,
Как звук шафара, он зовет к ответу
Все помыслы, все тайны ветхих книг,
Куда мой искушенный ум проник --
Веселый, искушенный, странный, мрачный,
Немного исступленный, близкий к свету
Луны, что как родник.
Источник снов, предчувствий, бед
И счастья.
Есть счастие в познании. О да!
Есть смех познания -- блаженный и покорный.
В каббалу углубившись, я всегда
Им освещал бездонность ночи черной.
Сам я смеялся коротко и тихо,
Но видел тех, чей смех лился рекой
Широкой, полноводной. На престол
Восходит Знающий. Он, как тумтум, беспол.
Он крылышком звенит и тетивой,
Он облысел от мудрости ретивой,
Но ныне уж вкушает сладкий плод
(В священном шалаше всегда царит Суккот).
Кто позабудет смех твой, Бал-Шем-Тов?
Он навсегда застыл в глуби веков.
Но смех -- не мой удел. Увы, увы!
Как Шабтай-Цви, я сумрачен и горд
(По крайней мере с виду),
На самом деле скромно, терпеливо
Я исполняю заданный урок --
Готовлю искушение для мира,
Леплю таинственный и грозный идеал,
Ведь Ведающий Все ко мне из тьмы воззвал.
Я снял свой тфилн. Я в клетчатых штанах.
И в зеркало себя с усмешкой созерцаю.
Ты ль это? Я ль это? Не знаю.
Но нужно так. И я "Зогар" читаю,
И по ночам черчу на сумрачных листах.
Чтоб выполнить свой долг, я звезды наблюдаю --
Двоящийся Меркурий, красный Марс,
Лиловую Венеру. Нечестивы,
Да и смешны названия такие,
Но имя, то, что я ношу, -- Карл Маркс --
Еще смешней!
Помощник мой -- светлобородый гой.
Вот он идет, мой друг, адепт, заложник,
Доверчивый, угрюмый и простой --
Он думает, что я и впрямь безбожник.
Мой бедный Фриц! Когда же ты прозришь?
Фриц Ангельс кроткий, мой хранитель,
Наивными крылами ты спешишь
Прикрыть гнездо ума -- священную обитель.
И я храню тебя, шепча слова,
Которых ты, мой друг, увы, не понимаешь.
Не видишь ты, не слышишь и не знаешь:
Доверчиво ты смотришь в зеркала.
А там нет ничего. Лишь призраки толпой
Смеются над твоей огромной бородой.
Что станется с тобою после смерти?
Что ждет тебя? Та пустота,
В которую ты веришь так упрямо?
Ничто? Болотце? Солнце? Красота?
Бездонная мерцающая яма?
Или и впрямь арийская Валгалла
Тебя там встретит буйным громом чаш
Под бранный звон тяжелого металла
И песнь Валькирий? Что ж, мой бедный страж,
Желаю тебе счастья и покоя.
Ты мне помог, хоть ничего не знал.
Серьезно ты читал мой "Капитал",
Во мне ты видел мудреца, героя.
Мезузу черную на косяке двери
Ты принимал за ридикюль Женни.
Когда Фриц Энгельс кротко засыпал,
Когда все спали -- и жена, и дети, --
Тогда я плел сияющие сети,
Я пепел сыпал, свечи зажигал,
Благоговейно к свиткам наклоняясь
(Они хранили запах древних нор,
Цветущих трав -- нездешних, неизвестных).
Здесь я читал столбцы стихов прелестных
(О, ритм "Казари" помню до сих пор!).
Трактатов строки, медленно качаясь,
Торжественно текли в мои глаза,
И я дрожал, иных страниц касаясь,
И иногда прозрачная слеза
На книгу капала. Как будто вор несмелый,
Я осязал пергамент поседелый
От пыли, плесени, от времени и боли,
От старости, забвенья, света моли,
От тяжести могущественных сил,
Что некто в буквы хрупкие вложил.
Прими мою хвалу тебе, каббала --
Свеченье тайное, наука всех наук!
Шептал я заклинанье, и вставала
Толпа теней передо мной, как звук
Неясный, но томительный, что слышим
Мы иногда из светлых недр земли
Или с небес. Тихонько снизошли
И, словно в шарике, как будто в снежной сетке,
Передо мной возникли мои предки --
Все двести двадцать два раввина. Но
Их взгляды дальние, как будто луч на дно
Колодца темного, в сей мир не попадали.
Взывал я зря. Они молчали,
Как птички белоснежно-золотые.
Ах, Боже мой, они немые!
Им слишком хорошо. Они забыли
Искусство говорить, ведь в производстве звука
Есть напряжение, желанье, боль и мука.
Да, звук есть труд. И речь есть труд и боль.
Труд -- яд вещей. Просыпавшись как соль,
Как едкий пот пролившись из тюрьмы,
Труд -- тот туннель, где мы обречены
Кидать свой труп в изгибы медных труб,
Вращая меч, который ржав и туп.
А стал он туп, вгрызаясь в пустоту --
В ту пустоту, что вся полна утрат,
Где нас ни утра блеск, ни крошечный закат
Не в силах вызволить из торопливых пут.
Здесь каждый вертится -- неловок, слаб и пуст --
Так пред слепым князьком усталый шут
Нелепо прыгает, пытаясь смех из уст
Вельможных выманить.
Здесь каждый падает и всякий тянет всех,
И утомление здесь самый тяжкий грех.
Без магии наш мир как островок
Угрюмый и безлиственный. Над ним
Нет звезд и солнца -- только смрад и дым.
Я из каббалы выудил законы
Орудий, денег, сил, властей, труда.
Я вплел в них горечь сна и царственные стоны
Зернистых масс, не знающих стыда.
Я опьянил их будущим, как это
Пророки делали. Я показал им свет.
Но, уходя от них, я чувствовал, как где-то
Ворочается некто... Слово "нет"
Шестнадцать раз застряло на устах
(А в трепетной душе застряло слово "Ах",
Как зимний путник в блеющих стадах).
Огромен, тих, массивен и бескрыл,
Ко мне сквозь тьму какой-то тяжкий гость
Издалека как будто шел иль плыл...
Но я, как дитятко, не ведал страх и злость.
Я в круг вошел. И книгу приоткрыл.
И имя произнес, которое любил.
О рабби Лейб! В морщинках и лучах
Лицо твое качнулось надо мной,
Как водопад прозрачно-ледяной.
Открылся древний рот в сверкающих снегах
Огромной бороды. Я слышал запах роз --
Ты был внутри цветущ, как райский сад,
Я чувствовал биение стрекоз,
Я видел бабочек, свеченье летних глаз.
Погиб от розы ты, ты жертвой стал любви
К цветочным ароматам. И аскет
Не удержался, видя розы цвет,
И наклонил благочестивый нос
К душистым лепесткам коварных роз.
Ах, Женни, ты мне розочку сорви,
Но только ядовитой не дари!
Ведь я и.так умру, понюхавши чуть-чуть,
Успевши странный аромат вдохнуть.
И рабби Лейб погиб, а он ведь был святой.
От мира отрешился. А со мной
Что станется? Ведь я так трепетлив!
Чего уж там, совсем я не аскет.
Да, я люблю горячий солнца свет
И дальние прогулки в летний день --
Пешком идти, сменяя жар и тень,
Хотя я полон и чуть-чуть потлив.
Люблю потом над током быстрых вод
Присесть в траву. Со лба прозрачный пот
Платочком белоснежным отереть,
Плеваться сонно в реку и смотреть,
Как робкая слюна уносится волной --
Так наша жизнь, заброшенная в мир,
Уносится теченьем в мир иной.
Люблю поесть, люблю субботний пир,
Еврейских блюд пленительную нежность.
Вкус шалета! Вкус рая, господа!
В нем все оттенки чувств, в нем нега и безбрежность.
Да, Генрих Гейне прав, что шалет -- не еда,
А заповедь. Молитва, песнопенье.
А то мгновение припомните, когда
На пристальных губах рассыпется печенье --
Хотя бы кихелах, -- и наш язык проворный
Все крошки сладкие затягивает в рот,
Который, вкусу нежному покорный,
Уж венчик сладостный жует!
Но и французской кухне я не враг:
Намеки устриц, склизкий смех улиток,
И красное вино, и элегантный свиток
Пространного и щедрого меню...
Я сыр на фрукты бережно меняю,
И в сторону десерта уж клоню,
И тучному салату изменяю
С пирожным -- преждевременным, как лето,
Чьим дремлющим теплом весна уже согрета.
В былые годы я ходил к блудницам,
В зеркальных залах с ними танцевал,
Смотрел в глаза их сонным, жирным шпицам,
Изнеженные пальцы целовал.
На плечи подавал скабрезный мех --
Меня волнует грешной шиксы смех!
Еще люблю народное бурленье,
Неясный гул, толпу на площадях,
Внезапный гнев, неясное стремленье
И хруст стекла, истоптанного в прах.
Да, помню я Париж сорок восьмого --
Дышалось славно. В воздухе плелась
Мистическая ткань воинственно-слепого
Мерцания. Таинственная связь!
Но к делу! Рабби Лейб, где Голем твой?
Меня волнует этот образ древний --
Он с миссией моей имеет сходство,
Такой же гладкий, темный и простой,
Неясный, ложный, вечномолодой,
Обидчивый и полный превосходства.
Где он? -- Рэб Лейб ко мне склонился
(От аромата роз кружилась голова),
И шепот медленный из уст его пролился --
Я различил отдельные слова:
"...Он умер... умер... бродит по Европе...
призрак..." Я упал.
И вдруг грядущее раскрылось предо мною.
Я видел, как я старцем ветхим стал:
Я в Лондоне живу с трясущейся главою.
Потом я тоже умер. Жизнь катилась вдаль.
А дух мой отошел в миры иные,
Где он, надеюсь, позабыл печаль,
Но я себя не видел уж. Простые
Ретивые ученики сидели за столами,
Фриц Ангельс хлопал мягкими крылами.
Табачный дым. Прозрачные, пустые
Пивные кружки.
Ах, бабочка-душа, куда, куда
Ты отлетишь -- потом, когда все это
Окончится? Отсюда не видать.
Однако же я вправе пожелать
Тебе полет счастливый и беспечный
В прозрачном воздухе, в тот сад, цветущий, вечный,
Где будешь ты кружиться над цветком
И пить нектар нежнейшим хоботком.
То Сад Небесной Торы, там растет
Светясь, благоухая, Книга Книг,
И на ее страницы, хоть на миг,
Я опущусь.
А будущее мира все текло
И разворачивалось медленно и гулко,
Внимательному взору представая:
Ах, сколько заседаний и конгрессов!
Ах, прений сколько! Мутные графины
Наполненные желтою водою,
Согбенные лоснящиеся спины...
И, как стада животных к водопою,
Стекающихся сумрачных рабочих
Простые лица. Достоевских бесов
Загадочные склизкие улыбки --
Они резвились, бились, точно рыбки
В потоке сточных вод. Неряшливы, однако!
Ах, сколько разных гоев и евреев,
Что кашляли и сухо и двояко,
И, с лицами угрюмых брадобреев,
Склонялись над страницами моими.
О дети, дети! Вы Закон забыли,
Вы в микве даже в праздник не бывали
И оттого покрылись слоем пыли.
Вы маленькими козликами стали,
Изрядно смрадными, бодливыми, простыми --
Вы на копытцах звонких танцевали
И рожками о рожки ударяли,
Трясли главой, бородками густыми
Страницы книг прилежно подметали!
Что вы могли понять в моих трудах?
Что вас ко мне так сильно привлекало?
Я знаю, что! Тянуло вас! Держало!
Вы оторвать не в силах были очи,
За чтением вы проводили ночи
И даже плакали. Загадочный магнит
В казалось бы сухом и скучном тексте
Был тщательно упрятан и сокрыт,
Как клад зарыт на пыльном, видном месте,
Как сладостный орех зарыт в безвкусном тесте.
Да, долго я его растил, гранил, лелеял,
Полировал, чеканил, уточнял,
Я ямку рыл и тайно зерна сеял.
И собственной мечтою поливал.
И наконец среди толпы невзрачной
Средь разговоров, навевавших скуку,
Средь длинных псов, свернувшихся под лавкой,
Средь публики крикливой, серой, мрачной,
Среди многоречивых, бородатых,
Среди простых, застенчивых убийц,
Средь террористов рослых, прыщеватых,
Среди увядших некрасивых лиц,
Мелькнуло вдруг загадочно-простое
Лицо ребенка. Странный, ясный взгляд
Глаз широко расставленных терялся
Вдали, он плыл вперед, назад,
Он в прошлое живое возвращался,
И безошибочно, уверенно, спокойно
Меня там находил -- мое лицо.
За ним в петле висит убогий брат
На небесах -- солярное кольцо.
А рядом с ним, вся в траурном уборе,
Рыдающая мать. Ее он делит горе,
Но далеко его спокойный взгляд!
Мы встретились глазами. Он кивнул.
Тужурку гимназиста застегнул.
И голос прозвучал негромко, ясно,
И звон металла отозвался в нем:
"Не плачь. Не плачь! Грядущее прекрасно,
Но мы к нему пойдем другим путем!"
(Как Петр у Пушкина, грядущее прекрасно,
Но лик его ужасен.
О, как ужасен!)
Другим путем! Всегда "другим путем"!
То есть моей загадочной тропинкой,
Что вьется берегом, минуя водоем,
Что камешком блеснет иль влажной спинкой
Стремительного юркого зверька, --
Вот пробежал беззвучно, скрылся в пуще,
Тропинка влажная хранит еще пока
След этих лапок -- дальше гуще, гуще
Ложатся тени, буйная трава
Теснит дорожку натиском зеленым,
Дрожат соцветия, лиловые сперва,
Затем они краснеют. Углубленным
Внимательным зрачком заметь тех птиц,
Сидящих там, на ветках отдаленных,
Двух голубков, воркующих, влюбленных,
Дерущихся разряженных синиц,
И зимородка спесь! И воронов седых!
Тропиночка петляет и плетет
Затейливый узор во тьму лесную,
Над ней свершает бреющий полет
Большая стрекоза. И путника почуяв,
Вороны сонные взлетают тяжело,
Вздымая крыльями застывший влажный воздух.
Недавно дождь прошел. Мерцают как стекло
Слепые лужи, обещая отдых
И мирный сон -- мы все так мало спали!
Проходим кладбищем, запущенным и диким,
Все заросло, надгробия упали,
Древесные кресты трухлявым прахом стали,
На преющей коре следы неясных сил,
И ягоды сладчайшей земляники
Мы здесь срываем с тающих могил.
А дальше все темней, темней, темней
И глуше. Глуше. Но -- постой!
Засомневался ты? Да, вот он -- "путь другой".
Да, здесь под слоем мха на животах камней
Трактаты врезаны. И в трещинках скрываясь,
Имен зачаточных тихонько зреет завязь
Средь плесени.
Да, это путь для одиноких душ,
Любителей отгадывать загадки
И вновь загадывать. Затейники так гадки,
Но мы просты, как блюдо спелых груш,
Как хлеб, намазанный приличным слоем масла,
Как свечка тонкая, что на ветру погасла,
Как только что построенный сарай,
Как прелая тропинка в дальний рай.
Россию видел я в туманах и во мгле,
И в северных снегах, и с думой на челе
Высоком, словно туча. И она
Оттуда, издали, все улыбалась мне --
Довольно грустная и страшная страна.
Ее улыбка соткана из мглы,
Истерик, гула, ужаса. Опять
Она кивает! А вокруг главы
Какой-то круг. Кокошник или нимб?
Она похожа на огромный лимб,
Преддверье ада, темный рай теней --
Умом ее конечно не понять,
Да и не нужно размышлять о ней!
Она глядела в яркий, дивный сон,
И нежный лик мечтой был освещен,
Но гулок, тверд был тяжкий медный шаг.
И в сумрачных зрачках метался красный флаг!
И витязь юный, призрак молодой,
Точнее древний, древний, словно Нил,
Ее обнял тяжелою рукой,
К ней голову большую наклонил,
Поцеловал в нежнейшие уста
И тихо прошептал: "Забудь, забудь Христа!"
То был лишь временный, ночной, прозрачный сон,
И с утренней зарей дрожит и меркнет он,
Ведь день настал -- и солнечен, и трезв --
По водам луч бежит, как меч, сверкая в них,
И я вернулся, вновь силен и резв,
Вернулся я, твой вечный, твой жених!"
И крестик тонкий, крестик золотой,
Цепочку расстегнув, снимает он с нее.
Он с шеи белой тяжкою рукой
Снял и отбросил в бурое жнивье.
И крестик тот упал меж колосков
На землю мягкую. И легкий ветерок
Над ним качал сухие стебельки.
А время шло. И стало холодней.
И улетели птицы. Иней тонкий
Серебряные нити на земле
Раскинул. Тихий, ломкий
Налет прозрачный комья мерзлой почвы
Стал покрывать. И крестик бы замерз,
Но мышка полевая вдруг пришла
И крестик в острых зубках унесла.
Как некогда Дюймовочка из сказки,
Прелестная, но крошечная детка,
Лишенная тепла, еды и ласки,
(На ней была из листика горжетка
Осеннего и ветхого весьма) --
Она на поле голом замерзала,
Но мышку полевую повстречала,
И та ее от гибели спасла
И в норке приютила. Так и крестик
Наш спасся от ужасной белой стужи
И скромно в норке поселился вместе
С мышами теплыми. Могло бы быть и хуже,
Но он был отогрет и до поры
Уснул в уюте спрятанной норы.
А между тем два воина сошлись.
И гул пошел землею той. Один
Был бледной дамы верный паладин
Весь бел как снег, в пыли минувших лет
Потоки слез из глаз его лились,
А на челе сверкало слово "нет".
Он слово "нет" поставил в свой девиз
И тем себя обрек на жизнь теней --
Так ветер входит в дыры ветхих риз,
Сметает хвои слой с уснувших пней.
Другой же был из красной глины слит:
Лицо почти без черт, коричневых ланит
Ни плач, ни смех не тронули ни раз.
И рот недвижен, замкнут навсегда,
Но в тягостных зрачках есть нега, есть экстаз,
И на высоком лбу зияет слово "Да"!
Его увидев, я захохотал.
Быть может, неуместен был тот смех,
Быть может, это был немножко грех.
Но я его в себе не удержал --
Я долго бился, долго трепетал
И хлопал ластами бессильно по бокам,
И в клетчатых штанах ногами стрекотал.
А он, мое дитя родное,
Безумное, убогое дитя,
Ударил дланью тяжкою, большою --
Противник рухнул, сумрачно кряхтя,
Чуть вздрогнул. Умер. Белые снежинки
Покрыли быстро строй его одежд,
Заполнили глубокие морщинки,
Исхоженные мелкие тропинки,
Следы неясные несбывшихся надежд
И ужаса.
И пляски синеголовых гигантов
Не кончались до тусклого рассвета.
В зарослях можжевельника густого
Из треснутых ваз сочилась темная влага,
За оградой, за оградой,
Что белела забытою лентою среди густых сумерек.
Боже, где же потерянный крестик?
Весь сад исходила я, заглянула под пни,
Под покосившуюся беседку,
Где тогда среди цветущей сирени,
Среди головокружения, среди страниц летней книги,
Среди дальнего стука мячиков
Мы сидели и смотрели, как в небесах,
В небесах, Господи, в твоем высоком погосте
Проступали белые манные кресты
Словно манна, словно каша, от которой тошнило в детстве,
Как романы Манна -- толстые, в коричневых переплетах
С длинными обсуждениями,
С мягкими смертями и обильной сытной едой...
Прошелестела детская рессорная коляска за живым забором.
Листья-сумасброды, обнажая серебристые изнанки,
Путались в сверкающих спицах.
Я тогда не думала, совсем не знала,
Щурясь сквозь прозрачные ресницы
На кресты небесных атлетов,
Густо-синих с головы до ногтей,
Что мой собственный нательный маленький
Материальный до безудержных слез
Золотой крестик на тонкой цепочке,
Данный мне при крещении,
Что и он оставит меня,
Оставит, как те другие,
Как гости, уезжавшие в рессорных колясках, уезжавшие верхами,
Позвякивая стременами,
Быстро улыбаясь на скаку,
Как воспоминания, похожие на сухие метелки ковыля,
Раскрашенные лиловою акварелью,
Как третья симфония Маллера,
Слушая которую я всегда плакала,
Как белые кошки,
Ласковые твари, лизавшие мои слезы розовыми язычками
И находившими эту горькую влагу более питательной, чем молоко,
Как письма, которые я разбирала сидя на полу,
Брала их в руки и бросала.
Как задумчивые священники-коллекционеры бабочек,
Как ночные фейерверки и словесные игры...
Неужели все это прошло?
Я обошла весь сад, обыскала все уголки,
Заросшие высокой злорадной зеленью.
В черное болотце смотрелись облупленные изваяния,
Качели висели как самоубийца,
И все же здесь было еще прекрасно
Еще цвели робкие анемоны на запущенных клумбах,
Еще в искусственных гротах сохранились кое-где
Полупустые алтари для полуденных медитаций
С разноцветными камешками
И стеклянными статуэтками святых,
Я наклонялась над замшелыми скамейками.
Я шарила под деревянными столиками,
Но крестика нигде не нашла.
Не нашла.
Да, быстро минуло то ласковое лето...
И вот уже нахохленная осень
Воссела на карнизе нашей жизни
Как будто бы больной и мрачный голубь,
Что притулился у окна квартиры
И смотрит внутрь -- печальным, красноватым,
Нечеловеческим и утомленным взглядом.
Недавно выпал первый снег. И темный воздух
Над этим снегом ходит, как чужой.
Худой как палка, наклонясь над чаем,
Один в квартире, курит дядя Коля.
Вокруг него молчащие буфеты.
Какие-то в них тряпки, чашки, блюдца,
Какие-то унылые предметы...
А впрочем, там нормальные все вещи:
Хрустальные граненые бокалы,
Спортивный вымпел, чешские стаканы
И прочее. Но тяжко дяде Коле.
Вот резко тушит сигарету в чашке.
Встает, идет к окну. Его рука
Рвет ворот клетчатой, застиранной рубашки.
Так душно! Душно! Все. Уже нельзя
Сносить слепую духоту юдольной жизни!
Самоубийство! Распахнул окно --
Внизу, во тьме, какой-то снег и лавки,
Полузаснеженные крыши двух машин,
Железный гриб и дохлые качели,
И черные прогалины земли...
Его глаза решимостью полны.
Обычный инженер, но если смерти
Возжаждало истерзанное сердце,
То не нужна смекалка инженеру,
Уже не нужен ни чертеж, ни разум --
Величие предсмертное его
Венчает маленькой, но тяжкою короной,
Которая отчаяньем зовется.
Вот подоконник. На него когда-то
Той женщины изнеженные локти
Рассеянно, лениво опирались.
Теперь же он стоит на нем один.
Как высоко и холодно. Пускай.
Ведь человек рожден, как камень, для паденья.
Все. Только шаг вперед. Восьмой этаж.
Наверное достаточно, чтоб быстро
Забыть о жизни. Все. Прощайте, вещи.
Зачем-то напоследок он решил
Перекреститься. Поднял руку. Но она
Застыла в воздухе...
Близ самых глаз его, по узкому карнизу,
Бежал на тонких ножках юркий крестик
Самостоятельный. Стремглав. На тонких ножках.
Сверкнул и юркнул за балкон соседский.
Отчаянье не терпит изумленья:
Вот дядя Коля охнул и присел,
Шепнув "Ой, блядь!", ступил назад и спрыгнул
Обратно в комнату, с которою собрался
Навеки распрощаться. Встал как столб.
Затем шагнул к столу. Уселся в кресло.
Взглянул на чашку с крошечным окурком --
Над ним еще витал дымок. "Последний..."
Рука сама достала зажигалку
И сигарету новую из пачки
Отточенным движеньем извлекла.
Щелчок. Искра. Затяжка. Едкий дым.
Нет, не последняя...
И вот пришла весна, и зазвучали,
Как лед о паперть, птичьи голоса.
В алмазах перепончатого наста
(Что словно ювелирный нетопырь
Связал бесформенные земляные комья
В одну гигантскую святую диадему)
Образовались ломкие окошки
И подтекания. И истончился сон.
Сугробы охнули, как охает старик,
Которого ногами бьют подростки
В зеленой подворотне. Номер первый,
Тот ослепительный огромный чемпион,
Который ежеутренне справляет
На небесах свой искренний триумф,
Стал жаркие лучи бросать на землю.
Еще недавно эти же лучи
Так деликатно в белый снег ложились,
Не повреждая белизны стеклянной
Лишь украшая синими тенями
И искрами слепящими ее...
А что теперь? Осунулись снега.
Все посерело, потекло, просело.
В туннелях вздрогнули парчовые кроты
И пробудились вдруг от мрака снов
К другому мраку -- жизни и труда.
В ходы земли проникла талая вода,
Засуетились мыши. Номер первый
В их глазках-бусинках зажег простые блики.
И крестик вздрогнул. Вздрогнул и ожил.
Стряхнул с металла негу зимних снов.
Что снится крестикам нательным
Во время зимней спячки? Тело.
Ключица женская, обтянутая нежной
Полупрозрачной кожей. Легкий жар.
Задумчивая шея, грудь, цепочка...
И, может быть, любовной страстной ночи
Безумие, которому он был
Свидетелем случайным, непричастным,
Затерянным меж двух горячих тел,
Блуждающим по их нагим изгибам --
Бесстрастный странник по ландшафтам страсти,
Случайный посетитель жарких ртов,
Открытых в ожиданье поцелуя...
Теперь тепло земли, тепло весны,
Простор полей и звон ручьев весенних
Сменили жар людских огромных тел.
Побеги, корни, зерна -- все ожило.
Мир роста развернулся под землей --
Растут и вверх и вниз, внутрь и вовне растут,
Растут сквозь все и даже сквозь себя
В экстазе торопливо прорастают.
И крестик вышел на поверхность. Свет.
Самостоятельность. Движенье. Ножки тонкие
Вместо тюремной ласковой цепочки
Как знак свободы новой отрасли.
Он побежал. Бежит. И все быстрее.
Мелькают мимо трупы колосков,
Могилы воскресающей травы...
И все быстрее. Сладкий ветер.
О сладость ветра! Сладость ветра!
Свободной скорости святое упоенье!
Быстрей! Быстрей! Быстрей! Быстрей!
Они бегут. Их много. И мелькают ножки.
Они бегут и на бегу сверкают.
Все -- крестики. Порвавшие цепочки,
Сбежавшие с капризных, теплых тел,
Прошедшие сквозь лед, навоз и уголь,
Сквозь нефть и ртуть, сквозь воск и древесину,
Сквозь мед, отбросы, шерсть и кокаин,
Сквозь алюминий, сквозь ковры и сало...
Теперь лишь бег, смех и сухие тропы.
Свобода! И любовь к свободе!
Огромный мир бескрайности своей
Уж не скрывает -- он устал скрывать бескрайность.
Свобода! И любовь к свободе!
Я так люблю тебя, как оранжевый флажок
Свою железную дорогу любит.
Не знаю точно о флажке. Быть может,
Что он не любит никого. Но я
Люблю тебя так сильно, что флажки.
Дороги, рельсы, поезда, сторожки,
Ремонтники в оранжевых жилетах,
А также море, лодки, корабли --
Все это под давлением любви
В одну секунду может сжаться
В один гранитный шарик, что тебе
Я подарить смогу.
Уехать надо бы. Наш мир как островок.
Но остров есть, где жил холодный смех,
Где до сих пор отчаянье -- не грех,
Где дождь -- религия, а боль как поясок.
Собрать багаж. Отныне жить далече.
И там себя сковать незнаньем чуждой речи,
Неловкостью, акцентом, бородой,
Насмешливостью девы молодой.
Здравствуй, лондонский туман
И девичий тонкий стан!
От моих горячих ручек
Вспыхнут щечки моих внучек!
London! City of the rain!
You will clean my poor brain!
My little doll is done from steel,
And I remember why.
Becouse the only steel reminds
The colour of your eye.
And smell of steel is very nice,
Like flying over snow.
I hide my little heavy doll
That I'm afraid to show.
I don't want continue the game
The shamefull play which has been done for flame
I will escape to shadows of the cave,
There is a doll inside. My doll. It must be saved.
Around us are thousands lifes,
All over us are thousands skyes,
The frozen glass. And slightly melting snow...
The rotten grass is going to grow.
I did create this world -- collapsed as a star,
A tired star -- old, cold, and very far.
We now are gone. But traces of that lights
will follow you -- through nightmares and the nights.
Your scarlett lips are wet with autumn fog:
It kissed you tenderly, as children kissed the dog.
The voise of duck. And gloomy eyes of kings,
Expecting us with platin shiny rings.
I am too old. My beard is too long.
I have been yew. And, may be, that was wrong.
Good buy, my kids. I'll see you very soon.
When moon will turn to cheese. And cheese will be the moon.
Remember then your poor Karl Marx,
As well as sphinxes, lightninds and the sharks,
Gods and the monsters, mushrooms on the trees...
Remember me. But don't disturb me, please.
My life in London will be sleepy, sweet.
I will be fat. And guess, what I will eat?
But better I will keep the secret of my meel.
You know what to think. You know how to feel.
1986
История потерянной куклы
Верочка, Верочка,
Не ходи, не ходи
Полоскать свое розовое платье.
Мамочка, мамочка,
Я должна, я должна
Полоскать свое розовое платье!
Верочка, Верочка,
Не ходи, не ходи
Полоскать свое розовое платье.
Мамочка, мамочка,
Я должна, я должна
Полоскать свое розовое платье!
У Липочки был хорошенький, белый котеночек Мурка. Липочка его очень
любила, и Мурка, должно быть, понимал это, потому что в свою очередь как
нельзя больше привязался к девочке, всюду бегал за ней, знал ее голос и
вообще делал почти все, что она заставляла.
-- Лучше моего Мурки ничего быть не может, -- часто повторяла девочка
подругам и начинала рассказывать, как проводит свободные часы в обществе
белого котенка. Но вот однажды случилось совершенно неожиданное
обстоятельство, после которого Липочка не только разлюбила Мурку, но даже
долго-долго к себе на глаза не пускала.
Дело было летом; выбежала Липочка на крыльцо, которое выходило на
черный дворик, где кухарка Анисья всегда кормила уток, кур и прочих домашних
птиц.
Мурка по обыкновению последовал за Липочкою. Сев на завалинку, он
несколько минут спокойно смотрел на собравшуюся ватагу, но затем вдруг
навострил уши, моментально спрыгнул на дворик и давай гоняться за всеми в
разные стороны. Поднялись шум, беготня, крик...
-- Что случилось? -- спросила прибежавшая из кухни Анисья.
Липочка вместо ответа громко рассмеялась, указывая на Мурку, который,
подняв хвост трубой, продолжал весело гоняться за птицами.
-- Вот я задам тебе, противный, погоди, -- погрозила Анисья и,
замахнувшись полотенцем, хотела ударить Мурку, но Липочка удержала ее.
-- Что ты, Анисья, как можно! -- сказала она. -- Ему больно будет.
-- Так и надо, барышня, чтоб больно было...
-- Нет, нет, нельзя...
-- Зачем он, плутяга, пугает моих птиц?
И Анисья все-таки угостила котенка порядочным шлепком по спине.
Мурка с видимым неудовольствием вернулся на завалинку. На следующее
утро повторилось то же самое. Анисья рассердилась еще больше и на этот
раз хотела уже вздуть котенка розгою, Липочка, однако, опять не допустила;
таким образом защищала она его чуть не каждый день, до тех пор, пока,
однажды, не задушил он на глазах у всех хорошенького, желтенького
цыпленочка.
О, тогда Липочка ужасно вознегодовала и рассердилась на Мурку, называя
его гадким, противным; целый месяц не пускала в свою комнату и раз навсегда
запретила выбегать на черный дворик. Мурка, конечно, не мог понять
сделанного запрещения и при всяком удобном случае рвался позабавиться с
птицами, но Анисья сторожила очень внимательно; как только видела она, что
котенок направляется к черному дворику, тотчас брала розгу и шлепала его ею
по пушистой спине.
Мурка громко, жалобно мяукал, вероятно надеясь, что Липочка придет ему
на помощь, но Липочка не только не приходила, а еще порою, слыша из комнаты
голос бывшего любимца, приказывала кухарке хорошенько расправляться с ним,
для того, чтобы он не вздумал снова сделать вреда маленьким, беззащитным
цыплятам.
Раз от разу Анисья все сильнее и сильнее наказывала Мурку розгой.
Делала она это обычно на лестнице, недалеко от Липочкиной комнаты.
Постепенно Липочка даже привыкла слышать каждый день жалобное Муркино
мяуканье и шлепки розги, и наставительное покрикивание Анисьи:
"Вот ужо тебе, негодник, вот тебе..."
И вот однажды Липочка обратила внимание, что на лестнице противу
обыкновения воцарилась какая-то странная тишина, хотя только что слышались
шаги и кряхтенье Анисьи, и слышалось, как она подзывает к себе котенка,
чтобы в очередной раз хорошенько вздуть его. Липочка отвлеклась от красивой
фарфоровой куклы с закрывающимися глазками, кото-рою как раз занималась, и
внимательно прислушалась к звукам в доме. Было совсем тихо. Липочкины
родители незадолго до того велели заложить коляску и уехали в гости.
-- Анисья, -- позвала Липочка.
Никто не откликнулся.
Липочка отложила куклу, встала, тихонько отворила дверь и вышла на
лестницу. Внизу она сразу увидела Анисью, которая сидела на табурете,
повернувшись к ней спиною.
-- Анисья, что ж ты не откликаешься? -- спросила Липочка.
Анисья покачала немного головой, но ничего не ответила. Это показалось
несколько странным девочке. Она спустилась по лестнице и тронула сидящую
Анисью за плечо. Та ничего. Липочка заглянула ей в лицо. Старуха покраснела,
взгляд ее направился куда-то в другую сторону, и она стала -- как будто ни в
чем не бывало -- завертывать в белый платок какой-то предмет, лежащий у нее
на коленях.
-- Что это у тебя? -- полюбопытствовала Липочка.
Анисья только махнула рукой.
Все это настолько встревожило девочку, что она принялась расспрашивать
Анисью, что случилось, и принуждать ее к какому-то объяснению ее странного
поведения. Однако та сначала только отнекивалась, давала какие-то уклончивые
ответы, вроде как "молоко выкипело" или "в церкви пожар случился" или, того
хуже, "сундук на сосне повесился". Сообразительная Липочка, однако, видела,
что ту вовсе не охота к шуткам принуждала давать такие уклончивые
объяснения. Внимательно вглядываясь своими пытливыми глазами в морщинистое
лицо кухарки, Липочка все пуще теребила ее. Наконец, старуха вовсе закрыла
глаза, пробормотала что-то вроде "правда правду ножками к смерти
защекочет...", прибавила еще несколько смутных народных поговорок и только
после этого с большой видимой неохотой развязала лежавший у нее на коленях
платок и показала Липочке, что в нем находится.
К большому удивлению той, это оказалась большая, размером с изрядное
блюдо, золотая звезда, толщиною не меньше двух пальцев.
-- Откуда это у тебя? -- воскликнула девочка.
-- Откуда-оттудова, от белой шкурочки, от кошачьих слезок, от
лапок-коготков, -- пробормотала старуха.
Липочка взяла в руки тяжелую звезду и увидела, что в центре ее,
красивыми, тонко вырезанными буквами, написано такое стихотворение:
И в последней обители соли и слез
Не забудь ты меня никогда, никогда,
И в садах, где прозрачные крылья стрекоз,
Где зеленая стонет вода.
Под мостками из бледных страданий моих
Белоснежный твой зонтик мелькнет вдалеке,
Пыль взовьется клубочком, и трепетный стих
Словно черная елочка бьется в песке.
Словно черная палочка, свет золотой
В небесах темно-синих зажжется опять,
В небесах черно-синих прощальной звездой,
Чтобы снова пищать и рыдать.
20 сентября 1987
2. Чудеса -- да и только!
Леночке, в день ангела, тетя Маша привезла превосходную большую куклу,
с чудесными белокурыми локонами, голубыми глазами и одетую в такое нарядное
розовое шелковое платье, что ей могли позавидовать не только все соседские
куклы, но даже и их хозяйки, то есть, говоря иначе, девочки, подруги Лены.
Куклу эту Леночка особенно полюбила и не расставалась с ней ни днем, ни
ночью.
Однажды, впрочем, случилось Леночке забыть ее в саду. Случилось это
потому, что к ней неожиданно приехала ее маленькая кузина Мэри, с которой
Леночка не виделась очень давно. Она так обрадовалась кузине, что оставила
свою Додо -- так звала она куклу -- на садовой скамейке под деревом. Потом
куклы хватились, но так и не нашли в тот день -- она опрокинулась со
скамейки и упала в канаву, которую прикрывала от взглядов густая заросль.
Только через несколько дней с трудом удалось ее разыскать. Но облик ее стал
ужасен. В те ночи шли сплошные дожди, и Додо размочило так, что на нее было
страшно и жалко смотреть. Леночка пришла в отчаяние и горько расплакалась.
Маме стало жаль бедную девочку, и она решилась помочь ее беде.
-- Отдай мне свою Додо, -- сказала она. -- Додо больная, я ее вылечу.
Сама подумай: какие холодные, дождливые были ночи. Додочка твоя
прозябла, да и захворала. Взгляни -- на ней нет лица.
Леночка взглянула с недоверием.
-- Давай, давай, вылечу непременно, и через несколько дней ты увидишь
ее опять такою же, какой она была прежде.
Леночка отдала куклу матери и с нетерпением ожидала ее выздоровления.
Бедняжка, видимо, скучала... перестала бегать, не играла в игрушки и
втихомолку даже плакала. Мама меж тем отдала куклу для починки в игрушечный
магазин. Купец обещал починить ее заново, но только предупредил, что
придется снять голову и заменить другою, причем, к несчастью, не мог
подобрать белокурый парик.
Делать нечего, пришлось выбрать черный. Но когда кукла была доставлена
обратно Леночкиной маме, то последняя задумалась, каким образом доказать
маленькой девочке, что эта кукла и есть ее горячо любимая Додо.
-- Скажи, что во время лечения ей мазали голову каким-то черным
составом, отчего волосы ее сделались черными, -- посоветовал отец Леночки.
Мама послушалась его совета и, отдавая куклу Леночке, слово в слово
повторила вышесказанное. Девочка в первую минуту несколько засомневалась,
тем более что и глаза у куклы оказались не голубые, а черные, но затем
мало-помалу успокоилась и только старушке-няне своей выразила удивление по
поводу силы черного лекарства, которым мазали голову куклы.
-- Чудеса -- да и только! -- прищурилась старая няня, любуясь новою
головкой Додо.
-- Бедная ты моя Додочка! -- обратилась Лена к кукле, -- ты так долго
хворала, и все по моей вине. Прости, дорогая, больше я никогда не оставлю
тебя одну ночевать в темном саду под ужасным ночным дождем, и вообще буду
беречь от всяких случайностей!..
Но, к сожалению, уберечь Додо от всяких случайностей Леночке не
Удалось. Вскоре любимую куклу постигло новое несчастье.
Сережа, старший брат Леночки, ездил по комнатам на своем трехколесном
велосипеде. Додо лежала на полу. Он не заметил ее, наехал прямо на голову и
-- хруп -- моментально раздавил и сплюснул.
Леночка, конечно, пришла в отчаяние пуще прежнего. Она совсем
побледнела, похудела и почти перестала есть, полагая, что вторично вылечить
Додо невозможно. Но мама опять успокоила свою девочку, сказав, что снова
отправит куклу в лазарет и что ей, наверное, там помогут.
Куклу понесли в тот же игрушечный магазин, где купец на этот раз
подыскал для нее головку с белокурым париком, точь-в-точь такую, как была
сначала. Но пока эту голову приделывали к туловищу, прошло около недели.
Леночка, полагая, что ее любимица лежит в лазарете, так сильно скучала
и плакала, что совершенно уже ничего не могла кушать, дурно спала ночи и
страшно похудела.
Наконец, куклу принесли из магазина, отделанную опять совершенно
заново. Надо было видеть радость Леночки.
-- Няня, милая, дорогая! -- обратилась она к старой няне, захлебываясь
от сильного волнения, -- посмотри, волосы и глазки моей Додо стали опять
точно такими же, как были прежде, ведь это удивительно!..
-- Чудеса--да и только! -- снова повторила няня, едва сдерживая улыбку.
-- Как ты думаешь, почему так случилось?
-- Не знаю, крошка, может быть, ей опять мазали голову каким-нибудь
составом, от которого волосы из черных стали белокурыми.
Леночка поверила, окончательно успокоилась, полюбила Додо еще больше и
уже не подвергала никаким случайностям. Когда же Леночка выросла настолько,
что могла понимать вещи, как они есть на самом деле, то мама, конечно,
объяснила ей, что Додо никогда не была в лазарете, что ее просто отправляли
в игрушечный магазин, где купец каждый раз приставлял ей новую голову, а
Леночке все эти сказки рассказывали для того, чтобы успокоить ее.
-- Какая я была тогда глупенькая! -- отвечала девочка, смеясь, с
любовью посматривая на свою ненаглядную куклу. И только няня, незаметно
притулившаяся в углу, покачивала головой, загадочно щурилась и повторяла:
-- Чудеса -- да и только!
22 сентября 1987
-- Дорогая мамочка, прости Женю, не сердись на нее, ведь она взяла
только половинку самого маленького яблочка! -- просила жалобным, тоскливым
голосом пятилетняя Наденька за свою младшую сестренку, которую она очень
любила и которая теперь по приказанию матери стояла в углу, причем, конечно,
горько плакала.
Вера Ивановна (так звали мать Жени и Наденьки) ничего не отвечала и,
даже не поворачивая головы, продолжала начатую работу.
-- Один-то раз, мамочка, ведь тебе ничего не стоит простить. Посмотри,
как она плачет! -- продолжала Наденька упрашивать маму.
-- Ах, Наденька, какая ты, право, глупенькая! -- отозвалась наконец
мама. -- Ты просишь за Женю, а говоришь таким образом, точно мне доставляет
удовольствие кого-нибудь наказывать. Пойми, что пол-яблочка ничего не стоит
и что мне его нисколько не жалко, но я хочу доказать Жене, что поступок ее
сам по себе очень нехорош и неблаговиден.
-- В чем же, мамочка?
-- Неужели ты не понимаешь?
-- Право, не понимаю. Ведь ты часто сама даешь ей яблоков, и не только
по половинке, а иногда даже по два, по три: в особенности когда они такие
маленькие, как то, от которого она отрезала.
-- Это совсем другое дело, когда я даю. Иначе -- когда она берет сама
украдкой, да еще старается утаить. Утаить то, что берешь украдкой, все равно
что украсть!
Наденька слушала слова матери с большим вниманием и затем, когда
последняя вышла из комнаты, чтобы распорядиться обедом, поспешно подбежала к
сестренке, наклонилась к ней и тихо прошептала:
-- Женя! Зачем ты взяла яблоко без спроса?
Женя заплакала еще больше.
-- Мне тяжело видеть твои слезы, Женя! -- продолжала Наденька, стараясь
успокоить сестру. -- Не плачь. Сознайся!
-- Да в чем сознаться-то?
-- В том, зачем без спроса взяла яблоко и, главное, зачем потом не
сказала!
-- Взяла я его просто так, Наденька, сама не знаю для чего... Захотела,
ну и взяла!..
-- Да, барышня, нехорошо, нехорошо! -- сказала проходившая мимо
горничная. -- Такие дела не доведут до добра!
-- Что это значит: не доведут до добра? -- с любопытством спросила
Женя.
-- То, что сохрани Бог брать что-нибудь потихоньку -- это может
привести к дурному!
-- Да к чему же, к чему? -- допытывались обе девочки, но горничная
только многозначительно покачала головой и пошла дальше.
Сестры никак не могли ясно понять значение сделанного проступка и,
молча глядя одна на другую, задумались.
-- Знаешь что? -- заговорила наконец Наденька после довольно
продолжительного молчания. -- Пойдем к маме, спросим, чтобы она пояснила
слова горничной Агаши.
-- Пойдем! -- согласилась Женя и, взяв за руку старшую сестру,
отправилась к матери.
-- Мама, милая, прости, я больше никогда не буду ничего брать без
спроса! -- обратилась к ней Женя, едва сдерживая слезы. -- И потом, объясни
пожалуйста, что значат слова Агаши: "Это может привести к дурному", то есть
именно то, что я взяла без спросу маленький кусочек яблочка.
-- Вот видишь ли, дружок! -- отвечала мама, взяв Женю за руку и присев
с ней на диван. -- Взять кусочек яблока тихонько -- пустяки, положим, но это
может привести к последствиям довольно серьезным.
-- К каким, к каким? -- воскликнули девочки удивленно.
Мама глубоко задумалась. А потом проговорила, запинаясь, несколько даже
неуверенно: -- Ну, например, может так случиться, что ты, Женя, раздуешься
наподобие... огромного шара, а потом вдруг исчезнешь, как будто... как будто
тебя и не было вовсе никогда.
Девочки изумленно вздохнули.
-- Теперь ты, значит, поняла, что дело заключается не в кусочке яблока?
Женя в знак согласия утвердительно кивнула головой. Она все еще не
могла опомниться после слов, сказанных матерью. Чтобы немного успокоить ее,
мама расцеловала заплаканное лицо дочери.
-- Ну, а теперь беги играть в сад вместе с Наденькой, и будем
надеяться, что ничего плохого не произойдет.
Женя и Наденька весело побежали в сад, чтобы набрать цветов и поставить
их в вазы, так как к обеду должны были приехать гости. Они долго играли в
саду, бегали между деревьями, пытались поймать красивую желтую бабочку,
кружившуюся над кустом, так что когда они наконец вернулись к дому с
охапками свежесрезанных цветов, гости уже сидели за столом, на увитой диким
виноградом веранде.
-- Женя! Надя! -- донесся голос матери. -- Идите скорей, я хочу
представить вас князю.
Девочек подвели к высокому мужчине с длинной раздвоенной бородой,
одетому в белый костюм.
-- Какие прелестные крошки! -- воскликнул князь, наклоняясь. --
Словно бы два маленьких эльфа впорхнули сюда с букетами цветов. Не
правда ли? Остальные гости закивали.
Князь собрался было потрепать Женю по щеке, он протянул к ней свою
длиннопалую руку, но случайно задел ее шею острым холеным ногтем, который
был у него на мизинце. В то же мгновение раздался оглушительный хлопок -- и
девочка исчезла.
Все гости повскакали из кресел. На дощатом полу веранды, среди
рассыпавшихся цветов, нашли только ленточку и маленький ледяной крестик,
который через несколько минут растаял.
24 сентября 1987
Лед в снегу
Приложение к тексту
"Пассо и детриумфация"
Текст "Пассо и детриумфация" был первым текстом, написанным мною
целиком "в жанре дискурса". Хотя я написал этот текст десять лет тому назад,
он, несмотря на свой полупародийный характер, до сих пор остается для меня
источником беспокойства. Видимо, потому я с тех пор несколько раз его
дополнял и переделывал. Отношения с вещами всегда были для меня более
проблематичными и более мучительными, чем отношения с людьми, животными или
растениями. "Неживое" заставляло меня страдать.
Примеры из "Большой Литературы", которыми насыщен текст "Пассо и
детриумфации", выстраиваются подчеркнуто в "хрестоматийный" ряд: Кафка,
Томас Манн, Борхес, Пруст. Однако два писателя, непосредственно повлиявших
на появление этого текста, находятся, в общем-то, за пределами "Большой
Литературы" -- один размещается в области литературы для детей, другой -- в
области философии. Эти двое -- Андерсен и Хайдеггер. Андерсену довелось
сыграть исключительную роль в деле создания романтического анимационного
канона. Его перо было чем-то вроде шприца, с помощью которого романтизм
экспериментировал с "эликсирами" анимации. Андерсен создал жанр "биографий
предметов". "История бутылочного горлышка", "Старый фонарь", "Старый дом",
"Пастушка и трубочист", "Стойкий оловянный солдатик", "Снеговик", "Ель"
составляют канонический корпус этого жанра. Когда эти тексты возникли,
тогда, можно сказать, уже возник и Дисней: была намечена психоделическая
программа двадцатого века. В "Снеговике" вещь-персонаж (снеговик) состоит из
вещей-инструментов, которые временно оторваны от исполнения своих
непосредственных функций и "одолжены" снеговику для статичных нужд его
краткой жизни. Ведро, метла, кочерга -- все они составляют структуру
снеговика, его "скелет". Остальное -- тающая плоть, снег. Снеговик
структурирован знаками собственного конца и уничтожения, также как и
человек: человеческий скелет является не знаком жизни тела (хотя без него
эта жизнь была бы немыслима), но знаком его конца и смерти. Кочергой мешают
раскаленные угли, от жара которых снеговик тает. Но он влюблен в эти угли, в
жар печки, так как кочерга это его позвоночник, угольки -- его глаза,
неотрывно глядящие в огонь. Метла сметает мусор, в том числе и снег, который
для метлы -- тоже мусор. Метла дана снеговику, чтобы он смел себя самого. В
ведро, которое есть шлем, увенчивающий голову снеговика, эта голова и
остальные части снежного тела могут быть впоследствии слиты в виде грязной
воды. Это ведро можно понимать и как помойное ведро. Если перевернуть
снеговика, то окажется, что он уже, всем своим громоздким телом, выброшен на
помойку. И только морковка, этот фаллический флажок, этот сигнал,
единственное яркое пятно на черно-белом теле снеговика, разделит его судьбу
-- будет гнить параллельно его таянию. Оранжевый цвет этой морковки следует,
по-видимому, понимать как намек на традиционный "флер д'оранж", увенчивающий
голову белоснежной невесты, удостоверяющий ее невинность. Снеговик
девственен до весны.
Все "живые вещи" Андерсена это self-distructive objects. Они предельно
экономичны и предельно экологичны. Можно сказать, они воплощают в себе образ
"идеальной вещи", созданный западной экономикой и западной экологией. Даже
уже став мусором, они все еще продолжают вбирать себя в себя, сжиматься,
стирать и "залечивать" последствия своего пребывания в мире. Вещи оживляли
во все времена. В частности, в сказках. Однако романтическая сказка (и
Андерсен в первую очередь) впервые стала оживлять вещи не для того, чтобы
они жили, а для того, чтобы они умерли: испытали смерть, поскольку только
живое (или "анимированное") существо может умереть. Повествование Андерсена
конструируется при помощи разрыва между временем вещей и временем слов.
Слова бессмертны, потому что их (как казалось романтикам) невозможно
анимировать, они всегда "ни живы ни мертвы". Слова -- как "умная девушка" из
сказки -- всегда в зазоре, они являются "ни голыми, ни одетыми" -- то есть
только они могут одновременно демонстрировать себя полностью, ничего не
скрывая, и при этом уклоняться от демистификации. Поэтому литература
торжествует, пропуская сквозь себя мириады умирающих вещей, и единственная
плата за это торжество -- "легкая и светлая печаль".
Хайдеггер, как и Пруст, работал с "оптическим временем" дискурса, иначе
говоря, он не просто пытался сделать это время зримым, репрезентированным,
представить его в качестве экспоната, он стремился к тому, чтобы то время,
которое он как писатель и мыслитель уделял своему философствованию, время,
взятое количественно и качественно, стало оптикой, от использования которой
читатель или слушатель не смог бы уклониться. Все его "замедления",
"реверсы" и "крупные планы" начинаются как демонстрация, как показ, однако
эти вкрадчивые начала только потому так вкрадчивы, чтобы скрыть границу, за
которой логика показа (сохраняющая хотя бы видимость нейтральности)
незаметно сменяется магической логикой власти, овладения.
В отличие от Пруста, чьим объектом была память, Хайдеггер интересовался
мышлением -- проективность (пусть даже окрашенная в почвеннические или
фундаменталистские тона) представлялась ему более многообещающей в смысле
власти, нежели импрессионистическая ретроспекция.
Как опытный шаман, Хайдеггер знал, что для того чтобы овладеть,нужно
"показать чудо", а самым надежным из чудес является временная смерть. Имея
дело с нетелесной материей речи и письма, Хайдеггер постоянно стремился к
тому, чтобы продемонстрировать смерть и воскресение некоторых идей. Однако
для того чтобы пафос этих смертей и воскресений не стал чисто литературным,
"сочинительским" пафосом, для того чтобы этот пафос стал пафосом
философским, ему приходилось инсценировать смерть и воскресение самого
своего языка, своей речи. Здесь он столкнулся со значительными трудностями.
Ведь слова, которыми он пользовался, достались ему в наследство от
романтиков, это были те самые слова, которые "ни живы, ни мертвы". Чтобы
заставить эти слова умирать и воскресать на глазах у публики, было
недостаточно публично расчленять их или же инсценировать ситуации, в которых
эти слова могли быть с мучительными усилиями мысли заново рождены на свет.
Здесь ему понадобилось призвать на помощь древний и могущественный разрыв
между словами и вещами, их "онтологическую" нестыкуемость.
"В свете вышесказанного" (как принято говорить), Хайдеггер может быть
признан противоположностью Андерсена. Андерсен оживлял вещи с помощью слов,
для того чтобы эти вещи могли умереть. Он не был "конъюнктурщиком", так как
совершал то, что доставляло ему удовольствие. Удовольствие, отливавшееся в
форму "светлой печали". Хайдеггер убивал слова с помощью вещей, чтобы затем
воскресить их -- чудесным образом, и тоже с помощью вещей. И делал он это не
для собственного удовольствия, а для того, чтобы упрочить свое положение (в
частности для того, чтобы упрочить свое положение "в себе самом").
Напряжение, которое он при этом испытывал, имело форму "серьезности" --
глубокой, неисчерпаемой, которая одна только могла компенсировать всю
рискованность его языка, умирающего (со всеми признаками распада) и затем
воскресающего вблизи вещей.
Работая над временем (а значит, и над скоростью) дискурса, Хайдеггер
почувствовал, что всякая вещь, чья материальность поставлена в "острое"
непосредственное отношение к материальности речи, становится "тормозом".
Поэтому у Хайдеггера столь велико стремление "внести вещи в текст". Именно
вещь (вместо слова) становится здесь "ни жива, ни мертва". И, будучи
таковой, она становится гарантом привилегированных торможений дискурса, этих
"чудес" отвердения речи, которыми Хайдеггер намекал на неизбежность ее
авторитетности.
В качестве примера можно привести знаменитое описание "Башмаков" Ван
Гога, удивительное своей неадекватностью -- непониманием Ван Гога, а также и
тяжелой, сомнительной некропоэтичностью в воспевании самих башмаков.
"Из темного истоптанного нутра этих башмаков неподвижно глядит на нас
упорный труд тяжело ступающих во время работы в поле ног. Тяжелая и грубая
прочность башмаков собрала в себе все упорство неспешных шагов вдоль широко
раскинувшихся и всегда одинаковых борозд, над которыми дует пронизывающий
ветер. На этой коже осталась сытая сырость почвы.
Одиночество забилось под подошвы этих башмаков. Немотствующий зов земли
отдается в этих башмаках, земли, щедро дарящей зрелость зерна, земли с
необъяснимой самоотверженностью ее залежных полей в глухое зимнее время.
Тревожная забота о будущем хлебе насущном сквозит в этих башмаках, забота,
не знающая жалоб, и радость, не ищущая слов, когда пережиты тяжелые дни,
трепетный страх в ожидании родов и страх в предчувствии близящейся смерти.
Земле принадлежат эти башмаки, эта дельность. В мире крестьянки -- хранящий
их кров. И из той хранимой принадлежности земле изделие восстает для того,
чтобы покоиться в себе самом.
"...Когда крестьянка поздним вечером, чувствуя крепкую, хотя и здоровую
усталость, отставляет в сторону свои башмаки..."
"...Бытие изделия именуем надежностью. В силу этой надежности
крестьянка приобщена к немотствующему зову земли... Она твердо уверена в
своем мире!" "...Только надежность дельного придает укромность этому
простому миру и наделяет землю вольностью постоянного набухания и напора".
Во всех этих лирических описаниях из "Das Ding und Das Werk" ("Вещь и
творение") единственной ВЕЩЬЮ являются башмаки. Что бы о них ни говорилось
Хайдеггером, эти башмаки (имеющие мало общего с "Башмаками" Ван Гога)
абсолютно неподвижны -- не потому что оставлены в покое, а потому что им
придан вес в несколько десятков тысяч тонн, неземной вес, напоминающий вес
маленького конуса из рассказа Борхеса. Конуса, которого никто не мог
удержать в руке. Эти "башмаки Хайдеггера" абсолютно беспочвенны, вопреки
желанию придать им почвеннический пафос, а если в них и присутствует
"почва", то в таком случае они целиком -- кусок марсианского грунта, нечто
"сверхтяжелое" и безотносительное, с мучительными усилиями установленное
среди рыхлости текста для того, чтобы слова могли гнить, распадаться и
оживать на поверхности этой ВЕЩИ. Башмаки не анимированы, их ничто не в
силах оживить, как нельзя оживить черную дыру. Зато вокруг них все
"оживает", оживает для того, чтобы вкусить "бытия к смерти". "Труд", как
умирающее существо, выползшее из земли, неподвижно глядит из нутра этих
башмаков. Это слово "труд" заползло туда, чтобы умереть, умерло и теперь
искусственно возвращено к к жизни, но оно возвращается не посвежевшим, а
мумифицированным, навеки пропитанным клеем смерти, навеки парализованным,
чтобы событие его временной смерти (это чудо) невозможно было забыть.
"Тяжелая и грубая прочность" собрала "упорство неспешных шагов" -- эта
"прочность" окружила себя "упорством" и "шагами", как умирающий, призвавший
родственников собраться вокруг его смертного одра. Но прощание с умирающим
будет вечным -- "прочность" никогда не умрет окончательно, она воскреснет,
воскреснет агонизирующей. "Одиночество" забилось, чтобы умереть, под подошвы
этих башмаков, но вот оно уже снова высовывает из щелки свое серое личико,
повинуясь ревитализующим пассам шамана. Но самые две страшные тени в этом
кошмаре -- слова "крестьянка" и "земля", два гигантских трупа, один больше
другого, которые составляют особую гордость волшебника, ибо они умерли давно
и их тонатомимезис выглядит грандиозным, а тем не менее и они, как с трудом
оживленные големы, как зомби-великаны, начинают вблизи БАШМАКОВ вяло и
страшно ворочаться, пучиться, набухать и напирать на ту холодную внутреннюю
границу текста, за которой слова кончаются, и начинается ВЕЩЬ.
Хайдеггер является одним из непревзойденных мастеров внутритекстуальной
объектности. Он был, в этом смысле, художником авангардистом (и его
фундаментализм это фундаментализм авангардиста). Конечно, он не был столь
бескорыстен, как Андерсен -- Андерсен, который мог бы создать биографию этих
пресловутых "башмаков", -- рассказать о корове, отдавшей для них свою кожу,
о дереве, которое стало их подошвой, о башмачнике, изложить историю
крестьянки и, наконец, позволить им самим умереть, распасться на лоскутки,
обрывки шнурков, на ржавые гвозди, все еще самоотверженно поддерживающие
святое дело повествования своими слабыми силами. Андерсен ведь сам был
крестьянином и понимал, что вещи болтают ("трещат" и "трепятся", если
пользоваться русскими полужаргонными словечками), а не насупленно и
многозначительно "немотствуют", застряв в холодце своего пафоса. Но и
Хайдеггер не был полностью "конъюнктурщиком" , он ведь любил власть серьезно
и отчасти бескорыстно, власть была для него синонимом мышления, власть как
форма мысли, а не как ее содержание, занимала его. Конечно, можно
заподозрить, что он испытывал пристрастие к некрозным словесным отложениям,
поскольку, как власть имущий, он понимал, что только мертвые слова
управляемы, а чтобы сделать их мертвыми, надо родить их заново, причем
публично, чтобы факт нового рождения был заверен множеством свидетелей.
Однако его серьезность заставляла его быть снисходительным (чего никогда не
может позволить себе шарлатан). Надо полагать, он был снисходителен и к
самому себе, позволяя себе наслаждение тем видом аутоэротического
сладострастия, связанного с властью, которое называется "умением владеть
собой". А поскольку он "владел собой" на сцене -- на сцене мышления -- это
владение автоматически становилось искусством. Связь с фашизмом, связь,
которая стала атрибутом Хайдеггера, вошла в структуру его "иконы", эта связь
конечно же никогда не была его "слабостью", его "промахом" или "ошибкой".
Всю жизнь занимаясь аранжировками временной смерти идей (а также
риторическими обработками "времени смерти идей"), Хайдеггер понимал, что и
репутация есть идея, и эта репутация (его личная репутация философа и
писателя) не сможет спроецировать на себя сияние власти, не пройдя сквозь
зону временной смерти. Хайдеггер сделал со своей репутацией то, что он
вообще умел делать: он убил свою репутацию (и в том деле фашизм и предельная
скомпрометированность фашизма оказали ему неоценимую услугу) и затем
воскресил ее, но воскресил так, как он вообще воскрешал -- в качестве места,
где должна
располагаться память о смерти. Благодаря "грехопадению", его образ стал
пикантным (поскольку любое грехопадение пикантно).
Впрочем, пикантность изначально свойственна Хайдеггеру. "Интрига с
фашизмом* всего лишь придала этой пикантности популистские формы. Эта
интрига создала на "теле Хайдеггера" тот крючок, за который его смогли
зацепить мифогенные машины, обслуживающие массовое воображаемое.
Вернемся к снисходительности (она так для нас важна).
Снисходительность, в частности, была проявлена Хайдеггером во время
эпистолярной полемики с швейцарским литературоведом Эмилем Штайгером по
поводу стихотворения Эдуарда Мерике "К лампе". Хайдеггер в этой полемике
проявил не просто снисходительность, он проявил великодушие -- по отношению
к поэту прошлого века, к его стихотворению и, что для нас самое важное, к
лампе. Вот подстрочный перевод этого стихотворения, кажущийся более
прекрасным, чем все возможные художественные переводы:
Еще на прежнем месте, о прекрасная лампа, украшаешь ты,
Изящно подвешенная на легких цепях,
Потолок почти уже забытой ныне залы.
На беломраморной твоей чаше,
Обвитой по краю плющом зеленой меди, отливающей золотом,
Радостно водят дети хоровод.
Как все прекрасно, как приветливо, и кроткий дух
Серьезности все же разлит по форме целого --
Художественное создание подлинного свойства.
Кто внимает ему?
Но то, что прекрасно, блаженно светит в нем самом.
Спор между Хайдеггером и Штайгером развернулся по поводу последней
строки, Was aberschon ist, selig scheint es in ihm selbst, вокруг вопроса:
как следует читать в данном случае немецкий глагол scheint -- в смысле
videtur ("кажется") или же в смысле Lucet ("светит"). Штайгер придерживался
значения videtur, и в его интерпретации последняя строка может быть
переведена так:
Прекрасное же -- оно блаженным кажется в себе самом.
Штайгер понимает Мерике прежде всего как поэта-эпигона, как литератора
эпохи упадка, скованного неуверенностью и изъеденного печалью, но все же
коварного. В одном месте Штайгер называет Мерике "старым лисом", он
подозревает его в уловках, в бессильных и в то же время корыстных
прикосновениях к великому.
"...Прекрасное остается блаженным для себя самого, -- так говорит Гете
во второй части "Фауста". Он-то понимал в этом толк. Он высказывается на тот
счет недвусмысленно, решительно. Мерике так далеко не заходит. Он не
настолько полагается на самого себя, чтобы знать, каково на душе у красоты.
"Прекрасное же -- оно кажется блаженным..." -- вот все, что решается он
сказать. И наконец, с той последней степенью утонченности, какой располагает
лишь поздний поэт, он слово "себе" ("в себе") заменяет другим -- "в нем".
Напиши он "в себе самом" -- это значило бы, что он уже слишком перенес себя
в ситуацию лампы. Если же сказать "в нем самом", то этим красота вновь
отодвигается в свою даль..." (Штайгер. Из письма к Хайдеггеру).
Хайдеггер (возможно потому, что Мерике был его земляком, швабом)
выступил в его защиту. "Как эпигон, он видел явно больше своих
предшественников и ему было тяжелее влачить такое бремя". Он также выступил
в защиту вещи и этим доказал, что готов, подобно Гете, взять на себя
смелость и говорить если и не о том, каково на душе красоты, то о том,
каково на душе у неодушевленного. В отличие от Штайгера, Хайдеггер спросил
себя о том, зажжена ли описываемая лампа, и, почувствовав, что речь идет о
погашенной, незажженной лампе, он все же настаивал на значении Lucet.
"Но то, что прекрасно, блаженно светит (а не "блаженным кажется") в
себе самом. "Значение свечения в слове Scheint указывает не в направлении
"фантома", а в направлении "эпифании". Здесь следует заметить, в качестве
дополнения к этой полемике, что ни Штайгер, ни Хайдеггер не остановились на
вопросе, где находится, в каком качестве существует та "зала", потолок
которой украшает (но не освещает) лампа. Слова "почти уже забытой ныне залы"
можно понимать двояко: зала, в которой находится поэт, заброшена и редко
навещается посетителями. Таким образом понимают эти слова спорящие. Однако
более вероятным кажется другое понимание (и эту версию можно назвать
"прустовской"): зала почти забыта самим поэтом, он не в силах "осветить" ее
с помощью лампы, которая единственная еще сохраняется в его памяти во всех
деталях, однако и это воспоминание остается четким только до поры до времени
-- "еще на прежнем месте, о прекрасная лампа" означает -- еще не сдвинутая
забвением, еще не сброшенная, еще не скомканная амнезией. Разум, великий
Разум Просвещения, погас, но он еще украшает собою душу, и память о его
свете, вместо самого света, выхватывает из темноты другие воспоминания. Сама
зала забыта, но "почти забыта", она еще брезжит в воспоминании, расширяясь
от лампы мутными волнами несуществующего света. И лампа и зала -- образы,
воспроизведенные сначала памятью (или сном) и только затем поэтическим
словом. И здесь снимается контраверсия "фантом" -- "эпифания". Снимается
оппозиция между "светит" и "кажется". Эпифания может осуществляться и
посредством фантома, точно так же как и фантом может быть фантомом
эпифанического свойства. Есть вещи, которые светятся только потому и только
посредством того, что кажутся светящимися -- например, лампа, увиденная во
сне. Есть "светящиеся кажимости". Хайдеггер пишет: "Прелесть и суровая
серьезность пребывания -- они кротко переливаются друг в друга, играя вокруг
формы целого. Слово "форма" означает сейчас не сосуд, предназначенный для
заполнения его содержимым, но оно разумеет forma как морфе -- облик того,
что видится и вы-глядит. Форма целого -- пребывающее, что полностью вышло в
явление, в то, как оно видится и вы-глядит". Полностью тем, чем они
выглядят, являются образы сна и образы, созданные воображением, --
единственные доступные нам вещи, не имеющие в себе никакого "вещества",
единственные "формы" -- в буквальном смысле этого слова: морфе. Бог сна и
галлюциноза Морфей является покровителем форм и формаций (морфем),
распространяющим их "в чистом виде". Сновидение, воспоминание, галлюцинация,
фантазм -- во всех этих случаях, как никогда, велика вероятность того, что
видящий и видимое -- одно. Сновидение это естественный источник всякого
формального (формализующего) дискурса, поскольку оно освобождает формы от
материального содержания. Таким образом, эти "пустые" формы становятся
инспираторами экзегез: они материально пусты, они "не-вещи", следовательно,
они -- знаки и открыты для смысла, который в реальной вещи всегда тесним ее
вещественностью. Смыслу здесь уже не приходится бороться с "веществом" и
быть в конечном счете как червь, выдавленным на поверхность из глубин. Он
свободно располагается в форме, позволяя ей наконец-то сыграть свою
изначальную роль -- роль сосуда, амфоры (слово "амфора" и слово "форма", так
или иначе, одно слово). "Беломраморная чаша" теперь освобождена от всех
когда-то наполнявших ее веществ -- от света и белого мрамора. У нее вообще
более нет никакого "внутри", одна лишь блаженная поверхность (и в этом
отсутствии внутреннего секрет блаженства прекрасной лампы, поскольку
блаженство это пустота содержания, "нирвана"): эту поверхность не устает
полировать и оглаживать извне "кроткий дух серьезности". Кроткий дух
серьезности! Суровый Хайдеггер пытается придать этому духу суровость
("суровая серьезность пребывания"), но вместо этого мы видим кроткую
серьезность отсутствия -- то отсутствующее, кроткое и серьезное выражение,
которое встречается на лицах детей, и кроликов, вообще маленьких животных,-
занятых своими делами. Это же кроткое, серьезное и отсутствующее
выражение'часто присутствует и на "лицах" вещей. Они всегда "здесь и не
здесь". Они всегда "где-то еще", там, очень близко, но туда мы никогда не
сможем добраться. Они там, куда нам никогда не продлить себя. Эта
приветливость недоступного и составляет совокупное Lucet -- videtur,
свойственное "эпифаническому фантому", которым является лампа Мерике.
Вещь в тексте становится текстом в тексте, текстом другого автора.
Чтобы быть окончательно "другим", этот автор должен быть умершим. Смерть
делает цитату "вещью", поскольку вещью стал цитируемый. Вещью является Гете,
который "знал, каково на душе у красоты". Таков он для Штайгера, но Штайгер
пытается не заметить, что и эпигон Мерике уже стал вещью. Хайдеггер
указывает ему на это. Более уже нельзя (после смерти Мерике) отыскать и
заверить границу между ним и его "лампой". "Старый лис пошел на последнюю
уловку -- стал лампой, подлец!" -- так мог бы, в отчаянии, воскликнуть
швейцарец Штайгер, изумленный и возмущенный швабской хитростью и
увертливостью. Текст, когда он читается и пишется, не похож на статичную
вещь, он -- череда, серия предметов, обладающих способностью к превращению.
Текст подобен тем сказочным вещам, которые убегающий от погони бросает
назад, за спину: волшебный гребешок становится лесом на пути настигающего,
зеркальце -- озером, пояс -- рекой. Писатель убегает, пытаясь скрыть то, что
он на бегу превращается в вещь, -- он охвачен стыдом за теряемую им на
глазах субъективность, стыдом за ту объектность, которая пробивается сквозь
его "снег", сквозь его тающую плоть снеговика. Он боится быть настигнутым,
но он и боится, что его перестанут преследовать. Первое означало бы, что он
уже стал вещью, второе -- что вещью стал преследователь.
Когда умирает писатель, он, конечно, становится (как и другие трупы)
вещью, но эта вещь "не в себе". Эта вещь отчасти вывернута наизнанку,
онаьразвернута в мир в виде текстов (помеченных тем же именем, что и тело
умершего), отчасти являющихся коллекциями эквивалентов того "внутреннего",
которое можно этой вещи инкриминировать. Когда умирает читатель, он хоронит
в своем трупе все, когда-либо им прочитанное. Но есть старая практика,
обещающая продлить жизнь писателя и читателя, обещающая сделать их
бессмертными -- это культ умерших, конфуцианский культ предков. Этот культ
не имеет ничего общего с "некрофилией", он не наслаждение, а долг. Наиболее
успешным с точки зрения размещения вещи в тексте можно считать текст
Хайдеггера "Рассказ о лесе во льду Адальберта Штифтера". Этот текст на 90
процентов состоит из огромной, развернутой цитаты из Штифтера. Хайдеггер
понял, что для того, чтобы вещь могла наконец прочно утвердиться в тексте,
стать дырой в его глубине, а не рамкой по его краям, для того, чтобы она
была "ни жива, ни мертва" (а это означает -- трижды мертва, доведена до
состояния "вечной свежести", чтобы сама безжизненность ее стала центром
жизни других), чтобы расчленяемые слова могли на ее поверхности триумфально
входить в зону временной смерти и выходить из этой зоны -- для этого
необходимо предоставить слово умершему. Только он тот "техник", который
способен инсталлировать вещь в тексте -- так, чтобы сквозь нее нельзя было
пройти, так, чтобы ее приходилось бы объезжать. Именно о такой "вещи"
повествует в своем рассказе Адальберт Штифтер. Эта "вещь" -- лес во льду.
Галлю- циногенная сила этой "вещи" такова, что ее "форма" почти переходит
(через посредство "морфе") в "фармос": образ, освобожденный от "вещества",
сам становится веществом, почти освобожденным от формы, но способным
порождать или поддерживать другие формы -- действовать как морфин,
порождающий формы галлюционоза, или же как формалин, замедляющий потерю форм
мертвым телом. Формализующая сила этой "вещи" такова, что остается только
повторить то, что уже сделал Хайдеггер -- разместить на своем пути лес во
льду Штифтера и обойти его стороной.
"Когда же мы наконец добрались до Таугрунда и лес, постепенно
спускающийся сюда с высоты, все ближе подступал к дороге, мы внезапно
услышали в темной роще, что стояла на красиво вздымающейся вверх скале,
треск, настолько странный, что ни один из нас во всю свою жизнь не слыхивал
ничего подобного -- было так, как будто пересыпались тысячи, если не
миллионы стеклянных палочек, в таком тысячекратном звенящем гомоне уносясь
куда-то вдаль. Однако темно-зеленая роща по правую руку от нас была все еще
далековата, так что мы не могли толком разобраться в таком звучании, и в
неподвижном покое, какой был на небе и во всей местности окрест нас, оно
показалось нам до чрезвычайности загадочным. Мы проехали еще какое-то
расстояние, прежде чем сумели остановить Рыжего -- он был всецело поглощен
бегом и наверняка об одном только и мечтал -- поскорее очутиться у себя дома
в конюшне. Наконец мы встали и тогда услыхали над головой как бы
неопределенный шорох -- больше же ничего. Однако шорох этот ничуть не
походил на тот звенящий гул, который мы только что слышали сквозь цоканье
копыт. Мы снова тронулись в путь и все ближе и ближе подъезжали к лесу
Таугрунда; наконец мы могли рассмотреть уже и темное отверстие там, где
дорога уходила вглубь леса. Хотя час был еще не поздний и серое небо
казалось светлым настолько, что вот сейчас бы и проглянуть лучам солнца,
однако день был зимний, он склонялся к вечеру, и было пасмурно, так что
белоснежные поля перед нами уже начали терять краски, а в роще, казалось,
царил мрак. Но так, должно быть, только казалось, оттого что блеск снега
резко контрастировал с чернотою стволов, тесно стоявших друг за другом.
Когда же мы добрались до того места, где должны были въезжать под своды
леса, Томас остановил лошадь. Прямо перед нами стояла тонкая и стройная ель
-- но она согнулась наподобие обода и образовала нечто вроде арки на нашем
пути, -- такие делают для вступающих в город императоров. Не описать, какое
ледяное изобилие, какое бремя свисало в деревьев. Словно люстры с
укрепленными на них в бесчисленном множестве перевернутыми свечами и
свечками самых разных размеров стояли хвойные леса. Все свечи отливали
серебром, и сами подсвечники были серебряными, и не все из них стояли прямо,
некоторые были повернуты в самых разных направлениях. Теперь нам был знаком
шум, прежде слышанный нами в воздухе над головой, -- вовсе и не был он в
воздухе, он был совсем рядом с нами. На всю глубину леса стоял этот
непрерывающийся шум, потому что непрестанно ломались и падали на землю ветви
и ветки, большие и малые.
Тем страшнее было это зрелище, что все окрест стояло в недвижности:
среди всего блеска и искрения на деревьях не шевелилось ни веточки, ни
единой иголочки, пока наконец по прошествии недолгого времени наш взор не
останавливался на очередном согнутом в дугу дереве, которое клонили к земле
нависшие на нем ледяные сосульки. Мы все еще ждали, не трогаясь с места, и
смотрели, -- неизвестно, изумление или страх мешали нам въезжать во всю эту
вещь. Наша лошадь, видимо, разделяла подобные же чувства, потому что
несчастное животное, осторожно подтягивая ноги, несколькими рывками
сумело-таки чуть подать сани назад. Пока же мы продолжали стоять на месте и
смотреть, -- ни один из нас не проронил ни слова, -- мы вдруг услышали звук
падения, -- его за сегодняшний день уже довелось нам слышать дважды. Падению
предшествовал оглушительный треск, напоминающий звонкий вскрик, затем
следовал сдержанный стон, свист или вой, наконец раздавался тупой,
грохочущий звук удара о землю, и могучий ствол дерева лежал на земле. Словно
эхо выстрела волной прокатилось по лесу, по густым гасившим его сплетениям
ветвей; теперь в воздухе стояло лишь позванивание и позвякивание, как будто
кто-то тряс и перемешивал бесконечное множество осколков стекла, -- наконец
все сделалось как прежде, деревья стояли и высились, как всегда, все
оставалось недвижным, и только тянулся, словно застыв на месте, прежний
шорох и шум. Занимательно было наблюдать, как совсем рядом с нами на землю
срывалась веточка, или ветвь, или кусок льда, -- не видно было, откуда они
падают, а только они проносились мимо быстро, как молния, слышен был тупой
звук падения, но нельзя было уследить, как внезапно взметывалась ввысь
освободившаяся от тяжести льда ветвь, и все опять замирало, и вся застылость
длилась, как и прежде.
Теперь нам стало понятно, что въехать в лес мы не можем. Где-нибудь
путь наверняка преграждало всеми своими ветвями упавшее поперек дороги
дерево, -- перебраться через него мы не смогли бы, не сумели бы и объехать
его, потому что деревья растут очень часто, их ветки и иглы сплетаются друг
с другом, а снег лежит по самые ветки и сплетения нижнего яруса ветвей, а
если бы мы тогда повернули назад, пытаясь ехать тем самым путем, по которому
углубились в лес, и если бы тем временем на дорогу легло хоть одно дерево,
то мы бы и застряли где-нибудь среди леса. Дождь лил не переставая, мы сами
обросли толстым
слоем льда, так что не могли и пошевелиться, не ломая наледь, сани,
покрытые ледяной глазурью, отяжелели. Рыжий нес свое бремя, -- в деревьях же
если где и прибывало льда хоть на самую малую унцию, то приходила им пора
ломаться -- и ветвям и целым могучим стволам, и сосульки, на кончиках
острые, как колья, готовы были падать наземь, -- и без того перед нами
лежало множество раскиданных во все стороны льдинок, а пока мы стояли на
месте, издали доносился не один тяжелый тупой удар. Оглядываясь в ту
сторону, откуда мы пришли, мы не видели на полях, ни где-нибудь в целой
местности ни одного живого существа. Только я да Томас и Рыжий -- вот и все,
кто разгуливал туг на воле.
Я сказал Томасу, что надо поворачивать назад. Мы вышли, отрясли сколько
могли свою одежду и освободили гриву Рыжего от нависшего на ней льда, о
котором нам подумалось тут, что нарастал он теперь куда быстрее, чем поутру,
-- то ли оттого, что утром мы внимательно, не отрываясь, наблюдали за этим
явлением, так что происходящее и могло представиться нам более медленным,
чем теперь, ближе к вечеру, когда нам надо было думать о других вещах и
когда мы только по прошествии времени заметили, каким толстым покрылись
льдом; то ли действительно стало холоднее, а дождь припустил еще сильнее. Мы
этого не знали. Томас развернул Рыжего и сани, и мы как можно быстрее
покатили к Эйдунским холмам".
К цитируемому тексту Штифтера Хайдеггер прибавляет всего лишь несколько
фраз. Одна из них звучит так: "Это состояние леса, эту его обледенелость,
Штифтер называет просто -- "вещь". "Неизвестно, изумление или страх мешали
нам въезжать во всю эту вещь". В современном бытовом жаргоне русского языка
словосочетание "въезжать во всю эту вещь" означает понимать что-либо,
участвовать в чем-либо, разбираться в чем-либо, увлекаться чем-либо. Данную
вещь, громоздко размещенную прямо в тексте, приходится объезжать стороной.
Она, как больной дядя у Пушкина, способна заставить уважать себя, но участие
в ней смертельно. Здесь, как нигде и никогда прежде или впоследствии,
Хайдег- геру удалось (с помощью классика) показать, что вещь это западня, из
нее нет выхода. Вещь это смерть. И только избранные, особенно искусные
шаманы, могут, на глазах у изумленной и испуганной публики, входить в вещь и
возвращаться обратно из ее недр, откуда исходит оглушительный треск.
Если воспринимать Хайдеггера как героя волшебной сказки, то можно
сказать, что, убегая, он бросил за спину три вещи, и все эти три вещи были
чужими, принадлежащими кому-то другому. Эти вещи не были украдены или взяты
в долг (потому что украсть или одолжить можно только у живого), они были
найдены, подобраны, как подбирают драгоценности, чей законный хозяин умер, а
наследники неизвестны.
Сначала Хайдеггер бросил за спину башмаки Ван Гога. Бросок был
эффектен, но не эффективен. "Башмаки" пробили дыру и образовали пропасть
может быть даже и бездонную, но настолько узкую, как скважина, что
перепрыгнуть ее для преследующих не составило труда. Затем он бросил за
спину "лампу" Мерике. "Лампа" несколько затормозила движение настигающих.
Погоня -- ситуация архаическая, и все участники этой игры подчиняются
логике архаизаций. А в соответствии с этой логикой, старая и недействующая
лампа может оказаться лампой Алладина -- ее следует "потереть" или об нее
следует потереться, то ли вызывая джинна, то ли используя ее в качестве
сексуального возбудителя, то ли призывая к жизни самые древние, примитивные
способы добывания огня. Но вместо огня, джинна и возбуждения эта лампа
порождает только память, наполненную сияющей пустотой: память о забвении, то
есть о том, что будет, о грядущем. Поскольку нам, прежде всего, надлежит
помнить о будущем, о том, что в будущем мы все забудем. Наконец Хайдеггер,
уже почти настигнутый, бросил за спину лес во льду Адальберта Штифтера. На
этот раз он победил. Лес во льду оказался непреодолимым препятствием: его
"объезд" занимает слишком много времени.
"-- Ах, господин доктор, -- восклицали они. -- Ах, господин доктор,
откуда же вы в такой страшный день?
-- От старухи Дубе и от Эйдунских холмов, -- отвечал я".
Андерсен мог бы рассказать о Хайдеггере, также как он рассказал мрачную
сказку о Восточном ветре, Вольдемаре До и его четырех дочерях. Из глубины
этой мрачности, как из черного яйца, могла бы вылупиться некоторая толика
"светлой печали", чтобы окутать, "опушить" Хайдеггера навсегда. Но, к
сожалению, Андерсен умер задолго до того, как Хайдеггер преобразовал
"кроткий дух серьезности" в суровую (и не вполне достоверную) серьезность
пребывания. Теперь разве что "Медгерменевтика" может говорить о Хайдеггере
сентиментально -- делать то, что должен был бы делать Андерсен. Году в
1989-ом мы написали бы, наверное, так:
От старухи Дубе, от Эйдунских холмов
Он бежал, весь дрожа, и шептал "Вещество".
У старухи Дубе в пизде живет сундучок:
В сундучке лед в снегу, лед в снегу, как одно существо.
Лед в снегу, лед в снегу, как сурок на ветру --
Замерзающий лед и снежок поутру.
Где бутлеггеры "Дуб" превратили в "Набату",
Шварценеггер и Хайдеггер замерзают на ветру.
Каждой из вещей, найденных Хайдеггером, можно без труда подобрать тот
или иной адекват в сказках Андерсена: "башмаки" это "Ботинки счастья",
которые способны осчастливить, лишь убивая. "Лампа" это "Старый фонарь",
вокруг которого уже во времена Андерсена велась дискуссия относительно Lucet
и (или) videtur, причем дискутирующими были такие
конкуренты в деле свечения, как луна.гнилушка, светлячок и рыбья
голова. Что же касается страшного леса во льду, то туда уходят все нити
андерсеновских сюжетов, поскольку в центре этого леса царствует дыхание
Снежной Королевы -- не леденящее, а согревающее дыхание, помогающее человеку
не страшиться и не избегать холода, как не избегает холода вещь. Снежная
Королева и есть "старуха Дубе", постоянно "дающая дуба" и закаливающая своих
прихожан, своих практикующих "докторов".
2. Одна находка и три потери
Люди зарождаются в зоне бессловесного, до слов, но затем разворачивают
свое существование среди слов и с их помощью. Изделия живут в обратном
времени. Они -- последствия слов, слова стоят у их истока, но сами они
бессловесны. Точнее, их "внутреннее", надо полагать, бессловесно, тогда
каких "внешнее", их поверхности, напротив, гостеприимно распахнуты в сторону
слов. На вещах пишут, вещи читают. В русском языке слово "вещь" имеет
информационный привкус, оно родственно словам "вещать", "вещий",
"извещение". Вещь извещает о себе как о вещи. И только потому она -- вещь.
Это извещение о себе есть, также, ценность. Поэтому слово "вещь"
употребляется и как синоним ценности. Сказать о чем-либо "Это -- вещь"
означает сказать "Это -- нечто стоящее" или же "Это -- реально, то есть это
стоит того, чтобы быть реальным". Слово "предмет" можно понимать как
"до-знак", "пред-метка", то есть как материальный объект, который готов
стать знаком. Приставка "пред" в данном случае означает готовность,
приготовленность к тому, чтобы быть помеченным и помечать другое. Знак это
всегда "после-вещь", след предмета, чья внутренняя материальность, чья
"предма" сжата, редуцирована и поставлена на службу потребностям
обозначения, означивания.
Поэтому знак всегда является найденным или присутствующим знаком, его
нельзя потерять или упустить из виду -- утраченный или незамеченный знак
перестал быть знаком. Но вещь теряется, не переставая быть вещью. Даже
наоборот -- утраченное есть абсолютная ценность, а значит абсолютная вещь.
Потерянная вещь становится окончательно вещью, также как и рай только после
его утраты окончательно становится раем. В отсутствие вещи разворачивается
ее извещение о себе, и главное в этом извещении -- сообщение о ее
ненадежности, о ее пассивности о ее "невладении собой".
Таким образом вещь определяется как Сокровище и Драгоценность.
Сокровище это нечто, в максимальной степени организованное в соответствии с
идеей "пассо", в соответствии с представлением о "пассивной" активности
вещей. Сокровище "не владеет собой" настолько глубоко, что через это
безволие, через эту пассивность оно приобретает власть над другими: оно
призвано очаровывать, и это очарование почти механически становится "роком"
очарованных. Миф о Женственности сыграл не последнюю роль в кристаллизации
этого дискурса, в "кристаллизации этих кристаллов". Сокровище никогда не
является только лишь знаком: его знаковость подавлена его избыточной
вещностью. А поскольку оно все же обозначает -- богатство, красоту, роскошь,
власть -- оно создает символ и инсигнию -- те разбухшие и самозамкнутые
варианты знака, в которых материал подчиняет себе сообщение. Сокровище
значит много, даже больше, чем оно может "унести на себе", но все означаемое
им в свою очередь означает его самого -- Сокровище, сверхценность.
Драгоценный камень становится украшением кольца или ожерелья -- замкнутых
структур, по орбитам которых означаемое и означающее циркулируют с
повышенной скоростью, наглядно демонстрируя свою "роскошную" тождественность
друг другу. Сокровище это тавтология. И тавтология это сокровище.
Своими сентиментальными повествованиями о стареющих и стирающих свои
следы предметах Андерсен подспудно создал вещь современности -- вещь
одноразовую, с минимальным сроком жизни, уничтожающую себя после одного или
нескольких использований. Эта современная логика, окольными путями
выпестованная романтизмом, направлена на разрушение более древней логики
сокровищ. Разрушение происходит через "новую (вторичную) анимацию" вещей, то
есть через их ре-анимацию. Андерсен (а вслед за ним и современность)
показал, что у всякой вещи есть душа, то есть история души, и эта история
тем более интимна, чем она короче. Только став мусором и самоуничтожаясь,
вещь реализует свое сокровенное человекоподобие. Раньше повествовали о
кольце Нибелунгов или о мече Эскалибур, но социализм XIX века, разрушение
старых иерархий и демократизм заставили с большим пиететом повествовать о
краткосрочном, о незначительном.
Но теперь можно сказать (хотя и с некоторыми важными оговорками), что
старая логика сокровищ, также воспользовавшись окольными и неочевидными
путями для своей ревитализации, одержала победу. Снеговик или Старый Фонарь
не инкрустированы жемчугами и не отлиты из платины, однако они
инкрустированы литературными достоинствами, они отлиты в тексте. Таким
образом, они -- новые Сокровища. Они долговечны, потому что обозначают
недолговечность. Сокровища отличаются от остальных вещей тем, что их никогда
не выбрасывают: их прячут или, наоборот, показывают. Сокровища не должны
устаревать -- если же это и происходит, то это каждый раз катастрофа. Только
Катастрофа может компенсировать гибель Сокровища. Сокровище вообще связано с
катастрофой напрямую.
Существующее сокровище это всегда памятник неосуществленной или же
отложенной катастрофы. Яйцо Фаберже, тикающее яйцо-часы, -- это бомба,
которая ювелирно изукрашена потому, что никогда не взорвется. Святой Грааль
является одним из величайших сокровищ христианского Запада, потому что он
означает: Апокалипсис откладывается. Сокровище -- это всегда отсрочка. Если
сокровище это объект, посредством которого человеческое тело украшает себя
отражениями прелестей внешнего нечеловеческого мира (свет звезд, Солнца,
Луны, красоты цветов и т. п.), то Машина это конгломерат предметов
инструментального свойства, каждое из которых когда-то было изготовлено
телом с противоположной целью -- продлить себя в мире. "Женственность" вещи
дополняется "мужественно- стью" предмета, щедро разбрасывающего по
неантропоморфным прост- ранствам детали человеческого:
инструментализированные подобия рук, глаз, ушей, ног, мозгов, фаллосов,
вагин, сердец. Надо полагать, что когда-нибудь Сокровище и Машина сольются,
чтобы образовать андрогинное "вещь-предмет", иначе говоря -- ЭТО. "ЭТО",
в некотором смысле, представляет собой противоположность фрейдовскому
ОНО, и в то же время ЭТО призвано объективировать именно это ОНО, чтобы
навсегда "закрыть" (закрыть в модусе инструментальной "открытости)
проблематику бессознательного. Пока что это еще не произошло.
А если и произошло, то это событие (слияние, напоминающее об
алхимических совокуплениях) скрыто, украдено у созерцания. Компьютеру не
удалось стать ЭТИМ: он все же остался в пределах "мужественной"
сервильности, по одну сторону Инь -- Янь. Ближе к ЭТО стоит ядерная кнопка
-- вещица, чья неиспользованность есть отложенный конец всего. Пожалуй,
"ядерный чемоданчик" есть современное "вещь-предмет", "МАШИНА-СОКРОВИЩЕ",
ЭТО - недаром этот чемоданчик в наше время есть главнейший (и в общем-то
единственный) атрибут верховной власти, по местонахождению которого
определяется местонахождение Власти, которая (не будь этого -- последнего --
Атрибута) окончательно
стала бы неотмеченной, ускользнувшей, затерявшейся в зоне неразличения,
в сложных и плохо просматриваемых сплетениях современных политических и
экономических институтов. Только благодаря "чемоданчику" (который давно уже
следовало бы сплошь отделать бриллиантами), Власть все еще не окончательно
стала Властями, еще не вполне растворилась в Силах, Сияниях и Господствах.
"Кнопка" и "Чемоданчик" (их фольклорными праобразами следует, видимо,
признать все то же кощеево яйцо в сундуке) названы, они названы коллективным
сознанием бесчисленное количество раз, но они остаются невидимыми,
невизуализированными, они остаются "сокровенным", "кладом" -- слепым пятном
коллективного ока, слепым пятном на экране коллективного воображаемого. В
поэме "Знак" изображена находка -- найден некий знак. Совершенно неясно, что
это за знак, как он выглядит, как он обозначает, зато совершенно ясно, что
он обозначает. Он обозначает конец всякого означивания -- наступление
времен, когда знаков больше не будет, так как более не будет ничего
закодированного, ничего, нуждающегося i :чифрах, ничего косвенного. Это
новая эсхатология -- конец мира тайн и недомолвок, конец скрытого. В тексте
"Лимбическая сивилла" (который я предпочитаю пока не публиковать) я приписал
себе (в шутку, конечно) прорицательские способности. В частности, "Знак"
написан был в 1985 году, в самом начале эпохи "гласности" и тотальной
дегерметизации "тайного" советского мира.
Знак, как уже было сказано, всегда находка. Вещь -- всегда потеря. За
"Знаком" следуют истории трех потерянных вещей -- зеркальца, крестика,
куклы. Все эти предметы потеряны, найдены, вновь потеряны. Они -- свободны,
потому что они больше не знаки, они ничего не обозначают. "Знак" был
последним знаком, после него даже такие сугубо знаковые вещи, как нательный
крестик, обретают свободу -- они становятся "освобожденными атрибутами",
отныне не обслуживающие более никого, а занимающиеся только своими
собственными делами. Делами ускользания, бегства, исчезновения, подмены,
смеха, любви, пристрастий, спорта, увеселения, сострадания... Все тексты,
объединенные в разделе "Холод и вещи", должны были, согласно первоначальному
замыслу, стать частями большого "романа", который я предполагал назвать
"Ледяной крестик". Я хотел написать про часы, которые есть "внешнее сердце",
но которые, в отличие от сердца, могут быть остановлены (и надолго), а затем
заведены вновь. Я хотел написать также историю трофейного фонарика,
попавшего в Россию вместе с немецким солдатом-оккупантом, а затем ставшего
игрушкой русских детей, охотящихся в темноте за кладами и совокупляющимися
парочками. Фонарик "видит" только тогда, когда светит, поэтому важные звенья
сюжета выпадают из его исповеди. Фонарик украшен свастикой и немецким орлом,
также как зеркальце было украшено кремлевской башней и красной звездочкой.
Можно было бы написать также про искренний и честный листок бумаги, который
любил правду, но никому не в силах был сообщить, что написанное на нем --
ложь. Что-то можно было бы написать и от лица топора, которым Раскольников
расколол старуху, как бревно. От лица ядерной кнопки, которая (единственная
из кнопок, как она жалуется себе) не испытала нежного и властного нажатия
человеческого пальца, который бы сладостно вдавил ее в глубину "орбиты". Она
несчастна. Она не знает, почему обречена на печальное прозябание в
девственности. Она ведь была создана для Пальца. Не для кончика ли Пальца,
не для "подушечки" ли его предназначена уютная выемка на поверхности кнопки?
От лица бомбы с часовым механизмом, которая (отсчитывая время, оставшееся до
взрыва) сочувственно подслушивает разговоры старых генералов о стариковских
недомоганиях и заботах, собравшихся в штабе, куда она
подложена террористами. Можно было бы написать от лица компьютера,
заведующего секретной информацией и самоотверженно борющегося против
вирусов, запущенных в него злоумышленниками-хакерами. Можно было бы написать
и от лица презерватива, который рожден для того, чтобы предотвратить одно (и
только одно) рождение. От лица таблетки, которая рассечена пополам -- одна
половина ее растворяется в теле человека, принося исцеление или же
облегчение, другая -- ожидает своей очереди, прикрытая в своем "домике"
серебристой фольгой конвалюты, но так и не дожидается "часа икс": она
устаревает и ее выбрасывают.
Всего этого я не написал, отвлеченный другими делами. Может быть,
отдавая должное тем прошедшим временам, я когда-нибудь еще напишу о
каком-нибудь из перечисленных предметов. Отсрочка это тоже сокровище. Есть
вещи, вступающие в интимные отношения с человеческим телом. Это прежде всего
вещи еды, а также вещи лекарств, наркотиков и ядов. Потерянное зеркальце
мечтало о том, чтобы превратиться в зеркальную пыль, оно желало проникать в
одушевленные тела, чтобы своими микроскопическими фрагментами отражать людей
изнутри, как зеркало тролля из "Снежной королевы". Такие вещи уже почти не
являются вещами, они становятся снадобьем, отчасти возвращаясь к
первоначальному статусу "вещества". Но у нас еще есть возможность
рассмотреть эти "не-вещи" в качестве вещей -- это можно сделать с помощью
отсрочки, которая ведь есть сокровище. Отложенная и черствеющая еда,
несъеденные лакомства, непринятые лекарства -- все они на время погружаются
в жизнь вещей. Наркотик, попавший в распоряжение человека, который не
намерен его употребить, есть вещь. Яд, хранящийся вдалеке от потенциальных
самоубийц и отравителей, есть вещь.
Литература это одна из наиболее длительных отсрочек. И поэтому она
предоставляет возможность рассматривать и коллекционировать такие вещи.
1996
III
Еда
Каша с медом, лед с медом, холодец
Около молока
На утреннике у одного из танцующих спросили: "Что было до твоего
рождения?" Тот перестал танцевать, снял с лица серпантин, подумал и ответил:
"Серая пустота. Ни вещей, ни теней, ни верха, ни низа. Только ровный свет
без источника -- мягкий, мутный, подернутый легким туманом. Дымка. И среди
этой бескрайней серой пустоты иногда раздавался голос, непонятно откуда
доносящийся. Он произносил одно только слово -- "Родина". Больше не было
ничего".
I
Протягивая ей мороженое-эскимо, спросили у нее: "Что было, родная, до
твоего рождения?" Она слизнула немного мороженого, подумала и сказала:
"Серая, светлая пустота. Только ровный и пушистый свет без источника. И в
глубине света, за легким туманом, вроде бы простой белый поток. За несколько
секунд до моего рождения какой-то голос произнес "Ленин". Все. Больше не
было ничего".
I
Серая, светлая пустота, не имеющая ни границ, ни пределов. Бездонная,
бескрайняя, бесконечно простирающаяся вверх и вниз, вперед и назад, во все
стороны. В этой пустоте подвешена коробочка, размером с обычную комнату.
Стены, пол и потолок сделаны из тонкой белой бумаги. Непонятно, почему то,
что находится в комнате, не проваливается сквозь пол. Видимо, бумага все же
очень плотная. В комнате люди и вещи. Видно, семья отдыхает. Человек лет
восьмидесяти сидит на диване с книгой и читает вслух роман Шарлотты Бронте
"Джейн Эйр". Женщина лет семидесяти пяти, закутавшись в серую пуховую шаль,
вяжет, посматривая иногда сквозь стекла очков на экранчик небольшого
черно-белого телевизора -- там две стройные фигурки девушки и юноши (обоим
лет по пятнадцать) кружатся на коньках, выписывая замысловатые фигуры на
льду. Мужчина лет сорока трех внимательно следит за их танцем, одновременно
неторопливо прочищая свою курительную трубку. Женщина лет тридцати пяти
кормит грудью пятимесячного младенца. Юноша лет семнадцати стоит на пороге
двери, повернувшись спиной к семье, с недовольным и хмурым лицом глядя в
серую, светлую пустоту. Девушка лет четырнадцати в полупрозрачной ночной
рубашке лежит на кровати и, улыбаясь, смотрит в потолок. Девочка лет девяти
сидит за столом и делает уроки. Мальчик лет четырех, одетый в желтую пижаму,
катает по полу игрушечный поезд.
I
На ферме приходилось вставать рано, чтобы идти доить. Когда шли с
ведерками, у всех слипались глаза. Тут одного из сонных спросили: "Что будет
после твоей смерти?" Тот подумал и ответил: "Серая, светлая пустота,
бесконечно простирающаяся во все стороны.
И где-то в этой пустоте висит бумажная комнатка. В комнатке все
занимаются своими делами: дед читает, бабушка вяжет, папа смотрит телевизор,
мама кормит младшего, сестры и братья -- каждый занимается своим. И только
время от времени они оглядывают комнату и друг друга в поисках меня. Вроде
все в сборе, а я-то где? Куда я-то подевался?"
I
Два сорокаднева
Есть повествования, на вид безобидные и развлекательные, на самом же
деле в них скрыта бездна. Но не "бездна смысла" или "бездна бессмыслицы".
Какая-то другая бездна. Другая бездна.
Таким повествованием является роман Жюль Верна "Вокруг света за 80
дней". Возможно, этот роман -- единственное откровение, приоткрывающее перед
нами тайну нашей посмертной судьбы. Во всяком случае, тайну первого периода
после смерти -- тайну сорокаднева или мытарств души. В этом смысле можно
сказать, что Жюль Верну удалось создать современную версию "Книги мертвых".
Фог ("Анимус", имеющий форму туманного сгустка) совершает путь вокруг
земного шара. Путь занимает 80 дней. В пути он обретает свою женскую
ипостась ("Анима", лэди из Индии). Если поделить 80 дней пополам (по
половине на "Аниму" и "Анимуса"), то получим два сорокаднева. В пути им
пытается помешать мистер Фикс -- нечто вроде клея, угрожающего приостановить
движение душ, "зафиксировать" их. Помогает же им в деле непрерывности
движения слуга Паспарту, то есть паспорт, бюрократическая оформленность
умерших, дающая право на бесчисленные въезды и выезды, на путь.
Только удостоверившись на собственном опыте, что земля -- шар, мы можем
считать земную жизнь завершенной. Мы ведь собираемся подарить этому шару
свое тело, влиться в шар. Тело Земли есть и наше тело, и, прощаясь с ним, мы
обязаны освидетельствовать его целиком. Этим объясняется современный расцвет
туризма. Туризм -- самое предусмотрительное из всех занятий, поскольку
именно опытный турист в наибольшей степени может считаться подготовленным к
посмертным испытаниям.
I
...Где Ио белоснежная паслась...
Девушки, подоившие Ио, спрашивали друг друга: "Мы пьем молоко женщины
или белой коровы?"
Дали немного молока и одному юноше. Вместо того чтобы пить, он опустил
в чашку с молоком свой половой орган и стал кричать: "Мне кажется, что я
совокупляюсь с девушкой!"
-- Вот дурак! -- смеялись девушки.
I
В летнем детском саду заставляли пить молоко. Вкус молока все
ненавидели (на вид-то оно приятное).
Как-то раз воспитательница застукала одного мальчика, который в
компании девочек опускал в молоко свой половой орган и выкрикивал известную
считалку:
Шла машина темным лесом
За каким-то интересом...
-- Вот дурак! -- хохотали девочки, с удовольствием наблюдая за его
действиями.
I
Одного спросили: "Есть ли у истины имена?" Разговор происходил в
поезде. Тот посмотрел на надпись "стоп-кран" и ответил: "Есть. Эти имена:
творог, сметана, ряженка, кефир, сливочное масло, сыр".
I
Что такое "я", когда это слово написано на бумаге? Читая дневники
преступников, убеждаешься, что чем тяжелее вина, тем большей невинностью
дышат записи. И дело не в злостных уловках самооправдания -- написанное "я"
чисто. "Я" это нечто, на что уже распространилось прощение, на что уже
накинут покров невинности. Сама плоть текста трансформирует это "я" и
доносит его до нас, как сказал бы писатель, "с широко раскрытыми,
доверчивыми и изумленными глазами ребенка, глядящими куда-то вверх из-за
сильного плеча матери". Материи текста не просто чисты -- они обладают
очищающими свойствами. Таким образом, кровь смывается с вампирических уст,
на которых остается (для "живости") только теплый след материнского молока.
Особенно это относится к русскому "я" -- этому пузанчику с отставленной
вбок, извивающейся ножкой, словно бы подбрасывающей невидимый мячик. "Я" так
похоже на малыша, которого недавно хорошо покор-или и теперь выпустили
погулять во двор.
I
Один пятилетний, сытно позавтракав горячим молоком с кукурузными
хлопьями, вышел во двор и стал подкидывать ногою мяч. К нему подошли трое
ровесников и спрашивают: "Ты знаешь, откуда дети берутся?" А тот в ответ:
"Идите лучше на Замореного. В нашем дворе вы таких дураков не найдете, чтобы
на такую хуйню попались".
I
В детском саду активно обсуждался вопрос, откуда берутся дети.
Высказывались разные версии. Говорили, что женщины беременеют от еды. Что
мужчины и женщины, голые, запрыгивают друг другу на спину и возят друг друга
по комнатам. Что мужчины и женщины трутся друг о друга гениталиями. Наконец,
говорили, что мужчина якобы засовывает свой половой орган внутрь полового
органа женщины, там из него выбрызгивается некая жидкость, столь
питательная, что от ее присутствия в женском теле зарождается живое
существо. Все эти версии казались в одинаковой степени недостоверными.
Как-то обратились к одному молчаливому узнать, что он думает по этому
поводу. Он ответил приблизительно следующее: "Нас-то не должно интересовать,
откуда берутся дети, потому что мы уже родились. Вот если бы мы были еще
нерожденными детьми -- тогда другое дело. Но поскольку мы уже родились, нам
следует как можно скорее внести ясность в другой вопрос -- что будет с нами
после нашей смерти". Только спустя много лет он догадался, что эти два
вопроса тесно связаны друг с другом. Все молчаливые мыслят неторопливо.
I
Молочные норы
Пока тело небольшое, лучше всего собирать коллекции. Собирать ключи,
ордена, открытки, монеты, почтовые марки, бутылки. Или вырезки из детских
книжек с изображениями земляного грунта в разрезе, так что видны туннели,
ходы и интерьеры нор и норок. Норки обставлены шкафчиками, диванами,
освещены лампами в уютных оранжевых абажурах. Видно, как лиса спит в
кровати, подложив собственный хвост под голову и заговорщицки ухмыляясь.
Медведи лежат в снежной утробе, в синем освещении, накрывшись многослойными
перинами. Спит заяц, сняв свои дряхлые белые валенки и положив очки на
тумбочку. Квартиры есть не только под землей. В дуплах расположились совы и
белки со своими книгами, рецептами, ковровыми дорожками и креслами. Вот мышь
в красном переднике собирается покормить своих мышат: они сидят за столом, а
она вносит на подносе крупные чашки -- красные в белый горошек. В чашках
что-то белое, дымящееся. Наверное это горячее молоко, которое полагается
пить перед сном.
I
По весне-то спится сладко в крепдешиновом пенсне
И во сне поет лошадка на сосне.
Даже если кто-то скажет: "Котик! Микроогород!",
Он потом тебе расскажет, что за Овощ там нас ждет.
I
Аллегория милосердия -- молодая женщина, кормящая грудью старика. Образ
католического происхождения. Тюремное окошко, забранное решеткой, напоминает
о подобных окошках в католических кабинках для исповеди. Сквозь решеточку
Уста поверяют свои тайны Уху. Сквозь решеточку Уста приникают к Соску. Уста
старика приникают к соску дочери. Таким
образом, старик становится на место своего внука. Милосердие это
реверс, обратный ход, возвращение, повтор. Своими сморщенными губами старик
нажимает на розовую кнопку, предназначенную для губ младенца, для губ
любовника. И все исчезает для того, чтобы через секунду возникнуть вновь --
точно таким, каким было несколько мгновений тому назад.
I
Дезинтеграция
Так называемое "бессознательное" это всего-навсего множество
ворчливо-вежливых, маразматически-шутливых голосков, которые, как комариные
облака, плывут и вертятся над обширным одиноким болотом, которым является
человек. Если прислушаться к их "разговорам", то можно заметить, что они все
время что-то куда-то пристраивают с поразительной заботливостью. Верно, у
них действительно целое "хозяйство" находится под присмотром.
Джанни Родари
Вот это домик для головы, для головушки конурка, изволите видеть, такая
бревенчатая, теплая. Хорошее, сухое бревно тепло сохраняет лучше всякой
печки.
Это для ног избушка: ногам нужен и уют, и свежий воздух.
А здесь у нас ручонка будет жить, такой загончик для нее обустроен, как
в зоопарке почти. Тут и забор, и воротца есть, и фонари...
А вот плечо у нас в таком вот вигваме размещается, или в юрте -- даже
не знаем, как лучше сказать...
Локоть-локоток... Он в ангарчике таком, ну что-то вроде депо...
I
Молодость
Два человека по очереди ныряют в огромный чан с кипящим молоком. Первый
выныривает преображенным -- он приобрел вечную молодость, красоту и крепкое
здоровье. Второй вообще не выныривает -- он исчезает в молоке,
"сваривается": "...прыгнул в чан и в миг сварился..." Так это описывается в
"Коньке-горбунке" и в других сказках. Молоко, питание для младенцев,
используется здесь как средство омоложения и как средство казни. Впрочем,
можно сказать, что "сварившийся" тоже "омолодился" -- но только глубже, чем
его предшественник, до стадии предрождения.
"Молодость" происходит от слова "мало". "Молодость" означает "мало
даст", поскольку молодость паразитарна, она берет, и берет много, дает же
взамен мало. Вынырнувшему молоко дает молодость, но дает мало -- в виде
отблеска, сияющего на его лице и теле, пусть вечного, но все же лишь
отблеска. Это происходит просто потому, что молоко само молодо и может
давать только мало. Если же оно вдруг "дает много", то уже не выпускает из
себя -- человек возвращается навсегда в свое "кипящее начало".
I
Дама + джентльмен = священник
Картина "Неравный брак" Пукирева, находящаяся в Третьяковской галерее,
содержит в себе простую геометрическую фигуру -- два треугольника,
складывающиеся в ромб или же в квадрат.
Первый треугольник -- так называемый "любовный": муж, жена, любовник.
Муж и жена показаны в момент, когда они становятся мужем и женой -- в момент
венчания. Старый муж, молодая несчастная жена, молодой и гневный любовник.
Этот треугольник дополнен другим -- муж, жена, священник. Действительно,
если совместить фигуры дамы и джентльмена в одну фигуру, то мы получим
священника -- цилиндр, наслаиваясь на шляпу с вуалью, даст камилавку.
Сюртук, совместившись с длинным платьем, даст рясу. Если любовник это фигура
вычитания (жена вычитается из мужа), то священник -- фигура сложения,
недаром он вооружен знаком плюса -- крестом. В поэме "Знак" фигуры
священника и любовника соединяются в одну фигуру: квадрат складывается по
диагонали и снова становится треугольником.
I
Приготовления к оргии
Зиккурат! Зиккурат!
Аккуратный зиккурат!
Оргию решено было устроить в здании бывшей школы -- стандартное здание:
два одинаковых блока, соединенные стеклянным коридором. На втором этаже
второго блока имелись два больших зала с огромными окнами -- бывший актовый
зал и бывший зал для занятий физкультурой. Залы были, в общем, в хорошем
состоянии, но все же кое-где проступали следы обветшания. В актовом зале, в
углу, валялся золотой пионерский горн, за дощатой сценой стоял стыдливо
сдвинутый туда белый бюст Ленина. В физкультурном зале, как и во всех
физкультурных залах, лежали сложенные большими стопками кожаные маты,
пылились шведские стенки и другие гимнастические тренажеры. Решено было
сделать во всем здании ремонт. Бригада из Финляндии быстро справилась с
задачей. Поскольку было начало сентября, в залы внесли множество старинных
медных тазов, начищенных до блеска и наполненных различными сортами яблок --
в тот год был отличный яблочный урожай. Что же касается цветов, то в их
отношении решили проявить сдержанность -- ограничились огромными букетами
белых хризантем и астр. Роз не было вообще. Актовый зал украсили
знаменами: здесь были всякие -- и советские парадные из красного
бархата, и императорские штандарты, расшитые парчой, и российские шелковые,
с золотыми кистями, и отмененные флаги бывших республик СССР и
социалистических стран Европы и Азии, а также новые флаги этих государств.
Были также старинные флаги -- копии знамен и штандартов Наполеона. Бюст
Ленина, скромно выглядывающий сбоку из-за занавеса, был полностью увит
орхидеями. Стены актового зала были затянуты красным бархатом, кое-где
стояли большие живописные полотна -- именно стояли, а не висели: как будто
их только что закончили. Это и в самом деле было так, они даже источали
запах масляной краски и скипидара. На одном из полотен изображен был король
экзотического острова -- толстый мулат в камзоле XVIII века, простирающий
руку над порослью крошечных манго вых деревьев. За его спиной застенчиво
улыбались восемь его дочерей. На Другом полотне изображен был хоккейный
вратарь, облаченный в свои тяжеловесные доспехи, приготовившийся оборонять
ворота своей команды. Третья картина была портретом девочки-фигуристки на
коньках, в коротком платье, которая с испуганным и почтительным лицом
склонялась над божьей коровкой, сидящей на кончике ее пальца. На льду,
лезвиями коньков, было написано:
Улети на небо, принеси мне хлеба
Черного и белого, только не горелого.
Физкультурный зал оставили совершенно белым, пустым, без каких-либо
украшений. Шведские стенки, тренажеры и маты -- все осталось на своих
местах. Здесь устроители ничего не прибавили от себя.
Кроме простого дачного рассохшегося деревянного столика в углу, на
котором стоял большой медный самовар с чаем. Там же горкой возвышались чашки
для чаепития -- все специально подобранные немного попорченными, с
коричневыми трещинками, пересекающими иной раз синеватый цветок на
фарфоровом боку чашки. Здесь же находилось серебряное блюдо с лимонами и
хрустальная сахарница, наполненная кусковым сахаром. Под столиком десять
железных ведер, наполненных холодной водой из святого источника. Кроме этой
холодной воды, которую можно было черпать железными кружками, горячего чая,
яблок и молока, налитого в хрустальные бокалы, не было поначалу никакой
другой еды и других напитков. Не было алкоголя, никаких табачных изделий, а
также никаких наркотиков -- все участники оргии должны были быть трезвыми,
чтобы не повредить эффекту оргиастической свежести.
Что касается музыки, то негромкая китайская музыка доносилась из-за
белого шелкового занавеса, прикрывавшего вход в бывшую раздевалку. Эта
музыка, в общем-то, ничем не отличалась от тех обычных неторопливых мелодий,
которые звучат в китайских ресторанах.
В школьном вестибюле, в рамах были развешаны совершенно свежие
медицинские свидетельства, удостоверяющие полное здоровье всех участников
оргии, чтобы мысли о передающихся болезнях не внесли привкус мнительной
горечи в сладость совокуплений. Рядом со свидетельствами висели фотографии
участников, снятые тогда, когда они еще были детьми, и все -- на фоне моря.
Оргия началась в восемь часов утра. День был солнечный, как бывает в
самом начале осени. Огромные окна были открыты, и солнце заливало оба зала,
вспыхивая слепящими пятнами в золотых тазах, вазах, горнах. Оргия всем
понравилась. Некоторое время спустя хотели было устроить еще одну, такую же.
Но одна из девушек уехала с родителями за границу, и устроители сочли
кощунством приглашать вместо нее другую. Повторить оргию можно было бы
только в прежнем составе. Поэтому ее решили вообще не повторять.
I
Зевс-Оплодотворитель
Отчасти опасаясь ревности своей жены Геи (которую мы, в соответствии с
коперникианскими представлениями, можем представить себе шарообразной),
отчасти усыпляя девическую бдительность своих возлюбленных, Зевс, как
известно, совокуплялся с нимфами и человеческими девушками в различных
обликах, часто неантропоморфных. В результате этих священных соблазнений и
полуизнасилований нередко рождались локальные божества, бессмертные, монстры
и непостижимые существа, которых неизвестно даже к какой категории можно
отнести.
Он совокуплялся:
В облике облака.
В облике мраморной колонны.
В облике быка.
В виде дождя.
В облике дачного домика.
В виде овала.
В виде мешка с подарками.
В виде круга.
В виде тропинки.
В виде квадрата.
В виде шубы.
В виде треугольника.
В виде волчьей ягоды.
В виде куба.
В облике развевающегося знамени.
В виде реки.
В облике меда.
В облике мраморной ванны, наполненной молоком.
В виде числа 87.
Уступчивость, рассеянность, отсутствие бдительности (по отношению
к вещам и животным) обеспечили соблазненным девушкам и нимфам бес-
смертие и вхождение в Пантеон.
I
Девушка в треугольнике и Мать Матери
Героиня эротического романа "Эммануэль" по профессии математик. Хотя
автор романа -- Эммануэль Арсан -- упоминает об этом вскользь, это
обстоятельство все же накладывает нестираемый отпечаток на все похождения
девушки Эммануэль. Ее бесчисленные совокупления тщательно сосчитаны. Это
повествование можно было бы считать порнографическим, если бы оно не было
насквозь пронизано одной лишь страстью -- страстью к абстрагированию. Схема
-- вот то, что с древних времен возбуждает бо-
лее всего.
Имя девушки -- Эммануэль. Иммануил -- пренатальное имя Бога. Оно
означает "С нами Бог". "Бог.уже с нами", потому что он уже воплощен, он уже
среди нас. Но "Бог еще не совсем с нами", потому что он еще не родился,
находится в материнской утробе. Роман "Эммануэль" заканчивается следующей
сценой.
Проведя ночь со своей любовницей Анной-Марией, Эммануэль идет к морю,
оставив другую девушку спящей. В море она встречает трех мужчин-близнецов,
похожих друг на друга, как три грани равнобедренного треугольника. Эммануэль
совокупляется с ними одновременно, как бы вписывая себя в этот треугольник.
Затем, удерживая сперму одного из них во рту, она возвращается в комнату,
где спит Анна-Мария. Опустившись на колени, Эммануэль вдувает сперму во
влагалище Анны-Марии, чтобы оплодотворить ее. Она зачинает саму себя.
Так возникают дети.
1996
Супы
"Поди прочь!" -- прикрикнули на него из-за леса. Он, будучи покорным,
завернулся в замшелую ткань навеса и, отметив, что ночь наступила, взобрался
на светило одноногое, которое фонарщик оберегал, как особенно дорогое ему
существо. Обиженный молвил "Помаленьку!" и пошел туда, где видел деревеньку,
которую два беса баюкали, завернув в снеговые перины: на краю большой льдины
два кота мяукали. И в светящемся окошке черт показывает кошке, как младенцу
в ушко капнуть зла капельку. И, взобравшись на крышу, утверждает "Не
слышу!", хотя прекрасно слышит ушами крашеными, как плачет младенец,
испуганный внезапными снами страшными. Что старуха, где она? -- в бледный
сон погружена. Лампу схватим и бегом, где холодный водоем, там будем муку
есть из мешочка. Ты пляши по снегу, кошечка, а тот кот и тут и там робко и
страшно кряхтит по пятам. Ты не смейся и не пой, ты иди на водопой и там
ножом убейся. Но, забравшись в мохнатый уют, хохочут те, кто в норах свои
зимние песни поют. Что ты плачешь, малый мальчик, что ты слезы льешь, али
пальчик с иглой перепутал, или видишь кровавый дождь? Снился сон мне, право
слово, не видал я сна такого. Ты не бойся, хлопец малый, ты усни, усни и
огонь, пусть во тьме облезлый конь сам гуляет по доскам устало. И чего
только в пору ночи к нам в поры проникнуть хочет? О бабушка, бабушка, свари
нестрашный супок, но яда туда не клади, а то ведь пропела кукушка мне всего
один годок. Брось, брось такие мозга выдумки, задуй ненастное окно, где
снежные гуляют недоумки. Ты еще снегирей увидишь на своем веку, а я тебе
пока супок сварю, пирожок спеку. Когда качалась колыбель, а за окном, как
бумага, шуршала метель и дед мороз хрустел смешно и тупо, приснился сон о
падении (с огромной высоты) какого-то трупа. На бревнах стен лежат сухие
тени -- "Вот здесь" -- показывает он на свои тонкие колени -- "Лежало тело".
Старуха качает головой, которая вся поседела -- что под этим покоробившимся
лбом течет и варится? "Он не жилец" -- она думает и улыбается. Она огорчена,
но варит суп и пирожок печет она, а в желтоватую уютную начинку вкладывает
яда крупинку. Уже готово, не плачь, маленький, сейчас остынет: ты еще
тепленький съешь пирожок, а потом заснешь, когда заиграет рожок. Тревога
образовала шар пустоты в том месте, где последнее снизу ребро. Я помню, как
летом цвели кусты... Слова ребенка звучат глухо, холодно кивает большая
старуха. Не есть ли слова "Ешь, ребенок" -- страшная весть, случайно
услышанная спросонок? Пусть играет степь и лес, пусть полощется навес, а из
похлебки чечевичной глядит домик с крышей черепичной, а на ложку тяжко
смотрит безумный бедняжка. Ты, мой мальчик, спи, не дрема, пусть с тобой
уснет солома, и у дальнего болотца загрустит мохнатый молодец. Будет завтра
день морозный, бабка морщит лоб венозный. Сволочь бродит изнутри, волчий
голос: "Отвори!" Дверь задвинем сундуком и чугунным колобком, пусть волчарка
ходит кругом вместе с белоснежным другом.
Ни пинчер, поводок рвущий, на паводок ревущий, ни добрый карман с
мягкой грязью внутри -- если хочешь войти, то лучше улыбку сотри, как
слякоть с подошв ботинка, иначе треснет картинка. Снежок устилал
многократность встреч с дворником, который у ворот дал новый пространству
поворот. Он в крови был, кричал "Не надо!", но темнели контуры сада. Вечер,
вечер, куда ты спрятал то животное, которое клювом проткнуло живот и
действовало как лекарство рвотное? Лекарь, лекарь, поспеши -- прибежали
малыши из болезненной глуши, ты им соли пропиши для истерзанной души.
Пекарь, пекарь, припеки, словно солнце наливное, из коричневой муки сделай
тесто земляное. Купальщик безумный заплыл за линию буйную, смирительную
рубашку на него пенную, изумрудную! Поле справа рассмеется; тут и слава к
умершему вернется, чтоб завыл, да заплакал, да покрылся бы синькой, да с
могилки качал бы своей керосинкой. Ах-ах, мертвей в слезах, муравей на
слезинке, кости в корзинке! Этим клеткам светит плаха, взмокла на небе
рубаха, дождь он бы хотел, но только не уверен насчет костра, вышел и принес
железного монстра. Отдохни, мой милый уродец, взгляд двух ноздрей твоих --
двойной смертный колодец, носик железный протерли тряпицей -- я лучше бы
сделался одноногой девицей, чем плыл бы вдоль берега без конца и скамейки
под взглядом этого лица величиной с три копейки. Лесок человека, костер
дровосека, сварганьте ушицу, отец, мы вас просим, ведь мы вам ежегодно
приносим на летней полянке безболезненный жизни конец. Вижу пятнышко мрака
на куполе, а в поле колышутся тополи. Вы только бы слышали, старче, как они
топали и лопаткой в зем-ицу стукали! Кого там хоронят, скажите, любимый!
Мошкара как вуаль на ландшафт наброшена, лицо пейзажа слегка перекошено, но
кто-то ответил: "Пришли мы". Я гулял за воротами, был встречен снегопадами,
термометр в пальцах держал, как склизкий и хрупкий кинжал, был тридцатью
восьмью и восьмью спрятан под плед, и, смущая семью, спрашивал: "Где
свободный полет того, кто клюв имеет?", и выдавал это за бред и наблюдал,
как за окнами предутреннее синеет. Где бабушка? Бабушка прочла в газете
статью "Безумная скорость инфляции" и вскоре вернулась из реанимации. Что вы
видели там, дорогая? Кремовый куб непрозрачного рая. Вилка в землю
воткнулась, зеленый тупик, здесь и решили устроить пикник. Как поседею, так
домик в тени заимею, и там в покоях древней тины я запою как брат картины. А
у того, кто выглянул из дверцы, уже не бьется сердце. Лаючи, блеючи, бреду
как морок, монах на даче поставил пригорок, поросший травою пустеющей. Щипну
ли газеты укромный кусок, ох, уголок, весь пожелтевший, две буквы "бэ"-"жи",
ты вдаль за мною побежи, поймай, подбрось в бадминтон волнолома -- домик в
колонне, дым и солома.
Белые туфли, прибойная пена, где волноплен, цветок корневого маслен ?
О, моргенштерн, морга звезда, соты медового морта, свекольные красные глазки
курорта. Если старый выйдет человек и сощурит веки пожилые, то увидит, как
на белое тело луны легли валуны. Всем дорог корыстного лета упрек: тот, кто
из вас откроет снова закрытое тело знакомого, тот обретет в пространстве
слова и плеск и золота раскованного: он будет прыгать, будет весел у верных,
у столярных кресел. Слышен скрежет перепонок -- это найден потерянный в супе
ребенок. Есть и будет чемоданчик, вокзал: как больно ты меня наказал! Ты мне
зубик из нежного неба выдернул, ты мне руку в локте вывернул, ты на острые
камни дорожки опрокинул нестойкие ножки. Я бы надкрылья свои раскрыл бы, я
бы лапкой оттолкнулся, я бы взвился, я взлетел бы, я бы в небо обмакнулся.
Но благо родное есть червь из трубы, и нету покоя помимо судьбы. Я хочу,
хохочу и пусть полечу, но только после того, как звякнет звоноче: не на
кочках, не на травках, на веселеньких отравках, будем, будем суп варить, я
хочу мешок купить, а в мешке кота без голоса: в супе все есть, кроме волоса.
Пока в нас все старое молодо, побежим по дорогам разумного голода. Ведь яд
везде, везде, везде--в салате, в супе, в твороге. Будь ты мудр или туп, всех
потом положат в суп. Будь уверен, под конец подбежит к тебе супец. Было
твердое, святое -- будет, будет разварное! Конус, куб, цилиндр, шар -- всех
их скроет жирный пар. Без горячего супца нет ни деда, ни отца, без горячих
сочных штучек нет ни бабушек, ни внучек. Суп на первое -- понятно, на
послед-ее -- приятно. Сквозь давилку пролезая, нашинкована спеша, овощная,
молодая, злится свежая душа. Тело доброе уходит без упреков и без слез,
только жирный пар наводит тень на кущицы берез. Если греешь ноги в супе,
значит, будет день удач, значит, будет пестик в ступе и собаки возле дач.
Если сунул ноги в щи, в небе душу разыщи, загляни в ее глаза, ставь
свечу под образа. Если ноги в борщ вложил, не спеши, не ворожи, не пускай в
избу колдунью, колдуна гони взашей, ты возьми-ка шубку кунью и курманы к ней
пришей! Если под ногтем окрошка, погуляй в лесу немножко: как увидишь сруб
лесничий, разразись там песней птичьей, чтобы вышло на крыльцо золоченое
яйцо. В голом ельнике свекольник ты попробуй, не ленись, а иначе бледный
школьник покушается на жизнь: он в петле повиснет тяжко, как большая
бандероль, и не первый год бедняжка исполняет эту роль. Если в супе нет
сметаны, значит, нету в жизни сна: скоро будут бабы пьяны, начинается весна.
Для народа смерти нету, для народа есть конец, потому колхозных старцев
называют здесь "супец". В холодном супе пятна туши, в тюремном супе зреет
сода, твои шаги звучали глуше в тенях рояля и комода. В ухо, в ухо рыбака
прошепчи "Уха, уха!" -- если ухо отвернулось, значит, рыбка не проснулась.
Ветры корта вздуют сетки, монахи снова гладят четки, я -- разум розовой
креветки, на жирном супе тень от плетки. Попросим ложечку вмешаться, и нам
попросим помешать: чтоб слаще было целоваться, нам надо проще, ближе стать.
Эта ложка деревянная, эта ложка расписная, будет нашу массу трогать на пару
с ломтем каравая. Вмешается половник -- тяжелый, словно слиток, он будет,
как русский полковник, стоять средь цыганских кибиток. Сквозь золотое
кружево бульона виднеется фаянсовое донце, оттуда смотрит изумленно
дворянский герб: перчатка, меч и солнце. Мы все съедим друг друга, мы все
съедим себя, велосипед в глубины луга прошел сквозь кисею дождя. Мне
позвольте уклониться, мне позвольте пренебречь, я тот самый, что с копытца
начинает супом течь. Зловещий По нам перед сном шептал, что господина
Вольдемара (который тоже супом стал) постигла дерзостная кара, что есть
слова "кастрюля на плите", что есть слова "плита, плита могильная", что
плиты есть... что плиты есть не те, что пену жирную смывает пена мыльная.
Если ядом полон суп, значит, вскоре будет труп. Если ложку наточить --
получится заточка, если мужа надрочить, то родится дочка, если дочка плюнет
в суп, вся семья хохочет, а затем в дремучий сруб все приходят ночью --
посидеть, поговорить, посмотреть на землю, ядом почву окропить, тихо ахнуть
"Внемлю". Та капля датского князька в ущелья уха медленно стекала, смеялся
тихо Клавдий, и Сальери тряс перстнем над сверканием бокала -- мир
отравителей, как он предельно прост, как отвратителен и точен: желудки
жертв, долины мертвых звезд, старинный справочник, визит в аптеку ночью.
Ведь яд везде, везде, везде -- в усах, на пальцах, в бороде. Кусок
картошечки в горячем остром супе нежней Офелии и более доверчив: если его
исследовать под лупой, то видно, что он бережно наперчен.
Если рота погибла в траншее, вся как есть полегла на корню, если полк
словно зерна на поле засеян, так что нет развлеченья гонцу и коню, если даже
дивизию взяли на марше, истребив промежутки воинственных тел, если маршалы
молча становятся старше, если за два часа государь поседел, значит, снова
над миром кулинар наклонился, тот таинственный повар, искусник лихой: он
готовит супы, он давно изощрился в этом деле -- не скоро уйдет на покой.
21 июня 1983
Яйцо
Али талии тонкой мелькнут в зеркалах отраженья,
"Алиталия" в воздух поднимет свои самолеты,
Над коврами земли, над лугами небес совершая круженье,
В темных заводях Леты свои оставляя заботы.
Капитан Двадцать Восемь вызывает по рации землю,
Но ему отвечают лишь музыкой и канонадой.
Капитан Тридцать Три произносит "Не внемлю. Не внемлю".
Он теперь много спит. И во сне он, наверное, видит парады.
Да, я тоже хочу на парад, на Девятое Мая,
Чтобы шли мы с тобою, как малые дети, за руки держась.
В темном небе салют. И над этим салютом взмывая,
Будем плыть мы с тобой, над землею и небом смеясь.
Ветераны нам будут махать золотыми флажками,
И на башнях кремлевских в тот день парашюты раскроют зонты,
Будут плыть самолеты, будут танки струиться под нами.
Ты со мной? Ты со мной. Вот рука и мосты.
Здравствуй, город Москва. Я люблю твоих девочек нервных,
Я люблю твои темные воды и великих вокзалов кошмар.
И тебя я люблю. Ты меня тоже любишь, наверное.
Обними же меня, ибо скоро я сделаюсь стар.
В синих тапках я буду сидеть на веселом диване --
Весь седой и улыбчивый, словно Будда, что съел пирожок.
И земля с небесами будут вместе смеяться над нами.
Потому что мы глупые дети. И в руках наших красный флажок.
В тот восторженный день, залитый победным солнечным звоном, святые
невидимые существа распахнули оконце, спрятанное в небесах, и какой-то
дополнительный воздух стал падать на Красивое Подмосковье огромными
охапками, хрустящими, свежими и холодными, как зимние пакеты со
свежевыстиранным и окрахмаленным бельем. Огромный город, скромный,
величественный и страшный, как худенький труп Суворова в бревенчатой
горнице, лежал на своих вокзалах, где губы ежесекундно сливались с губами,
создавая прощальные поцелуи. Как некогда колоссальный, толстый, раздувшийся
и одноглазый труп Кутузова, висело небо-победитель, сверкая своими
Голенищами. Как собранный воедино труп Нахимова шла мимо река. Как генерал
Егоров стояли ликующие дома. Боже, сколько было цветов! Как больно визжали
от восторга все вещи в предчувствии весны! Помнишь, так же капал дождь много
лет назад? Что такое "душа"? Не произошла ли она от "удушья", от "душить"?
Теперь более не было душ, потому что вместо них был воздух -- и дышать можно
было без ограничений, с наслаждением, как будто в ветер подмешали сахар и
тазепам. Киевский Вокзал! Белорусский вокзал! Украина! Белоруссия! От
Киевского вокзала, от его орлов и пыльных стекол, идут пригородные поезда.
От Белорусского, от его необъяснимых пустых ниш, от его зеленых простенков,
напоминающих об ужасе одинокого железного дровосека, попавшего наконец в
Изумрудный Город, тоже идет ртутный поток, уносящий с собой вагончики --
вагончики, вагончики... С тех пор, как о них писал Блок, исчезли желтые и
синие, которые молчали, исчезли страны Жевунов и Мигунов (Украина и
Белоруссия), остались только зеленые, русские, в которых плакали и пели, и
до сих пор плачут и поют.Остался Город -- Великий, Изумрудный, Увенчанный
Рубинами. Которые как рубины в часах. Остался Разум и Изюм, осталось
Изумление. Два железных потока идут от двух вокзалов, чтобы разойтись в
разные стороны -- один пойдет на Запад, и другой пойдет на Запад, но южнее.
Но, прежде чем разойтись окончательно, они почти сходятся в прекрасном и
веселом Подмосковье: в этом месте между ними остается промежуток, который
долго был нашими угодьями -- угодьями наших прогулок, нашего отдыха, наших
сердец.
Мы жили в Переделкино, в писательском поселке, в дачном доме,
аккуратном и просторном. Мы занимали его по праву, он принадлежал нашему
дедушке, и мы обитали в нем -- мы -- внучки писателя, написавшего "Блокаду",
написавшего "Парней с Торпедного". Наш дед, уважаемый всеми, обожаемый нами
-- начальственный, озабоченно-шутливый, справедливый. Наш преданный сторож
Семен Яковлевич, который нередко раскачивал нас на своих могучих руках. И
наконец мы -- Настя и Нелли Князевы, однояйцевые близнецы, смешливые
сероглазые копии друг друга.
Когда мы были малы, наши нежные светлые волосы были заплетены в тугие
косички, но пришло время им лечь вдоль наших стройных спин вольными волнами
-- эти две волны, живые, как платина Рейна, видимо, могли взволновать
кое-какие пылкие души, но "души" от слова "душить", мы предпочитали теплый
дачный душ -- мы любили нежиться под его капризными колючими струйками, стоя
вместе, тело к телу, так что соски касались сосков, стоя на мокрой
деревянной решетке, сквозь которую (сквозь медленно набухающую, блестящую)
водяные косички уходили, извиваясь и шепча молитвы, в металлическое
отверстие водостока. Мы смеялись над мужчинами, над женщинами, над душами и
телами -- нам никто не был нужен, только мы сами, наш котенок, наш дедушка,
наш сторож, только лепет елей, только старые книги в шкафах, только
благовония, привезенные из дальних стран. Только переход зимы в весну, весны
в лето, лета в осень, осени в зиму. Только смена дня и ночи.
Другие девушки, не столь счастливые, часами стоят перед зеркалом. Вот
она стоит, одинокая, испуганная -- протягивает руку, но... Пальцы
наталкиваются на стекло, которое даже рассмеяться или поежиться от щекотки
не умеет. Мы же -- живое зеркало друг друга, и никакая амальгама, никакая
пленка, ничто не в силах встать между нами. Жизнь это ветер. Ветер,
сметающий все. Счастливы те, что сметены вместе. Счастливы двое, крепко
сжавшие друг друга в объятиях. Двое -- только двое -- могут ответить на
ветер -- вихрем, на удар -- ударом, на слезы -- смерчем, на смех -- хохотом.
Мы, внучки писателя, взращенные среди тропинок, веранд и заборчиков самой
Литературы, конечно, желали и сами стать писательницами. Литература нашего
деда и его друзей в ту пору не удовлетворяла нас -- мы уважали ее, но не
более. Глупенькие! Только сейчас мы начинаем понимать скромное величие,
которое спрятано было в той литературе -- ныне проклятой и забытой. Наш дед
и его круг -- то были аскеты, Большие Аскеты, и даже оргии их были оргиями
аскетов. Они-то понимали, что такое человек и что такое Государство. Они
знали, что такое Страна, Народ, они понимали, что означает слово Война. Они
понимали, что человек себялюбив и подл, но есть то, что больше человека, и
Оно творит чудеса с его душой и телом. Они понимали, что такое малое и что
такое Большое. Они считали себя в глубине души малым, бесконечно малым, но
они полностью отдали себя в распоряжение Большого. Дед наш говаривал: "Силен
тот, кто знает, где Сила". С нами не поделились аскезой, нас лелеяли, мы
были девочки, внучки -- нам было далеко до замаскированных, искусно
припорошенных пылью высот и глубин социалистического реализма, до этих
подлинных драгоценностей Самоотречения. Мы тогда учили французский, мы
обожали Пруста. Пруст -- волоокий, с маленьким лбом, с зализанными волосами
-- был нашим богом. Мы и сейчас его любим, этого проницательного астматика:
из удушья рождается душа, а когда удушье становится хроническим, душа
разрастается и занимает весь мир. Мы же предпочитаем обходиться без души.
Зачем она нам, когда у нас есть два горячих сердца, которые бьются в унисон
-- два сердца, составляющие столь же блистательную пару, как Фрэд Астэр и
Джинджи Роджерс? Пусть мир останется пуст (в детстве мы картавили и вместо
"Пруст" говорили Пуст), пусть небо молчит, пусть все дышит -- не станем
душить их. Пруст, как и писатели-соцреалисты, был героем Самоотречения: в
его случае оно переходило в самопожертвование -- он принес себя в жертву
Памяти, он пытался, как настоящий герой, вставить палки в колеса Богов,
которые предпочитают Забвение.
Наши первые литературные опыты были подражаниями Прусту. Вдохновленные
описаниями прогулок из "В сторону Свана", мы пытались описать столь же
подробно и трепетно наши собственные прогулки: эти описания впитали в себя
географию наших угодий -- промежутка между линиями двух железных дорог, двух
желтых дорог, уходящих в страны Жевунов и Мигунов. Любовь заставляла нас
писать -- любовь к местам, к освещениям, и к себе, к двум фигуркам, бредущим
по кусочку своей Родины в изменяющемся свете. Мы описали кладбище на холме,
куда поднимались мокрые земляные ступеньки, и склоны, посыпанные
кладбищенским мусором, словно кладбище испражнялось здесь, отрыгивая
сплющенные венки, гниющие бумажные цветы и пустые обелиски. Мы проходили,
взявшись за руки, меж могил, и надгробия провожали нас честными и добрыми
взглядами своих овальных фотографий, этих тусклых и блестящих окошек, откуда
смотрят умершие, навеки застыв перед фотографом, который накрыл себя своей
темной пеленой, чтобы стыдливо совокупиться во тьме со своим аппаратом и
стать Смертью. Далее был зеленый луг, и там мы фотографировали черно-белых
коров.
У нас тоже, как и у Смерти, был фотоаппарат -- отличная машинка, но мы
всегда забывали проявить снимки; так они и остались валяться по комнатам
темными катушечками отброшенных воспоминаний. Мы описали церковь и
резиденцию патриарха. Описали станцию с урнами в форме пингвинов -- их полые
крашеные тела изнутри были изгажены плевками, окурками, скверной, но мы не
протестовали, изумленные святотатством этого замысла: копить грязь в
пингвинах. Это как плевать в ангелов, ведь пингвины это ангелы. Река Сетунь,
ветлы, наклонившиеся над ее пенными водами, и красные железные мостики,
напоминающие о китайских шелкографиях.
Были и другие направления. Прогулка в сторону Мичуринца, сумрачная,
словно бы пропитанная поминальным запахом мичуринских яблок. Там, помним,
нравилась нам черная гнилая деревянная водокачка -- столь мрачная, что
кладбище по сравнению с ней было как бал-маскарад. Прогулка в сторону
деревеньки, вдоль пруда, мимо холма, где установлен был гонг -- ржавая
рельса, подвешенная между двух столбов. Сквозь лес и далее до самой
белорусской ветки, до Баковки. Этот гонг мы называли Гон-Конг. Мы гуляли с
дедушкой, гуляли одни, но постепенно сделались еще прекраснее и незаметно
вступили в тот возраст, когда мужчинам стало прилично ухаживать за нами.
Уединение детства уступило место общению. Тут появились хождения в гости,
посещения писательских дач. Ровесников своих мы не очень любили, они порою
бывали немногословны, а молчания мы не прощали -- мы сами любили молчать и
слушать, крепко взяв друг друга за руки. Поэтому мы предпочитали писателей.
Незаметно мы оказались в вихре небольшой светской жизни дачного поселка. Мы
посещали дом покойного Чуковского, сидели в креслах карельской березы,
рассматривали оксфордскую мантию. Дочь Чуковского, принадлежавшая к
диссидентской среде, относилась к нам, внучкам автора "Блокады" и "Солнца",
сдержанно, с холодком. У нее собирались враги правительства. Быстров, один
из наших "пажей", водил нас туда. Тогда мы не думали об этом, а теперь
понимаем: те люди, жалкие и отважные, были героями -- героями, над чьим
героизмом жестоко подшутила история. Их подвиги расшатали великую страну,
проложили путь для власти торгашей -- эти моралисты обеспечили победу
цинизма, эти серьезные, не умевшие улыбаться, порвали Священный Занавес, и в
прорехах Завесы обнажилась перед миром колоссальная, чудовищная ухмылка --
обезоруживающая, обаятельная, заразительная, и мир оледенел и в глубочайшем
ужасе осознал, что времена, когда что-либо еще могло называться "нешуточным"
-- те времена со свистом канули навсегда.
Мы посещали старика Катаева, посещали коричневую дачу Пастернака,
посещали его соседку Тамару, властную, хорошо сохранившуюся старуху, которая
была вдовой Всеволода Иванова, а еще до того -- вдовой Бабеля. В холодном
кабинете ее сына, известного структуралиста, возлежали автомобильные шины.
Старик Каверин тогда затеял зачем-то изучать французский, и, встречаясь с
ним, мы старались беседовать на этом языке. В доме писателей часто болтали
мы со стариком Арсением Тарковским -- его едкости заставляли нас звонко
смеяться. Да, очень старые мужчины, такие как Катаев, Каверин, Тарковский,
светские люди старой школы -- они мастерски развлекали нас, демонстрируя
свою ветшающую отточенность, свой блеск и свой яд -- яд и блеск старцев, еще
не вполне забывших свои пажеские и кадетские корпуса, свои выпускные
гимназические балы, еще помнивших румяных сестричек милосердия Первой
Мировой, затянутых портупеями сестричек Великой Отечественной. С людьми,
которые знают, как поднять взвод в атаку, которые умеют танцевать мазурку, с
людьми, для которых слово "Россия" -- не пустой звук, с такими людьми
девушкам не скучно, с такими людьми можно посмеяться. Более молодые ошалело
вертелись поодаль, ежась, как шакалята. Нам нужна музыка, нам нужен уксус,
нам нужен свинг! Налейте нам еще немного лимонного сока, трухлявые сфинксы!
Но постепенно выделились из среды других кавалеров двое, которые были
помоложе, особенно верные, преданные. Это были Коля Вольф и Олежка Княжко.
Коля Вольф появился первым и быстро стал нашей тенью. Молодой писатель и
литературовед, он был не очень нам интересен, прост, суховат и часто шутил.
Мы ненавидим юмор, мы любим смех. Юмор -- враг смеха. Олежка Княжко -- тот
был постарше, лет тридцати пяти, он был непрост, и мы сразу заприметили в
этом пухлячке, в его овальных глазках, похожих на крошечных рыб под
увеличительным стеклом, -- сдержанное ликование, похожее чем-то на с трудом
сдерживаемый хохот. Это признаки владения тайной, причастности к секретам.
Посвященные иногда бывают такими -- набухшими, брызжущими. "Мы с вами почти
однофамильцы. Вы -- Князевы внучки, я -- князек. Затеемте сословную дружбу",
-- сказал он, знакомясь. Люди обычно бродят взглядом по нашим лицам, нервно
перескакивая с одного личика на другое. Княжко, беседуя, смотрел между нами,
как будто обращаясь к ручейку пустоты, что протекал между нашими одинаковыми
и прекрасными телами. И только потом, сбоку, он окидывал нас сообща одним
широким, искрящимся, радостным взглядом -- взглядом похотливым и влюбленным
одновременно. Вскоре он посвятил нам стихи:
Ветер темный, ветер сладкий
Сахар, сахар на ветру
На лошадке картонажной
Еду сквозь лесную тьму.
На лошадке картонажной
В гладкой коже экипажной
Еду сквозь лесную тьму
Неподвластную уму.
Где-то ждет меня домишко.
Оживет в сенях умишко
Зацветет зеленый ум
В сочетаньях дат и сумм.
Сердце, мозг, рука, колено
Солнце, сон, верстак, полено
Годовые кольца тела
А внутри скелет из мела.
Это школьный, чистый мел
Он -- основа слов и дел.
Слышен голос буратинский:
На экране Настя Кински.
Есть девчонки в русской тьме
Есть у нас другие насти
Словно карты белой масти.
Есть у нас иные нелли,
Словно тени в колыбели.
В их девическом томленье
Растворюсь я без сомненья.
Словно сахарный кусок.
Словно белый поясок.
Коля Вольф и Олежка Княжко пытались делать вид, что они -- не
соперники, ведь их было двое и нас было двое. Но они лгали себе, а такая
ложь долго не длится, ибо что общего может быть между их "двое" и нашим
"двое"? Нас следовало воспринимать как целое. И хотя у обоих не было на
самом деле ни малейшей надежды, древний инстинкт все же заставлял их
ревновать и мучиться. Мы играли этими сердцами, как мячиками.
Впрочем, то была не жестокая игра -- обоим это было в конечном счете
приятно. Сердца мужчин становятся здоровее, сильнее, когда девические пальцы
роняют их, подхватывают, подбрасывают, ловят и снова роняют. Сердца тогда
делаются упругими, их поверхность шлифуется, словно морским прибоем, который
обрабатывает, лаская, прибрежные камешки. Они приобретают форму,
совершенную, яйцеобразную, и любовь уже не гаснет в них, она растет внутри,
чтобы в решающий момент разнести свою изысканную оболочку в мелкие осколки
-- и тогда атмосферический кокон Земли станет чуть-чуть толще, чуть-чуть
прочнее.
Во всем нам нравился порядок. Мы любили расписания. У нас были синие и
красные дни. В эти дни мы одевали одежды, отличавшиеся лишь цветом. Синие
дни -- то были темно-синие пелеринки, синие короткие юбки, синие чулки,
синие туфельки, украшенные бронзовыми шахматны- ми ферзями, синие перчатки с
бронзовыми пуговками, почти микроскопи- ческими, на которых только с помощью
увеличительного стекла можно было разглядеть удивленные трубчатые лики
морских коньков. Синие береты, которые мы иногда меняли на синие матросские
бескозырки, с ярко-красными лентами. Ленты свешивались на спину или ими
играл ветер, и на этих лентах английские буквы, четкие как цифры на
вокзальных часах, складывались в имя Анна Нельсон. В красные дни все было то
же самое, только вместо цвета темных слив, покрытых патиной, был красный
цвет, напоминающий, по нашему мнению, цвет некоторых ягод, прихваченных
первым морозом. И ленты были не красные, а синие. И вместо "Анна Нельсон" на
лентах было написано "Лилли Нельсон". Мы предложили ревнивцам чередование. В
синие дни с нами гулять отправлялся Коля Вольф, в красные -- Олежка Княжко.
Так было, пока неожиданное горе не разрушило Священный Порядок.
Нам было уже 15 лет, но мы не понимали, что наш дедушка стар, что ему
за восемьдесят, а в таком возрасте люди иногда умирают. Мы не знали, что это
возможно. "Дедушка умер". Мы написали эту короткую фразу, но это -- не наши
слова. Это -- не наши слова, и они никогда не будут нашими словами. Мы
никогда не подпишемся под этими позорными словами -- это произошло против
нашей воли, без нашего согласия. И если мы еще живы, то у нас есть право
сказать "Нет". "Дедушка не дышит". Нет. Пока дышим мы, дедушка дышит вместе
с нами, он дышит нашими легкими, нашими жадными горячими ртами. Мы дышим с
тех пор больше, более жадно, нетерпеливо, более страстно, потому что мы
дышим за дедушку. Дышим для него. И друг для друга.
Мы перестали носить синее и красное. Мы оделись с ног до головы в
серое, потому что серый цвет -- цвет правды, знак того, что ложь
небезгранична. Мы шли куда глаза глядят по переделкинским улицам, по
мартовским проселочным дорогам, более не думая о направлениях прогулок.
Сван, Германты, Мезеглиз, Русенвиль, Мичуринец, Чоботы -- все стало нам
едино. Мы только держались за руки -- рука в руке и обе в серых перчатках. И
как-то само собой так получилось, что наши "верные" -- Коля Вольф и Олег
Княжко -- оба, одновременно -- шли по разные стороны, сопровождая нас.
Преданные шуты, не оставившие своего Лира в изгнании.
Не бросившие нас на ветру того марта, не покинувшие нас среди
оседающего, черного снега. Наши прогулки стали тогда скитаниями, слепыми
блужданиями по местности, которая была теперь холодной, топорщащейся коркой
на поверхности пустоты -- чем-то вроде застывшей каши, чьи края уже
потемнели и отвердели, свидетельствуя о том, что этой еде уже не придется
пройти сквозь живое человеческое тело. Ощеренными, добрыми псами следовали
Вольф и Княжко за нашим горем. Мы не сразу заметили их присутствие, мы
успели забыть их лица и кто они в наше горестном анабиозе. А когда мы
заметили и вновь узнали их, то почувствовали благодарность за их фанатизм.
Теперь-то мы понимаем, что они были тогда воодушевлены -- им казалось,
несчастье сделает нас менее самодостаточными. Им казалось -- теперь они
могут стать нужными, а потом -- кто знает? -- незаменимыми. Но и сейчас они
были не нужны нам. Просто мы стали мягче. Чуть-чуть мягче.
Мы увидели, что Коля похудел, перестал шутить и вообще все время
молчит. Раньше мы не потерпели бы возле себя чужого молчания, но теперь мы
снисходительно закрывали на это глаза. Зато Княжко говорил без умолку. И
постепенно мы стали прислушиваться к его речам. Он был веселым и вовсе не
пытался отвлечь нас от мыслей о смерти -- напротив, он говорил только о
смерти, о потустороннем. Тут только мы стали догадываться, зачем он вообще
появился на нашем пути. Мы стали прислушиваться к его разговорам с удвоенным
вниманием и обнаружили, что он сообщает иногда вещи неожиданные и важные.
Как-то раз, темным весенним днем, похожим больше на ночь (Коля заболел и не
смог пойти с нами гулять, и мы втроем шли по черной асфальтированной
дорожке, перерезающей обширный лес пополам), Княжко впервые рассказал нам о
тайной литературной группе "Советский Союз", куда, оказывается, входил наш
дед. Прежде мы никогда не слышали об этом. Дед ни словом не обмолвился --
такова была конспиративная выучка, оставшаяся еще со сталинских времен. Не
болтать! Дед никогда не болтал. Княжко знал об этой группе не так уж много,
но сведения, как он утверждал, были достоверные. Ему рассказала об этом
Клара Северная, вдова писателя и драматурга Константина Северного. Покойный
Северный был другом нашего деда. Княжко почти постоянно жил на даче Клары.
Многие злые языки в Переделкино шептали нам, что он -- любовник этой все еще
прекрасной дамы, когда-то известной московской красавицы. Нам это было
безразлично, к тому же мы не верили -- все же Клара была немолода. Хотя в
маленьком самодельном сборничке стихов, который нам подарил Княжко, мы
обнаружили вполне эротический набросок под названием "Кларе от Карла".
Нужна ли мне приморской славы
Коралло-красная звезда
И полукруглыя державы?
Одежды сброшу без стыда
И в твою нежную малютку
Введу своей природы шутку.
Ты подарила мне кораллы
Своей девической судьбы,
А я своим кларнетом ржавым
Водил по струнам наготы.
Шевелящейся листвою
Наготу свою прикрою,
Прокрадусь в телесный сад
Детских, дерзостных услад.
Белым карлой наклоняясь
Над твоим горячим телом,
Я шепчу и извиваюсь,
Изможденный этим делом:
Она, она, она. Она -- не я. Она -- не я.
Она -- не я. Онания.
-- Стихотворение начинается как описание любовного соития, кончается же
в духе онанистической грезы. Что же вы все-таки описываете -- онанизм или
половой акт? -- спросили мы.
-- Конечно, онанизм, -- успокаивающе ответил Княжко. -- Я бы сказал:
онанистический пакт. И вообще, любовь это всегда соглашение, -- неожиданно
прибавил он. -- Недаром раньше часто говорили "любовный договор".
На наш вопрос, кто еще входил в группу "Советский Союз", Княжко
ответил, что кроме нашего деда и Константина Северного, членами группы были
Понизов, Карпов и Егоров, а также еще несколько человек, о которых он не
знал. Все -- бывшие фронтовики. Понизов и Егоров были ближайшими друзьями
деда. Мы знали их с младенчества. Кажется, они воевали вместе.
-- Почему же группа была тайной? Неужели и они желали досадить властям?
-- спросили мы, и в нашем воображении всплыли тошнотворные и трогательные
лица инженеров и рабочих, собиравшихся у дочки Чуковского. Это как-то не
вязалось с осанистыми фигурами витальных ветеранов войны, увенчанных
медалями и литературными лаврами.
-- Не только политика нуждается в тайнах, -- ответил Княжко. -- Есть
веши, которые являются тайными изначально, так сказать, по своей природе. Я,
конечно, имею в виду мистику.
-- Не хотите ли вы сказать, что группа "Советский Союз" была
мистическим кружком? -- спросили мы изумленно.
-- Да, это был своего рода мистический кружок.
-- Дед наш не был мистиком, -- сказали мы.
-- Насколько я смог понять из рассказов Клары Павловны, члены группы
считали, что в 1917 году, когда совершилась Октябрьская революция, прежний
мир кончился раз и навсегда. Они относились к советской жизни серьезно.
Более серьезно, чем кто-либо. Они полагали, что ошибка всех прочих мистиков
в том, что они поддерживают традиции, которые на самом деле мертвы. Они были
убеждены, что время, в котором мы живем, время СССР -- совершенно новое
время, другое время, о котором не было и не могло быть пророчеств. Время, на
которое не распространяется предвидение древних прорицателей. В тайном
кружке вашего деда полагали, что именно они -- фронтовики и советские
писатели, с оружием в руках защищавшие свою Родину и свою Литературу, -- они
и только они могут и обязаны проникнуть за кулисы... Я имею в виду не
политические кулисы. Они поставили перед собой задачу нащупать мистическую
пружину советского мира, они желали создать новую мистику --
беспрецедентную, не отягощенную прошлым, освобожденную от тяжкого и
удручающего наследия древности. Они искали эзотерического знания, которое бы
соответствовало потребностям советского человека. Нового человека,
распрощавшегося с прошлым. Человека не Памяти, но Забвения. Клара
утверждает, что ваш дед как-то сказал ее покойному мужу:
"Каждый советский человек, родившийся после 1931 года, уже не человек,
а бог". Но что он понимал под словом "бог"? -- И что сейчас с группой?
-- Не знаю. Скорее всего, она более не существует. Егоров занимается
спортом. Понизов почти не выходит из своей дачи и никого не принимает.
Говорят, он пишет поэму пророческого содержания. Якобы он предсказывает, что
в 2000 году Ленин воскреснет, и в жизнь людей войдут новые религии.
И снова мы шли и шли, в любую погоду, между Переделкино и Баковкой,
между киевской и белорусской ветками. И волчонок с князьком следовали за
нами. Кстати, Коля Вольф был уроженцем Белоруссии, а Княжко возрастал в
Киеве, посему в обращении к ним мы часто употребляли выражение "подданный
Бастинды", "вассал Гингемы", на что галантный Княжко неизменно возражал: "Я
принадлежу только вам, Феи Убивающего Домика, Феи Убивающей Воды!" Коля в ту
пору писал исторический "роман-эссе" о Карамзине, а также
публиковал какие-то фельетоны под псевдонимом Джонни Волкер. Княжко
работал над повестью "Дядя Яд". Содержание повести:
Умирает старый человек, по профессии психолог, в прошлом --
психоаналитик-педолог, ученик Осипова и Ермакова, чья молодость прошла в
бывшем особняке Рябушинского, где в 20-е годы размещался Советский
Психоаналитический Институт. Делом своей жизни он считает фундаментальный
труд "Первослов", посвященный основным, первоначальным словам ребенка, с
помощью которых маленькое существо пытается обозначить ближайших к нему
людей. Для того, чтобы понять смысл этих слов, следует отчасти расчленить
их, отчасти отразить в зеркале. Герой интерпретирует МАМА как AM-AM, то есть
как ЕДА -- одновременно запрос на первоеду и указание на то место-существо,
которое является источником этого живого питания. ПАПА он истолковывает как
ТА-ТА, то есть, в соответствии с учением Отца Фрейда, ПАПА это возможность
наказания (получить А-ТА-ТА) -- воздетый перст, отцовский фаллос, готовый
стать орудием возмездия за младенческую шалость. БАБА (БАБУШКА) связывается
со сном, с БАЮ-БАЮ. Бабушка есть фигура усыпляющая, она восседает у кровати
засыпающего, вяжет (как Парки, прядущие нити судьбы) и рассказывает
предсонные сказки, поет колыбельные. В силу этой связи с миром снов и
засыпания слово БАБА, относимое младенцем к бабушке, затем становится в
русском вульгарном языке обозначением женщины вообще. (Поскольку и слово
"спать" имеет сексуальный смысл.) БАБА это "женщина неотчужденная", которая
всегда является или "моей бабой", или "своей бабой", или чьей-то бабой. ТЕТЯ
происходит от ТО-ТО, то есть ЭТО -- женщина отчужденная, нечто внешнее,
объект. ТЕТЯ и ДЯДЯ обозначают одновременно родственников и в то же время
вообще чужих людей ("не подходи к тете", "не подходи к дяде", "чужая тетя",
"чужой дядя"). При всей этой чуждости-родственности, ТЕТЯ и ДЯДЯ имеют
серьезные различия. Если ТЕТЯ (ЭТО) это чистая объектность, обтекаемая,
полая, то ДЯДЯ это объект, у которого что-то есть, и это нечто должно быть
вытребовано. Поэтому ДЯДЯ происходит от ДАЙ-ДАЙ (в младенческом произношении
"дяй-дяй"). Ответом на ДЯДЮ является НЯНЯ, то есть "НА-НА", жест давания,
предоставления. Не закончив своей поздней и основной работы, психоаналитик
умирает. К моменту смерти ему исполняется 99 лет. Повесть начинается
словами: "Не дотянув одного годка до столетнего возраста, я умер". Он
попадает в рай, где встречает всех своих родных. В раю, как и полагается,
царствует блаженство. Через некоторое время у героя появляется смутное
чувство, что чего-то не хватает. Здесь о чем-то умалчивают. Есть одно место
в раю, куда избегают прогуливаться. В этом месте герой вдруг вспоминает, что
в числе прочих родственников у него когда-то был еще и дядя. Он его мало
знал, видел всего несколько раз, забыл о нем, однако в раю он его не
встретил. Он спрашивает о нем. В ответ -- замешательство. Блаженные
почему-то не понимают простого вопроса "Где дядя?", как будто с ними говорят
на неведомом языке. Все как будто бледнеет в ответ на этот вопрос, и душа
героя вдруг начинает быстро идти вниз, падать, как бы проваливаясь сквозь
бесчисленные слои небес. Небеса уже не "держат" его. В конце этого падения
выясняется, что дядя в Аду и что условием райского сосуществования было не
воспоминание его, забвение о нем. Вспомнив о дяде (случайное, в общем-то,
воспоминание), герой исключил себя из райского мира. В результате он
попадает туда, где находится дядя -- это небольшой ад, где кроме дяди никого
нет. Особых страданий тоже нет, вот разве что немного тесновато. Этот ад
слегка напоминает знаменитый ад Свидригайлова -- комнату с пауками, вот
разве что без пауков. Похоже на обычную камеру-одиночку. Грешный дядя
вначале радуется прибытию племянника (а то даже поговорить не с кем), но
быстро выясняется, что говорить им не о чем -- они почти не знают друг
друга. К тому же дядя банален, как всякий закоренелый преступник-рецидивист.
Единственное, на что он способен, это рассказы о совершенных им
многочисленных убийствах. Вскоре Высшие Силы изымают героя из "мира дяди".
Под конец ему предлагают выбор между двумя видами перерождения: стать
россыпью ароматных подснежников или же стать необозримой мокрой грязью,
слякотью, покрывающей все пространство России. Психоаналитик выбирает
второе, говоря, что подснежники хотя и милы, но локальны и недолговечны, а
русская слякоть есть и будет всегда -- она возрождается каждую весну и
царствует до поздней осени. К тому же она отражает небо. "Я бы не хотел
стать недрами земли, но мокрой поверхностью быть согласен. Я счастлив, что
смогу обнять Родину свою -- об этом я не смел даже и мечтать. Ведь
единственный настоящий рай -- это слияние с возлюбленной, а я всю жизнь
любил Россию". Он будет огромным, плоским, вечным, чавкающим и всхлипывающим
под бесчисленными ногами и колесами. Разостлаться под ногами других -- это
ли не подлинное величие? Его всегда тянуло и к глобальности и к самоотдаче.
В сущности, это материалистический финал. Все предшествующее можно, при
желании, считать за коматозный галлюциноз. Повесть завершается рассуждением
о том, что если бы у героя была бы возможность завершить свою работу
"Первослов" (для него эта работа является одновременно и "Последнесловом"),
он бы иначе интерпретировал слово "дядя". "Дядя" это прежде всего"да, да"
(согласие), затем это "дай ад" (согласие на ад), затем "да, ад" (признание
ада адом, в смысле "да, это ад"). И наконец, "дядя" это "яд-яд" или ад как
яд -- яд замедленного действия, особо тяжелая форма интоксикоза. Яд замыкает
круг. "Яд" от слова "еда" (яда), "есть" значит быть и питаться. "Не ядите и
не ядимы будете". И это означает: кто не ест, не отравится. А тот, кто не
ест, тот не есть. А это означает: "не быть" -- это единственный способ не
быть в аду. Этими словами Княжко закончил свой пересказ.
-- В конце двадцатых годов Советская власть отвернулась от Фрейда и
повернулась в сторону Ницше, -- сказал Коля Вольф. -- Видимо, так следует
расценить тот факт, что особняк Рябушинского, этот шедевр стиля модерн, был
отобран у Психоаналитического общества и отдан ницшеанцу Горькому, у
которого даже усы были такие же, как у Ницше. Правда, вскоре советская
власть вообще перестала нуждаться в капризах европейской мысли.
-- Рябушинский. Это не он ли написал "Курочку Рябу"? -- спросили мы. --
Вы, наверное, перепутали с Погорельским, который написал "Черную курицу", --
сказал Княжко. -- Ряба снесла золотое яйцо, а затем раскаялась и стала нести
яйца обычные. Черная курица вообще не несла яиц, потому что она была
мужчиной и министром. Вообще-то это существо андрогинное, потому что в
человеческом облике она была мужского пола, а в курином -- женского. За это
ее посадили на золотую цепь. Золото на фоне черных перьев -- это, я бы
сказал, эстетский момент в этой истории. Фамилия "Погорельский", впрочем,
заставляет воспринимать черную курицу как некую головешку, как нечто
вымазанное сажей, как бред погорельца.
Вообще у истока русской литературы для детей находятся два
повествования и оба -- странные. Это "Черная курица" Погорельского и
"Городок в табакерке" Одоевского. Вторая вещь -- особо значительная.
Удивительно, что ни один литературовед еще не отметил очевидную связь между
"Городком в табакерке" и знаменитой машиной из "Исправительной колонии"
Кафки.
Все чаше и чаще Княжко говорил с нами о нашем деде. Он перечитал все
книги деда. Он подробно анализировал некоторые фрагменты этих старых книг.
"Я чувствую с ним какую-то мистическую связь, -- говорил Княжко. -- Не зря
наши фамилии так похожи. Игорь Князев и Олег Княжко -- мы словно бы
повторяем две "княжеские" позы, навеки запечатлевшиеся в русском сознании.
Он -- "князь Игорь", аскет, отказавшийся ради чести и Родины от табунов,
красавиц и сабель. Я -- князь Олег, русский Гамлет. Название "Вещий Олег"
можно было бы переиначить так: Олег и вещи. Ведь череп это вещь. Гамлет
держал череп в руке, и это был череп шута. Олег наступил на череп ногой, и
это был череп коня. И тот и другой череп -- завуалированное яблоко с Древа
Познания. Яблоко, в котором гнездится червь-искуситель. Следует принять
смерть от червя своего.
-- Все это неважно, -- сказали мы. -- Ответьте нам лучше на вопрос:
почему ваш психоаналитик в своем "Первослове" так и не сказал ничего о слове
"дед", "дедушка", или, как говорят малыши, "деда"? Почему это слово осталось
неистолкованным?
-- Плохой вопрос, -- сказал Княжко. -- Честно говоря, я не смог создать
достойное толкование. Ничего не приходило мне в голову, кроме того
очевидного, но, видимо, бесполезного факта, что слово "дедушка" чрезвычайно
похоже на слово "девушка", а это слово является прибежищем Эроса в русском
языке.
-- Что ж, если вы не знаете, что такое "дедушка", то мы скажем вам, --
так промолвили мы. -- И будьте уверены: в том, что мы скажем, в сто тысяч
раз больше фрейдизма, чем у вашего психоаналитика, чем у самого Фрейда.
"Дедушка" это тот, кто спасает от удушья. "Дедушка" это Тот, Кто Перерезает
Удавку.
Княжко молча ударил ладонями по своему округлому животу, звонкому, как
барабанчик. Видимо, это означало "аплодисменты". На самом деле он был в меру
образованный и довольно талантливый провинциал, желающий слегка
декадентствовать, но скверно одевавшийся. Он никогда не носил приличных
пиджаков и пальто, обходясь аморфными шерстяными кофтами с большими
клоунскими пуговицами и отвратительными поролоновыми куртками. Он так и не
вытравил из своего произношения южную "певучесть", столь непристойную на
суровом Севере. Он был немного жалок, как Легранден, но в нем присутствовала
и великолепная одержимость, напоминавшая нам Нафту из романа Манна
"Волшебная гора". Теперь-то мы уже не сравниваем "живцов" с "пустецами", то
есть живых людей с литературными персонажами, но тогда... Тогда еще Брежнев
был жив.
Зачем он так старался? Зачем краснобайствовал на черных дорогах и
тропах между Переделкино и Баковкой? Между Мичуринцем и Солнечной? Может
быть, ему хотелось быть ближе к нам? Может быть, он безрассудно надеялся
внушить нам привязанность или даже любовь? А может быть, через нас он хотел
приблизиться к величественной тени нашего деда, чей уменьшительной формой он
себя провозглашал, к его кружку, к таинственной группе "Советский Союз"?
Позднее мы узнали, что он с ума сходит от одной мысли о тайных обществах.
Оказалось (мы узнали не от него, он, видно, боялся вспугнуть нас), что он
годами рыскал по Москве, по Киеву и по Западной Украине, что он сидел в
пыльных архивах, собирая материалы о различных сектах, кружках, тайных
союзах, заговорах и подпольных ритуалах, которые были созданы для немногих.
Скупые сведения о "Советском Союзе", просочившиеся из нескромных уст Клары
Северной, взволновали его чрезвычайно. Ему показалось, что впереди, в конце
его темной извилистой тропы, мелькнул тот огненный хвост, мелькнули те
быстрые легкие лапки, мастерицы летящего бега, по следам которых он мчался,
задыхаясь, всю жизнь. Несчастный! Уроженца краев манит Центр, Его Изумруды.
Их влечет Ось, Осевой Стержень, внутри которого -- сладчайшее, тайное,
нектарические эссенции Всего, съедобный ключ к Всеобъемлющему Смыслу, к
Всеобъемлющей Власти. Как искажена жизнь существ! Советская власть и ее
жречество -- советская литература, они, словно прочная кость, должны были
скрывать в себе сладкий и текучий мозг Тайны. Но Центр хранит лишь одну
тайну -- тайну Пустоты: безликой, бескачественной, пресной. Перед этой
Великой пустотой Центра равно оседаюти Пыль и Свежесть, в ней нет тайн, она
не имеет секретов, онагне играет, не кокетничает, не прячется и не
показывает себя украдкой. Она ничего не объясняет, ничему не помогает,
ничего не открывает, ничему не способствует. И только Любовь -- подлинная
Любовь -- свободно и бесстрашно обитает в этом отсутствии, входит в Пустоту
и выходит из нее, как старый учитель из своего кабинета.
Мы, Настя и Нелли Князевы, можем засвидетельствовать, что Любовь и
Пустота -- одно. Любовь это удвоенная пустота двух одинаковых девственных
вагин, не знавших пениса и не желающих его знать. Рука в руке, вагина к
вагине, плева к плеве, губы к губам, пупок к пупку, соски к соскам -- так мы
спали, обнявшись, всю жизнь. Мы всегда спали голые, и окна нашей спальни
всегда были открыты, потому что дедушка говорил, что так мы станем
закаленными. "Без Холода нет Здоровья", -- всегда повторял дедушка. Так, в
обнимку, мы проснулись в нашей зеленой комнате на втором этаже дачи в тот
день, когда невидимые и святые существа распахнули оконце, спрятанное в
небесах, и огромные объемы Дополнительного Воздуха стали ниспадать с
неземной щедростью на Прекрасное Подмосковье. В ту ночь мы спали особенно
крепко, возможно, потому, что Княжко накануне вечером дал нам тазепам. Нам
снился сон (один -- на двоих, что случается нечасто и означает, что сон
послан небом) о том, что наконец-то началась Третья Мировая Война, что мир
обречен и что мы с ощущением необычайного счастья и легкости встречаемся с
дедушкой на Киевском вокзале, садимся в электричку и едем в Переделкино,
чтобы весело провести время до ядерного удара. Люди уже разбежались как
пауки, электричка пуста, и только солнце спокойно льется сквозь разбитые
стекла на разбитые лавки. И поезд бежит словно сам собой, как будто веселый
молодой Харон включил предельную скорость. И дедушка -- живой, бодрый,
посвежевший -- рассказывает что-то смешное, размахивая руками. И мы хохочем.
Мы встали, приняли душ и, не одеваясь, стали разбирать дедушкин
письменный стол, дедушкины шкафы. Без Холода нет Здоровья. В распахнутые
окна лились неуверенные запахи зарождающейся весны, трепещущий бледный свет,
сочащийся сквозь полупрозрачные бегущие облака, и колокольный звон
(приближалась Пасха, и церковь звонила каждый день). Свет, звон и запах
весны, земли и книжной пыли скользили по нашим голым телам, по волосам,
которые в это утро были окутаны сиянием. Вскоре мы нашли то, что искали, --
семь объемистых папок, на которых рукой деда было написано "С. С.
Материалы". Теперь нам нетрудно было догадаться, что означают буквы С. С. --
Советский Союз. И затем, пока не стало смеркаться, мы читали, листали,
делали выписки, смеялись, плакали. Мы даже уничтожили кое-что. Немного.
Совсем немного, чтобы придать документам дополнительную ценность. И тогда же
поклялись друг другу, что этих материалов никогда не увидят ни Коленька
Вольф, ни Олег Моисеевич Княжко.
Вечером мы тщательно оделись, особенно долго выбирали духи -- девушки,
которые носят серое, с особым вниманием должны относиться к духам. В конце
концов мы остановились на духах "Хлоя" -- нам всегда нравился их запах, а
название напоминало о тринадцатилетней пастушке, которая все никак не могла
догадаться, как происходит совокупление.
Вечером мы должны были встретиться с Княжко в баре Дома Творчества
Писателей и затем вместе отправиться в гости к Кларе Северной, куда мы были
приглашены проучаствовать в "маленьком литературном чтении для очень узкого
кружка". Княжко всячески пытался заинтересовать нас этим чтением и этим
визитом, намекая, что во всем этом будет присутствовать нечто таинственное,
какой-то сюрприз. Мы наобум взяли что-то из нашего романа a la Proust, чтобы
утомить этими обширными описаниями слушателей из "узкого кружка". Мы зашли
за Коленькой (он занимал маленькую комнатку в Доме Творчества) и втроем
явились в тесный бар, чьи скромные стены какая-то безумная художница из
числа писательниц расписала буйными зарослями камыша, кикиморами,
коронованными жабами и прочей болотной мерзостью. Княжко сидел за рюмкой
коньяка, поджидая нас.
Дом, куда мы пришли, был нам знаком. Гуляя вечерами, мы часто проходили
мимо дачи Северных и неизменно смотрели сквозь забор на большое полукруглое
окно, освещенное красной лампой, имеющей форму апельсина. Вдова Северного
казалась молодой. Гладкие волосы, подстриженные а 1а Жанна д'Арк: они лежали
на ее голове серебряной шапочкой, напоминая также серебряный шлем. Она
встретила нас ласково. Других гостей не было. Пока хозяйка накрывала стол к
чаепитию, Княжко повел нас наверх, показать комнату, где он жил. Это была
небольшая, холодная комната с деревянными стенами, видимо, бывшая детская: в
углу лежали мячи, пластмассовые клоуны, калейдоскопы, железные божьи
коровки, кубики. Виднелся крупный фрагмент детской железной дороги,
привезенной из ГДР: аккуратные вагончики, вокзал небольшого немецкого
городка, где на лавочке дожидались поезда крошечные женщины в оранжевых
пальто и мужчины в шляпах и пиджаках. Мы попытались заглянуть им в лица --
то были розовые пятнышки без черт. Висела цветная фотография девочки лет
восьми, в красном купальнике, прыгающей через ручей. Видимо, это была дочка
Северных, которая давно уже выросла и теперь заканчивала институт в Москве.
Над узкой кроватью (видимо, в нашу честь) была приколота репродукция картины
мастера из школы Фонтенбло: две одинаковые девушки в ванне. Одна аккуратно,
кончиками пальцев, придерживает другую за сосок. На рабочем столике Княжко
лежало редкое издание: роман нашего деда "Украина", вышедший еще в тридцатых
годах. В те времена, когда социалистический реализм еще не окончательно
нащупал свои канонические формы, дедушка позволял себе экспериментировать. В
романе "Украина" он поставил перед собой задачу полностью обойтись без
отдельных лиц: здесь действовали только коллективы, массы -- рабочие одного
цеха, крестьяне одной деревни, солдаты одного полка, пассажиры одного
поезда... Коллективы общались между собой без посредников, с помощью
простого совокупного голоса, который был подарен им автором.
Княжко рассказал, что тоже пишет сейчас роман под названием "Украина".
Однако это не роман об индустриализации, а история любовного треугольника.
Действие происходит в современной Москве. Муж обнаруживает, что у жены есть
любовник. Скрывая свое знание об этом, муж окольными путями знакомится с
любовником (молодым писателем), постепенно подчиняя его своему влиянию (муж
-- маститый писатель). Наконец, он рекомендует любовнику написать роман
"Украина" и для этого отправиться в путешествие по украинским городам и
селениям. Любовник пускается в путешествие, в то время как муж с женой
весело проводят время в Москве, войдя в жюри какого-то международного
кинофестиваля и просматривая в день по три-четыре фильма. Любовник все не
возвращается. Наконец супругам сообщают, что молодой человек бесследно исчез
где-то между Мукачево и Чопом. Перед исчезновением он оставляет в номере
одной провинциальной гостиницы папку, которую в конце концов пересылают
маститому писателю. Раскрыв папку, муж обнаруживает, что в ней -- пачка
пустых листов. Надписано только название романа -- "Украина" и первая фраза:
"Уголки Родины, истертые и почти отваливающиеся, как уголки страниц
зачитанной книги..."
-- Эта фраза и должна завершать мой маленький роман "Украина", --
сказал Княжко.
Чего только не было в маленькой комнатке Княжкою. Была, например,
огромная коллекция антисемитских брошюр и памфлетов. Княжко почему-то
любовно собирал эти издания. Будучи евреем, он, кажется, не мог простить
своему народу, что страшные слухи, распространяемые о евреях
недоброжелателями, являются ложью. Он хотел бы принадлежать народу-злодею,
народу-вампиру, но еврейский народ не оправдывал его романтических надежд,
оказываясь в конечном счете таким же, как и все другие народы. У изголовья
кровати наши зоркие очи заприметили новенький аэрозоль против астматических
приступов. И в первый и последний раз мы испытали некоторое подобие нежности
по отношению к Олегу Моисеевичу Княжко.
Мы спустились вниз. После чая хозяйка предложила нам начать чтение. В
кровавом свете большого апельсина мы разложили на круглом столе мелко
исписанные нами листки и стали читать по очереди. Это был большой фрагмент
из незаконченного романа "Дедушка пробормотал". Мы писали о дедушке. Хотя
все это было написано, когда дедушка был жив, впоследствии мы с удивлением
обнаружили, что писали о нем как об умершем. И обо всем, что есть в мире, мы
писали тогда как об умершем, ушедшем, исчезнувшем. В частности, на даче
Северной мы прочли описание прогулки, которую мы часто предпринимали в
раннем детстве, в Москве, когда жили с дедушкой на Пресне. Мы гордились
слепящим и оглушающим эффектом пухлого и затянувшегося снегопада, постепенно
съедающего образы и звуки. Нам казалось, что нам удалось передать этот
эффект и то застревание, мечтательное торможение суточного цикла, которое
делало слово "зима" снотворно-целительным, как тазепам, принятый в начале
весны. Вот что мы прочли:
"Иногда он брал нас с собой на прогулки -- в зимние дни. Мы ясно
вспоминаем его: в маленькой каракулевой шапочке, в черном пальто с
каракулевым воротником, а на его бледном морщинистом лице в морозные дни
появлялось подобие румянца, розовые паутинки на щеках. Мы особенно ясно
различали облик дедушки во время тех прогулок. На улице, в ровном зимнем
свете мы могли смотреть на него почти так же пристально, как на чужого
человека, как на прохожего, и это отчуждение приближало его к нам. Мы
наконец (как нам казалось) обретали и дедушку в ряду тех человеческих лиц и
силуэтов, которые украшали фронтон нашей жизни. Этому способствовало и
свечение снега, подчеркивающее границы фигуры в черном пальто, и морозный
воздух, который словно бы схватывал черты лиц, не позволяя им таять; мороз
придавал даже дряблой или полупрозрачной коже осязаемость, в то время как в
недрах квартиры, в туманном свете маленьких ламп, с трудом цедящих свой свет
сквозь розовые кружева абажуров, эта кожа показалась бы зыбкой лягушачьей
шкуркой, которой из вежливости подернулось привидение, как болотце из
вежливости пеленает себя в зеленую ряску, чтобы стыдливо скрыть тяжесть и
тьму своих вод. В квартире как во сне, когда изо всех сил стремишься
разглядеть очертания какого-либо предмета, но он отступает, как яйцо в
темной лавочке, которое Алиса тщетно желала купить, уходит, оставаясь лишь
неопределенным намеком на себя, робко дезертирует по мере нашего к нему
приближения;
но вдруг, когда надежда уже почти потеряна, мы видим его с
отчетливостью, настолько пронзительной, что ее можно сравнить лишь с
холодом. На морозе короста, сотканная из наших иллюзий, соскальзывала и с
дедушки, он уже не казался нам столпом, пронзающим небеса, чье основание
щекочет дно океана, он не казался нам земноводным существом, обитающим
вблизи астрологов или в кельях христианских пустынников -- мы видели
крепкого пожилого человека, невысокого, даже коренастого, тепло одетого, с
заботливо уложенным вокруг шеи шарфом. Время от времени он старательно
сбивал сложенной надвое перчаткой оседающий на каракулевом воротнике снег. А
облачко пара, повисающее возле его губ всякий раз, когда он что-то говорил
нам или же просто выдыхал воздух, убеждало нас в том, что он -- такое же
теплокровное существо, как и мы, совсем не инеистый великан, отнюдь не
побратим наста или наледи, не свойственник сосулькам, поземке, заморозкам,
не прямой вдохновитель ледяных гор, катков, вьюг, метелей, не попечитель
лыжни, надзирающий за ее твердым скрипом и блеском, короче говоря, что он не
есть тот самый Дедушка Мороз, которого все дети с нетерпением ожидают в
новогоднюю ночь. Дедушка выглядел человеком, но почему-то он все же
напоминал нам Крокодила из поэмы Чуковского, который свободно ходил по
улице, одетый в пальто и галоши. Мы видели и других крокодилов -- нагих,
распаренных, как посетители бань: они возлежали в неряшливых бассейнах,
нежились в своих коричневых и зеленых лужах, на них мы смотрели в зоопарке
сквозь толстое мутное стекло, покрытое капельками испарины. Нас пугало, что
дома дедушка был другим, почти невидимым, и когда он читал нам вслух перед
сном, лик его заслоняли образы парусных судов, вмерзших в лед, или же на его
старое лицо падала тень острова на реке Миссисипи, к которому течением
прибит плавучий дом, где, в одной из комнат, находится голый мертвец.
Мы проходили заснеженный двор и выходили на улицу Замореного, которая
зимой напоминала бульвар из-за больших сугробов на тротуарах, крепко сбитых
и выровненных железными лопатами дворников. В киоске дедушка покупал свежую
газету, и газета действительно была пропитана ледяной свежестью зимнего дня
-- с тех пор словосочетание "свежая газета" всегда вызывает в нашей памяти
одну из тех, принесенных с мороза, газет, пахнущих холодом, волнистых, с
влажными зубчатыми краями. Мы шли мимо здания с серебристо-белым шаром на
крыше. Мы спросили дедушку, что это за здание, и он ответил: "Это
Гидрометеоцентр", и тут мы почувствовали волнение -- как будто произнесли
имя бога. Вечерами, когда мы уже лежали в кровати, обнявшись и засыпая, мы
улавливали звуки телевизора из соседней комнаты, где дедушка смотрел
программу "Время": мы знали музыку начала, под которую из темных и теплых
глубин космоса выплывал, вращаясь, земной шар,чтобы застыть, быть пойманным
в объятия буквы "В", с которой начиналось слово "ВРЕМЯ". Слово "время"
каждый вечер останавливало на наших глазах движение времени, то есть
вращение Земли, смену дня и ночи. Планета ловилась плавным изгибом нижней
части буквы "В", она попадала в "брюшко" этой пузатой чревоугодливой буквы.
Но мы знали и музыку конца, сладкую, томительно-печальную и
просветленно-радостную одновременно. Мы ждали ее, эту мелодию, чтобы
насладиться, прежде чем заснуть. Это была известная мелодия из французского
кинофильма "Шербурские зонтики", и эта мелодия вступала, появляясь издалека
и медленно, вкрадчиво приближаясь, охлаждая наши сердца своей мучительной
лаской, когда голос диктора произносил "Гидрометеоцентр сообщает". Вместе со
сведениями о заморозках и оттепелях, об осадках и о сильном порывистом
ветре, который проходил неведомыми местами, всегда местами, местами, видно,
для того, чтобы скрыть свою неуместность, вместе с пророчествами о
снегопадах, о гололеде на дорогах, вместе со всеми этими пророчествами
Гидрометеоцентр сообщал каждому нашему вечеру томительную и желанную печаль,
нечто, шептавшее нам о любви и смерти, о просветленно-лукавом смирении, с
каким все совершается. Ту мелодию, которую мы так любили, впоследствии
заменили другой, но мы с легкостью заставляем ее снова звучать в нашей
памяти, и там она течет, пританцовывая, словно один из притоков Леты,
омывающий те области нашей жизни, чьи пронизанные снами поля граничат с
территориями младенчества, оккупированными забвением. Легкомысленная и
простая музыка всезнания, музыка всепрощения, музыка самой
снисходительности, шепчущая: "Все свершится так, как ему и должно
свершиться. И пускай".
Наши зимние прогулки сливаются в одно большое, погруженное в снег
путешествие, -- путешествие по мягкому и пухлому континенту белизны,
растерянности, сомнамбулически подвешенному в пространстве, словно бы
зависшему над остальными улицами и домами Москвы. Нам нужны были акварельные
краски, и мы с дедушкой заходили в "пищебумажный" магазин, где по нашим
представлениям должна была продаваться пища и бумага, но пищи там не было,
одна лишь бумага, а также канцелярские принадлежности, разложенные под
стеклом. Покидая этот магазинчик, мы обыкновенно несколько раз оглядывались,
чтобы еще раз увидеть сквозь усилившийся снегопад, который создавал иллюзию,
что мы постепенно слепнем, погружаясь в холодное, сладкое молоко, контур
того дома, который казался нам прекрасным: могучие, но согбенные фигуры
поддерживали засыпанный снегом балкон, а над глубокими окнами виднелись,
украшенные венками, лица; выражения этих лиц были совершенно искажены
снегом, который наполнял открытые рты и изумленно или гневно распахнутые
глаза. Нам нужна была акварель для наших принцесс, для наших нарядных
девочек, а деда как-то раз нарисовал нам рисунок, висевший долго над нашей
кроватью: черный от сажи утенок, бегущий по краю льдины в белых штанах-клеш,
и нагоняющий его Мойдодыр, с ног до головы забрызганный мелкими капельками
крови.
Пройдя Гидрометеоцентр, мы сворачивали в Предтеченский. В простом
переулке сквозь снежную пелену желтела церковь -- иногда мы поднимались по
ее полукруглым ступеням, осторожно прикасаясь к медным перилам, к которым
наши пальцы слегка прилипали от холода. Внутри вершились богослужения, и им
мы были лишь кратковременными свидетелями: мы видели спины поющих людей,
мерцающие смальтовые своды, и лишь изредка, при случайном движении толпы,
нам открывался далекий иконостас, этот роскошный золотой шкаф, из нижних
отделений которого иногда выходили великодушные священники. За Предтеченским
начинались какие-то переходы, мятый мирок двориков. Четкие направления улиц
терялись, их затирали обреченные полуизбушки, уцелевшие в пазах и сгибах
города остатки деревенской Москвы, -- среди них встречался и один особняк с
колоннами, скривившийся от омерзения к собственному упадку, как старик,
сосущий лимон. Окружала его бревенчатая, неказистая дворня. На одном из окон
висела голая крица, и нечто, совсем старое, но живое, укрытое пледами и
платками, дремало на вросшем в снег табурете у гнилого крыльца. Проходя
дальше по обледеневшим доскам, переброшенным через канавы и ямы, мы
встречали уже совершенного мертвеца, анестезированного до сердцевины костей,
нашего хорошего знакомого -- то был бывший дворец пионеров, дитя сияющих
тридцатых годов, пустой и великолепный. Ничто не умеет так величественно,
так беззаветно дарить себя запустению, как вещи и постройки, предназначенные
для детей. Длинная и прекрасная лестница, широкая, созданная для того, чтобы
по ней сбегали к воде гирлянды и цепи смеющихся, ликующих крепко взявшихся
за руки детей, каскадами спускалась от дворца, черневшего своими выбитыми
окнами, к бассейну, на дне которого лежал снег. Мы называли это место Храмом
Пустого Бассейна. Людей здесь не было, только статуи -- дети, серые,
заплаканные, воздевающие к небу обломки горнов. Нам нравилось одно изваяние
-- девочка, чью юбку словно бы только что смял нетерпеливый ветер. Она
смотрела прямо вперед, слегка прищурившись. Лицо было серьезное,
решительное, но недоверчивое, впрочем, сомнение на этом лице вот-вот готово
было растаять, вместе с ледяной коркой, и ее рот, чья форма была простой и
совершенной, как форма листа магнолии, был уже слегка смягчен улыбкой --
улыбкой узнавания и участия. И затем только мы входили в тот маленький парк,
который считался целью наших прогулок -- сквер Павлика Морозова. Статуя
юноши, чья фамилия свидетельствовала о том, что он тоже принадлежит к
пантеону богов холода, совсем была облеплена почтительным снегом, и только
красный шелковый галстук на его бронзовой шее светился гаснущим сигнальным
фонариком в нарастающей белой пелене. Сразу за сквером строилось огромное
здание, а может быть, оно уже было дострое- но, но пока что еще пустовало --
должно быть, велись внутренние отделочные работы. Мы добирались до этого
здания, похожего на огромное белое кресло, увенчанное золотыми часами, и
оно-то и было границей, пределом наших прогулок, его страшным и
величественным завершением -- возле него, как сказано у Данте, "изнемогал
вдруг стремительный взлет духа":
здесь мы останавливались. Останавливались, чтобы, до поры до времени,
не ступить ни шагу дальше. Останавливались, чтобы, взявшись за руки,
смотреть вперед, как та гипсовая девочка -- щурясь (снег крупными мягкими
хлопьями застревал в наших ресницах), стоя с лицами, должно быть,
изумленными и восхищенными, даже потрясенными, ибо то, что разверзалось там
перед нашим взором, было немыслимо, непредставимо, пугающе и в то же время
превосходно. Создавалось впечатление, что здесь проходит граница между
крошечным, корявым мирком насекомых и колоссальным, шарообразным, ледяным
миром гигантов. Здесь изменялась размерность. Это был порог, перепад
размерностей. Сквозь белоснежную пелену проступали гигантические очертания
Города -- здания, столь далеко отстоящие друг от друга, разделенные столь
пронзительно пустым и огромным пространством, но и сами столь огромные...
Изгиб серой реки, мосты, туманный готический силуэт гостиницы "Украина".
Небоскреб в виде приоткрытой книги... Город. Центр. Центр Государства. Центр
Мира, похожий на пустой Тронный Зал, куда даже гиганты, для которых он был
создан, не решаются заглянуть. И никто никогда не воссядет в этих
колоссальных креслах-домах. И никто никогда не посмеет читать эти доверчиво
приоткрытые дома-книги. И никто никогда не решится ответить улыбкой на
колоссальные улыбки-здания, такие как тающее вдали Полукруглое Здание,
возвышающееся на крутом склоне над Ростовской набережной. Оно напоминает
Скобу, одну из Скоб, удерживающих цельность этого космоса. Никто никогда
не решится улыбнуться этим Скобам-Улыбкам в ответ. Но мы улыбались --
знакомой улыбкой узнавания и участия, и нам казалось: вкус гипса и запах
магнолий пробегают по нашим совершенным устам. Мы улыбались сдержанно, но
уверенно, потому что знали -- мы здесь свои, мы здесь -- единственные свои,
мы -- порождения этой Великой Пустоты, держащей весь мир в рамках
целительного ужаса. Отсюда, из этого места, миру придавалась его форма --
форма яйца. Мы улыбались этому Величию и только -- улыбались этой Пустоте и
только -- нашим маленьким ногам, обутым в облые валеночки, не перешагнуть
было той границы, которая отделяла скомканный, стесненный,
лабиринтообразный, душный микрокосм (в котором всегда ощущался недостаток
вольного воздуха, и нам, двум девочкам, страдающим от астмы, это было
известно наверняка) от этого расправленного, свободно и строго
раскинувшегося в соответствии с благословенной Схемой макрокосмоса.
Возникало впечатление, что до этого мы шли не в городе, а в шкафу, по
одной из его полок, пробираясь между мятых рецептов, сломанных ракеток,
брошюр, между тряпок, среди слипшихся стопок старых журналов "Здоровье",
пробираясь сквозь наслоения всего того, что живет бесформенной и цепкой
жизнью, свойственной всему небольшому, отодвинутому, скученному, сквозь
мирки, живущие тошнотворной и трогательной жизнью джунглей и политических
оппозиций. И вот мы дошли до края полки этого шкафа и остановились на краю.
И взглядам нашим открылась Комната, ее просторы, ее Зеркала, Троны, Столы...
Другие шкафы. Но то ли Стекло отделяет нас от этой Комнаты, то ли просто
ужас падения удерживает нас на краю полки. А скорее всего и то, и другое: и
Стекло, и ужас падения. А, может быть, стоит усугубить это сравнение и
представить себе, что одна стена этой Комнаты снесена, словно бы взрывом, и
сама Комната, как распахнутая ячейка секретера, открыта в сторону еще более
огромного и необозримого пространства -- но оттуда дует ветер и летит снег:
белый, пухлый, слепящий, постепенно покрывая Зеркала, Троны, Столы, оседая
на Стекле Шкафа, занося это Стекло своим пушистым покрывалом -- так клетку с
птицами милосердно накрывают шалью, чтобы ее обитатели успокоились в
полутьме и наконец-то погрузились в сон..."
Мы закончили чтение. Клара Северная, Вольф и Княжко неподвижно сидели
вокруг овального стола. Несмотоя на длинноты и торможения нашего
прозаического фрагмента, они не казались измученными. Видимо, они -- все
трое -- вообще не слушали, а просто смотрели на нас, пока мы читали. Вольф и
Княжко были влюблены в нас, поэтому им доставляло удовольствие следить за
тем, как мы переворачиваем страницы, поправляем волосы, наблюдать за тем,
как мы чередуем друг друга в деле чтения вслух. А Клара Северная когда-то, в
течение довольно долгого времени, была любовницей нашего деда (о чем мы
узнали утром того же самого дня, перебирая бумаги в дедовском кабинете) и,
надо полагать, рассматривала нас с женским любопытством, как внучек одного
своего любовника и как предмет обожания другого -- если верно, что между нею
и Княжко действительно имелась связь такого рода. Наконец Клара произнесла
несколько вкрадчиво:
-- Девочки, вы сказали, что пишете в стиле Пруста. Не приходило ли вам
в голову, что, быть может, сам Пруст... его душа нашептывает вам эти
описания?
-- При чем тут душа? -- удивились мы. -- Это стилизация. Мы надеемся,
качественная стилизация.
-- Но зачем она, даже если она хороша? -- спросила Клара. -- Каковы
ваши намерения? Ваши цели?
-- Наши первоначальные намерения стали бы ясны, если бы роман был бы
закончен. Но намерения наши изменились -- мы решили не заканчивать его. Наш
роман "Дедушка пробормотал" должен был заканчиваться фразой, которую дедушка
якобы произнес во сне. Мы все не могли придумать эту фразу -- дедушка на
самом деле никогда не говорил во сне: он спал крепко и бесшумно. Наконец мы
попросили его самого придумать эту фразу. Был солнечный, морозный денек: дед
и Егоров только что вернулись с лыжами из леса. Оба румяные, в толстых
свитерах и лыжных ботинках, облепленных снежными чешуйками, они шумно
вносили свое снаряжение на террасу. Выслушав нашу просьбу, дед кивнул,
прошел в комнату, стуча ботинками, которые казались подкованными. Он подошел
к буфету, достал бутылку виски, налил две рюмки -- себе и Егорову. Опрокинув
рюмку, он промолвил: "Не выводите меня из себя".
-- Мы и не выводим, -- сказали мы.
-- Не выводите меня из себя, -- повторил дед, прищурившись. -- Это и
есть фраза. Считайте, что я пробормотал эту фразу сквозь сон.
И он одарил нас одной из своих усмешек. Наш дед был великим искусником
по части усмешек: он умел усмехаться ноздрями, мочками ушей, затылком. И
потому, в соответствии с волей дедушки, наш роман должен был заканчиваться
его словами "Не выводите меня из себя". Но об этом мы не собирались извещать
Северную. К тому же имело ли все это хотя бы отдаленное отношение к "целям"?
Скорее, то было одно из бесчисленных проявлений Бесцельности.
После нас читал Княжко. Он прочел короткий прозаический фрагмент --
вариант одного эпизода из уже известной нам повести "Дядя Яд".
Это был эпизод с попаданием в "камеру дяди". Однако в данной версии
племянник обнаруживал дядю не в одиночестве. Видимо, безнадежная
влюбленность в нас заставила Княжко несколько помешаться на теме близнецов.
А может быть, просто-напросто обыкновенная шизофрения нашла свое убежище в
этой теме, и без того изъеденной многочисленными любителями. Во всяком
случае, в "дядином аду" герой обнаруживал еще двоих -- то были румяные
близнецы, но не девушки, а пожилые лысые мужчины- толстячки, парочка,
напоминающая об аналогичных двойниках-пухлячках, типа Бобчинского и
Добчинского или Твиддцума и Твиддди. Эта двойня вела себя, в отличие от
предшественников, молчаливо и несуетно. Они не вылезали с нижних нар. Нам не
совсем ясен был смысл этого беспомощного нововведения, но Княжко
комментировал так:
-- Мне хотелось бы направить читателя по ложному следу. Герой повести
-- психоаналитик, следовательно, фрейдистский символизм здесь становится
навязчивым. Число три -- знак мужских гениталий, согласно Фрейду.
Следовательно, дядя, живущий в одной камере с двумя яйцами, это пенис, а рай
и ад -- следствия кастрации, как и связующая их Любовь:
Снизойду до тусклых наковален,
Пролетарский молот подберу
И войду в тепло забвенных спален,
Спящую царевну разбужу.
Дам ей серп, которым Зевс когда-то
Второпях кастрировал отца --
Это все одна из медсанбата
Рассказала раненым бойцам. ,
Бросили кровавый сгусток в море
Из него Венера-родияась
Тихо так, на радость нам и горе,
Из кровавой пены поднялась.
Так возьми свой ржавый серп, царевна!
Я в ответ свой молот подниму.
Верещагин. Девственная Плевна.
Бой уходит. Только труп найдут.
Однако, как я уже сказал, этот ход -- ложный. Ибо дядя -- не пенис, а
язык. Язык трупа, заключенный в навеки захлопнувшейся полости рта.
Бесчисленные убийства дяди это, конечно же, не столько эвфемизированные
половые акты, сколько эвфемизированные анализы, инструментом проведения
которых был (при жизни психоаналитика) этот язык -- язык-расчленитель.
Интерес Фрейда к этрусским захоронениям, его коллекция терракотовых
статуэток, найденных в могильниках, -- все это свидетельствует о том, что
психоанализ не должен быть прерван смертью. Ни смерть пациента, ни смерть
врача ничего не меняют в их взаимоотношениях. Да, язык... -- задумчиво
повторил Княжко, перебирая свои клоунские пластмассовые пуговицы на вязаной
кофте. -- Русский язык. Украинский язык... Император Йозеф II хотел ввести
украинский язык в качестве общего бюрократического языка Австро-Венгерской
Империи. Он считал его особенно удобным для делопроизводства. Я всегда думал
о языке. С детства. Я думал о том, что один и тот же орган производит речь,
и в то же время он -- Цербер у входа в ад нашего тела, он телохранитель,
различающий вкусы. Он -- гурман, но он же и раб-опробыватель блюд,
принимающий на себя первый натиск яда. Наш язык -- лакмусовая бумажка.
Каждая интоксикация заставляет его менять свой цвет: становится
белесым, пурпурным, желтым. О, эти налеты на языке! О, этот момент, когда
наш язык обращается уже не к другим, а к нам самим, когда он начинает
общаться с нами на языке цветовых сигналов! В эти минуты он -- флажок,
отважный флажок регулировщика, взмахивающий впереди, там, где рельсы
сходятся в одну точку! Голод или же чревоугодие, целебная минеральная вода
или же алкоголь, транквилизатор или же возбуждающий наркотик -- все они
заставляют наш язык менять цвет. Меняется цвет речи, изменяется оттенок
налета. "Язык обложен" -- говорят врачи в случае простуды. Но и, будучи
хамелеоном, наш язык остается самим собой. Он сохраняет свою сущность, а
сущность его -- героизм. Язык -- герой, потому что он всегда готов
пожертвовать собой ради остального тела. Он берет на себя все грехи и один
остается в аду, позволяя остальному телу стать бессмертным и нежиться в раю.
Единственное условие блаженства -- забвение о языке. А он все кричит "Яд!
Яд!", а ему отвечают, вспоминая о нем: "Дядя!" Но он не радуется тому, что
его узнали. Да и райское блаженство пресекается лишь ненадолго.
-- Если дядя -- не пенис, то кто же тогда эти тестикулы-близнецы? --
спросили мы. -- Вы что, о монстре говорите? О языке с яйцами? Вам, наверное,
хотелось бы зачинать с помощью языка, как то делали русские писатели
девятнадцатого века?
-- Я же сказал вам, что этот ход -- ложный, -- ответил Княжко. --
Румяные близнецы -- гланды. Единственная кастрирующая операция, которую
моему телу пришлось пережить, это была операция по удалению гланд. Мне было
четыре годика. Мельком я видел их -- два красных клубочка, напоминающих
клубнику. Эта операция не принесла мне оздоровления. Напротив, я стал легче
простужаться и больше болеть. В результате у меня развился хронический
астматический бронхит, перешедший затем в астму. В общем, вся эта новая
версия "Дяди Яда" -- попытка ответа на вашу реплику о дедушке, о роли
Праотца, дарящего или продлевающего дыхание.
Северная сказала, что -- в качестве завершения чтения -- она хотела бы
прочесть одну вещь своего покойного мужа. Она достала рукопись, надела очки
и стала читать. Это была драма в стихах под названием "Филипп Второй". Нам
запомнились отдельные четверостишия.
Меж можжевеловых террас
Шел, опираясь на шута.
Как тушь сквозь воду пролилась
Двух одеяний чернота.
Или:
Эскуриал как белоснежный мрак,
Как кость, из коей высосали мозг.
И где мой Бог? И где мой шут? И где мой враг?
Лишь свист плетей. И визги жертв. И треск костров.
Лишь треск свечей. И сладкий дым. И черный воск.
Я так хочу. Пусть будет так, раз это -- Ад.
Пусть этот мир сто тысяч раз напишет Босх,
Но автор -- я. Я и Христос. Ведь он мой брат.
Далее следовало долгое обращение к Христу, наполненное благодарностями
за нисхождение во Ад, за основание Рая в Аду. Был неплохой образ Адского
Рая, имеющего вид слегка обугленной березовой рощи, затерявшейся среди
траншей, где блаженные (чьи белые рясы покрыты копотью и исписаны грубыми
словосочетаниями, типа "По Берлину!", или "Хуй в рот фашистам", или "За наш
Мадрид!") спят на лужайках или делают надрезы на деревьях и медленно пьют
березовый сок.
Поэма понравилась. Нас вообще трогают литературные произведения. Ведь
они создаются для того, чтобы принести другим удовольствие. Было так
приятно, так мирно под оранжевым шарообразным абажуром, который отражался в
очках вдовы. За большим полукруглым окном чернели деревья. Что-то
поскрипывало в деревянных недрах дома. Покой. Глубокий покой. А, может быть,
все еще действовал принятый накануне тазепам.
-- Когда Константин Константинович написал эту вещь? -- спросил Коля
Вольф.
В ответ скрипнуло кресло, черная ветка ударилась о стекло окна, и вдова
произнесла обыденно:
-- Несколько дней тому назад.
Северная рассказала, что замысел поэмы "Филипп Второй" зародился У ее
мужа давно, в конце тридцатых, когда Северный воевал в Испании на стороне
республиканцев. Потом он все не мог осуществить свое намерение, занятый
другими литературными и житейскими делами. В конце 70-х годов Константин
Константинович, по примеру сэра Артура Конан Дойля и великого Гарри Гудини,
заинтересовался спиритизмом. За этим овальным столом с тех пор нередко
вызывали духов. Перед смертью Константин Константинович попросил жену
поддерживать с ним связь с помощью спиритизма. Умерев и освободившись от
земных забот, он принялся диктовать своей вдове литературные произведения,
реализации своих давних неосуществленных планов.
-- Вчера я разговаривала с Костей и сказала ему, что внучки Игоря будут
сегодня у меня. Он просил, чтобы мы связались с ним. Константин Константиныч
с Игорем Андреичем ведь были большие друзья. Если вы не возражаете... -- С
этими словами Северная плавными, скромными и в то же время хорошо
отработанными движениями сняла со стола сахарницу,
чашки и вазочку с печеньем, затем сдернула скатерть, и обнажилось
спиритическое "поле", то есть большой лист ватмана, на котором карандашом
был очерчен большой круг, оснащенный буквами русского алфавита.
-- Однако отсутствует внутренний кружок, для блюдца, -- сказали мы, и
одна из нас коснулась кончиком пальца центра листа, где стояла простая, еле
видимая точка.
-- Блюдце нам не понадобится, -- улыбнулась Северная. -- Блюдце,
конечно, хорошая вещица. Вечная вещица. Но есть кое-что более натуральное
и... как бы это выразиться? Нечто более замкнутое. Мы обычно используем
яйцо. Этот способ изобрел Константин Константиныч, опираясь на древние
гадательные практики.
Она повернулась к одной из нас:
-- Ты не могла бы пойти на кухню и принести яйцо из холодильника? Бери
с печатью. Яйцо должно быть диетическое, неоплодотворенное. Здесь нужна
невинность. Полная невинность. Иначе получится почти что черная магия, а
если так, то потом хлопот и всякой гадости не оберешься... Поэтому я
специально вчера купила в магазине "Диета". Там абсолютная гарантия
невинности. Абсолютная.
По коридорчику, устланному плетеными пестрыми ковриками, я прошла на
дачную кухню. В холодильнике было только одно яйцо -- небольшое, белое, с
синей печатью "Диета" на белом боку. Остальные яйца -- уже сваренные
вкрутую, раскрашенные в разные цвета, некоторые, помеченные буквами X. В.,
-- лежали горкой в корзинке посреди кухонного столика, готовые для
завтрашней Пасхи. Рядом возвышался кулич в пакете и пасхальный творог,
бережно затянутый пергаментной бумагой. Сжимая холодное яйцо в ладони, я
вернулась в гостиную.
Княжко взял яйцо и стал с глубокомысленным видом рассматривать его,
держа четырьмя пальцами снизу, за утолщение. Сам по себе этот жест был
цитатой -- несколько издевательской цитатой из фильма Феллини "Амаркорд",
который мы вчетвером недавно посмотрели в кинотеатре дома творчества. В этом
фильме подобным образом яйцо созерцал безумный брат отца, ненадолго взятый
из сумасшедшего дома ради пикника.
-- Яйцо, -- вымолвил Княжко, состроив гримасу "философа". -- Это яйцо
имеет к вам, девочки, непосредственное отношение. Ведь вы -- однояйцевые.
Одно яйцо. Одно оно. Здесь могло бы быть два "оно", если бы не буква "д".
Уберем букву "д" и получится "оно оно". Но букву "д" так просто не уберешь.
"Д" твердо стоит на страже одиночества "оно". Оно одно.
-- "Д" это дверь, -- неожиданно сказал Коля Вольф.
-- А еще "д" это "дурочка", "деревня" и "дрова". Вообще "дерево", --
прибавила Севрная.
-- Но что означает слово "яйцо"? -- Княжко продолжал изображать
"мыслящую обезьяну", сидящую на книгах и рассматривающую череп (изваяние
такой обезьяны стояло на столе Ленина в его кремлевском кабинете), -- он
взял бумажку и быстро написал на ней: -- "Яйцо" означает "Я" -- й (есть) --
цо (что)". В некоторых славянских языках, например в чешском, "что"
произносится как "цо", "есть" произносится как "йе". Таким образом, в слове
"яйцо" содержится высказывание "я есть что". С одной стороны, поменяв
местами слова, мы получим основной гносеологический вопрос "Что есть я?" Но
в яйце мы обнаружим и ответ на этот вопрос: "я есть "что?", то есть "я" есть
вопрос и вопрошающий. В букве "я" зашифрован знак вопроса. А если мы обведем
знак вопроса чертой, то получим яйцеобразный эллипс. "Я" это то, что
вопрошает. В "Амаркорде", который мы вчера посмотрели, сумасшедший смотрит
на яйцо во время пикника. Этому предшествует эпизод, когда они с братом
выходят из машины, чтобы помочиться. При этом сумасшедший забывает
расстегнуть брюки. Он, как принято говорить, "писает в штаны". Он находится
в беспамятстве, он не помнит, кто он. Быть собой, быть "я" означает
вопрошать и, не в последнюю очередь, вопрошать о своей половой
принадлежности. Исследование мира, как утверждал Фрейд, начинается с
исследования гениталий. К этому исследованию относится и то, что ребенка
постепенно приучают контролировать мочеиспускание. "Пописав в штаны",
сумасшедший смотрит на яйцо, то есть задает себе вопрос "кто я?" Он
вспоминает, что он -- мужчина. После этого он залезает на дерево и начинает
кричать "Хочу женщину!" Он вспоминает о своем поле, то есть о своей
неПОЛноте, о том, что он -- лишь ПОЛ яйца. Он требует себе половину, чтобы
совокупиться с нею и, тем самым, приблизиться к яичному совершенству.
Гермафродиты Платона, надо думать, были яйцеобразны.
-- А вам бы вот все вербализовать, иначе не успокоитесь, Олежек, --
ворчливо заметила Северная. Княжко продолжал рассматривать яйцо.
-- Яйцо это тело, у которого скелет не внутри, а снаружи, -- сказал он
после короткой паузы. -- Поразительна способность кур нести
неоплодотворенные яйца. Как если бы женщины, не совокупляясь с мужчинами,
рожали бы детей, но неодушевленных, как вещи или питание.
-- Отвратительная мысль, -- сказали мы.
Северная взяла яйцо и черной тушью нарисовала на его скорлупе стрелку.
Затем она положила яйцо в центр круга -- там, где стояла точка.
-- А вы, девочки, не желали бы побеседовать с вашим дедушкой? -- вдруг
спросила вдова, взглянув нам в лица своими молодыми вишневыми глазками. Мы
посмотрели друг на друга. Вопрос застал нас врасплох, и решение следовало
принимать мгновенно. Мгновенно, раз и навсегда. И в эту минуту мы обе
подумали об одном. "Не выводите меня из себя", -- сказал нам Дедушка. Не
пробормотал сквозь сон. а пооизнес отчетливо, в ясном сознании, в ясный
морозный денек, весело поднимая рюмку с янтарным виски, в котором сверкало
солнце. Эта фраза должна была завершать наш роман, посвященный дедушке. Это
было своего рода завещание, напутствие. В доме Северной, под оранжевым
абажуром, глядя на яйцо с черной стрелкой и с синей печатью на боку, мы
наконец поняли, что дедушка имел в виду. Мы должны были содержать дедушку в
себе, в своих сердцах и в пульсирующем пространстве между нами, но никогда
-- с тех пор, как он умер, и пока живы мы, -- мы не посмеем вывести его
вовне, за наши пределы. Если бы мы согласились на предложение Северной, если
бы мы позволили сообщениям, исходящим от дедушки, прийти к нам извне, со
стороны яйца, со стороны веснушчатых рук Северной с оранжевыми ноготками, со
стороны Княжко и его шерстяных кофт, со стороны Вольфа, со стороны робости,
жадности, ужаса и надежды, со стороны Минска, Киева, Пинска, Львова,
Мукачево, Чопа, со стороны Мурманска, Архангельска, Петзамо,
Петропавловска-Камчатского, со стороны Свердловска, Игры, Бодайбо, со
стороны Минеральных Вод, Нальчика, Нахичевани, Адлера, со стороны
Душанбе, Иркутска, Орла, Владивостока, Находки -- если мы бы позволили
это, мы предали бы завет дедушки, мы вывели бы его из себя. Для того, чтобы
сообщаться с дедушкой, нам не нужны окраины, не нужны другие, только мы сами
и священная пустота между Нами, только Великая и Ужасная Москва и Прекрасное
Подмосковье, только сладостное и тайное окошко в небесах, распахнутое
настежь где-то над стрелой Кутузовского проспекта -- там, где эта стрела,
летящая от самой нашей дачи, великолеп-\но вонзается в Центр Мира, пронзив
насквозь черно-белую Триумфальную арку, оставив ее посередине своих
стремнин, оставив циклопического Кутузова, прикоснувшись ласково к его
Слепому Глазу, белому, как яйцо, белому, как брюшко царевны-лягушки...
Дедушка свободно обращался к нам от МИДа, от гиганта Смоленской площади,
сопровождаемого двумя роботами-телохранителями, двумя
близнецами-небоскребами. Он говорил с нами гостиницей "Украина", он улыбался
нам Скобой Ростовской набережной, его голос возникал из совокупного гула
Киевского и Белорусского вокзалов, он вращался огромным глобусом на углу
Калининского проспекта и Садового Кольца, он высказывался в форме высотных
зданий площади Восстания и Котельнической набережной, высказывался
белоснежным зданием Правительства РСФСР, имеющим вид колоссального белого
кресла или трона, увенчанного золотыми часами и флагом... За изъеденной
окошками спинкой этого трона еще теплились мятые переходы, канавки,
полуизбушки, мостки, ракетки, пробки, стопки, коричневые пузырьки... Дедушка
стал Гудвином. Дедушка стал Москвой. Но даже этого нам было не нужно.
Дедушка просто стал нами. Стал двумя девушками.
-- Нет, -- сказали мы.
-- Ну что ж, тогда попросим Константин Константиныча выйти на связь, --
улыбнулась Северная.
Каждый из нас протянул руку, и они сомкнулись над яйцом, образовав
нечто вроде крыши в виде цветка с пятью лепестками. Пять рук. Две из пяти --
одинаковые. Наши. Узкие, смуглые, с тонкими изящными пальцами. Одна бледная
широкая юношеская рука Вольфа. Часы. Золотые мужские часы "Ракета" на
запястье этой руки. Веснушчатая рука Северной с острыми оранжевыми
ноготками. Украшенная двумя кольцами -- одно в виде змейки, другое с желтым
сапфиром. Пухлая онанистическая рука Княжко. Рука аббата. Они сомкнулись.
Кончики пальцев соприкоснулись в центре "цветка". Голос Северной произнес:
-- Костя, мы здесь. Ты нас слышишь?
Герб Союза Советских Социалистических Республик. Откровение. Инсайт.
Все небольшое, но отчетливое. В центре герба -- яйцо, повернутое острым
концом вниз. Сквозь прозрачную скорлупу виден желток -- расчерченный
параллелями и меридианами, покрытый силуэтами морей, украшенный серпом и
молотом. От яйца во все стороны распространяется сияние -- сложное,
образующее завитки: извивающиеся лучи, похожие на ленты, другие лучи --
зернистые, волосатые, колючие, сверкающие, как золотые колосья. Над яйцом --
пятиконечная звезда, созданная пятью сомкнувшимися ладонями, словно пятью
крыльями. Овальное окно дачи, в нем -- оранжевый абажур, светящийся желток.
Овальный стол, за которым когда-то собирались Рыцари Овального Стола,
"эсэсовцы", как они в шутку называли себя. Святые Старики, заслужившие
награды в борьбе с фашизмом, в борьбе с черной плесенью человечества, члены
тайной группы "Советский Союз". Они так и не нашли свой Грааль, не разыскали
свой Эскалибур, когда-то собственноручно вычеркнутый Лениным из герба. Но
Эскалибур и Грааль отныне -- одно. Это яйцо, драгоценное яйцо, усыпанное
сапфирами, топазами, жемчугом, рубинами, изумрудами, алмазами, халцедонами,
гранатами, горным хрусталем, бериллами, опалами, малахитами, лунными
камнями, оксанитами. Яйцо, обвитое платиновой змейкой. Тикающее, заводное
яйцо, снабженное часами -- крупными, золотыми, мужскими часами "Ракета".
Часы Вольфа, отмеряющие время Волчьего Щелчка. Вертящееся яйцо -- это
Волчок. Князек на Волчке. И с ними Княжна. Все на Волчке. Яйцо Фаберже,
украшенное овальным миниатюрным портретом Александра Второго. Эмаль. Розовое
лицо монарха. Розовое личико Освободителя. Но бомба не взорвется, она --
диетическая, неоплодотворенная. Ангелическая. Иначе хлопот и всяческой
мерзости не оберешься. А если и будет Взрыв, то -- Диетический Взрыв. Кости
не слышат. Они давно превращены в порошок, в чистый пепел, запаянный в
небольшой стальной урне. Урна помещена в торец гранитной плиты -- там
имеется специальное углубление, ниша, задвинутая медным Щитком. Лишь тонкий
слой стали, лишь тончайшая техническая медь отделяет пепел от зернистого
снега, от ледяных корост, связующих земляные комья. Снег и лед что-то
шепчут. Они поют. Нечто вроде колыбельной. Они поют, потрескивая, оседая
внутрь себя. Они поют: "Костя, мы здесь. Ты нас слышишь?" Но кости не
слышат. Слышит что-то другое. Что-то слышит. И откликается. Что-то очень
похожее на наркотик, на волну веселящего газа проникает в людей, сидящих
вокруг спиритического столика, заставляя их хохотать, заставляя их глаза
возбужденно сверкать, заставляя яйцо резво кататься по бумаге,
останавливаясь ненадолго то у одной, то у другой буквы...
Поутру старушка мать Северной -- собралась в церковь святить куличи,
яйца и пасху. Увидела на столе яйцо со стрелкой. В банке еще оставалась
разведенная золотая краска. Старушка быстро покрасила яйцо и положила
сушиться.
Двор церкви был полон старушками и женщинами. Священник брызгал
метелкой, щедро поливая святой водой пасхальные яства. Возвращалась через
кладбище. Люди клали яйца и кусочки кулича на могилы, оставляли на плитах
рюмки с водкой. Так же поступила и Нина Николаевна. Рюмку водки и кусок
кулича положила на могилу умершего тестя. Хотела положить туда же и золотое
яичко, только что освященное.
Чуть было оно не вернулось к тому, чей дух еще вчера гонял его по
ватманскому листу. Но старушка вдруг вспомнила, что покойный тесть никогда
не ел яиц. Рядом блеснуло на овальной фотографии детское лицо. Мишенька
Барсуков. Нина Николаевна вздохнула и осторожно положила яйцо на край
Мишиной плиты.
Ночью, когда все были в церкви, парни из поселка пробрались на
кладбище, чтобы выпить водку, оставленную на могилах. Они не были особенно
кощунственно настроены, просто, что называется, молодость бродила в крови и
очень хотелось смочить горло водкой. Один из них, Володя, опрокинув рюмку,
предназначенную для Константина Константиныча, поискал чем бы закусить. Под
руку попалось золотое яйцо, тускло блеснувшее на могиле Мишеньки Барсукова.
Володя хотел было ударить яйцом об угол могильного памятника, но его
остановил другой парень, Андрюха.
-- Ты че, дай посмотреть. Ишь как блестит! Золотое, блин, непростое. Ты
что, охуел -- такую красоту ломать!
Андрюха бережно спрятал яйцо в карман поролоновой куртки. Куртка была
темно-красная, на ней в разных местах пастовой ручкой нарисованы были
стилизованные черепа, молнии, распятия, силуэты девушек и готическими
буквами были написаны названия групп Блэк Сабат, AC/DC и Назарет. Потом
парни вскочили на мотоциклы (их называли козлами) и помчались под грохот
моторов, под грохот магнитофона на одном из седел, обратив вольные,
окаменевшие лица к пасхальной луне.
Вкусив скорости, вкусив грохочущего полета, Андрюха отделился от друзей
и направил козла в сторону родных пенатов. Где-то во тьме светлой ночи был
домик с наличниками, где спали его родители.
Дорога шла мимо пруда. Какие-то девушки, визжа, пытались купаться в
холодной апрельской воде, воображая себя русалками ранней весны. Визги были
совсем пьяные. В другую ночь они бы, наверное, побоялись. Но в светлую
пасхальную ночь никто, кажется, не боялся ничего. Андрюха резко осадил
"козла" и, как Актеон, подглядывающий за купанием Дианы и нимф, подкрался к
кустам. Его заметили с хохотом.
-- Эй, не боитесь тут одни, без мужиков? -- спросил Андрей.
-- А ты не боишься, мы ведь русалки? -- спросили его пьяные голоса.
Чтобы доказать, что он не из робких, и вообще показать себя с лучшей
стороны, Андрюха быстро разделся и нырнул. Холодная вода обожгла, как утюг.
Перехватило дух. Он поплыл саженками. Одна из девушек, лихо крикнув, тоже
пустилась вплавь. Он подплыл к ней. Ее тело смутно белело в темной воде,
длинные волосы плыли за ней, как упавшая в воду охапка трав.
-- Христос воскрес, -- сказал он.
-- Воистину воскрес, -- ответила девушка.
Они поцеловались.
На берегу их уже ждали с растиранием, с бутылкой водки, которую
торопливо передавали из рук в руки. Затем закурили.
-- Есть чего-то хочется. Разговеться б надо, -- сказала Лена (так звали
девушку, которая купалась с Андреем).
-- А у меня яйцо есть! -- радостно воскликнул Андрюха.
-- Как, всего одно? Мы думали, парочка найдется, -- хохотнули девушки.
Андрей полез в карман куртки, думая, что скорлупа, наверное, треснула.
Однако яичко было целехонькое.
-- Ух, золотое! Как из "Курочки Рябы"!
-- Я же говорил: золотое-непростое, -- просиял Андрей.
-- Ну, такое грех просто так есть. Поехали разговляться!
Дальше было все то, что бывает в таких случаях, в такие ночи. Гонка по
пустому шоссе на мотоцикле, и ощущение девического тела, прижавшегося сзади,
и ее руки, сцепившиеся у него на поясе, и залезание в окно нижнего этажа
женского общежития текстильного ПТУ, и разговление красными маринованными
помидорами, сухарями, рисом, сардинами и водкой. Нашлось и другое яичко --
красное. Ленка с Андрюшкой "тюкнулись". Треснуло Ленкино, Андрюшкино золотое
осталось целехоньким, как ему и было положено по сюжету сказки. -- Ну,
старик бил-бил -- не разбил. Старуха била-била -- не разбила. А где же
мышка? -- хохотали все. Затем были танцы под "Игглз", под "Смоки" и под
ансамбль Поля МоРиа, и спор из-за Оззи Осборна и Сида Виджеса. Спор,
неожиданно и незаметно перешедший в пение русских и советских песен
приглушенными голосами. Парней немало холостых на улицах Саратова... Сняла
решительно пиджак наброшенный... Ты меня ждешь, и у Детской кроватки не
спишь, и поэтому, знаю, со мной ничего не случится...
Ленка с Андреем незаметно выскользнули из комнаты. В каком-то Уголке,
на расшатанной банкетке они совокупились. Затем закурили, стряхивая пепел в
пустую консервную банку. В этом Уголке общежития было тихо, только
откуда-то, из-за закрытых дверей, доносились пьяные крики и музыка. В
коридоре жужжала неоновая трубка, словно цикада в летнем поле. Стебли
традесканции бессильно свешивались из керамического вазона, прилепившегося к
зеленоватой неровной стене. На подоконнике лежали две книги. Андрюха взял
первую. Она была тонкая, детская, истрепанная. "Терра-Ферро". Сказка. Автор
-- Пермяк. Иллюстрации Ильи Кабакова. Андрей раскрыл на картинке: люди в
ботфортах, в сине-красных мундирах разбегались в разные стороны от огромной
разбитой бутылки, из которой выпархивало странное существо, похожее на
щепку. "История мадемуазель Корро де Ржа". Андрюха неожиданно зачитался.
Лена дремала, положив голову ему на плечо. В книге рассказывалось о
стране, где правили три короля -- железный, деревянный и золотой. Железному
принадлежало все железо и все металлургические предприятия, все связанное с
железом. Деревянному -- все дерево, все леса, деревообрабатывающая
промышленность, бумага, книги. Золотому -- золото, банки. Они ненавидели
друг друга. Железный король раздобыл где-то ведьму по имени Гниль -- в лесу
она сосала трухлявый пень. По приказу короля ей вставили железные зубы. Все
предприятия деревянного короля рухнули. Все съела Гниль. Он сам стал гнить
-- он ведь был древесным гигантом, на голове у которого рос сосновый лес. В
старом архиве он разыскал рукопись о прекрасной даме Корро де Ржа, которая
питалась железом. Когда-то ее заточили в гигантской бутылке с маслом и
бросили в лесу. По приказу деревянного короля ее освободили. Все государство
пришло в упадок. Золотой король сбежал. Железный король погиб от ржавчины,
как и все железное. Люди вроде бы одичали. Иллюстрации Ильи Кабакова
изображали дикарей с остатками шляп на головах, которые бегали среди руин.
Над городами кружилась прекрасная Корро де Ржа.
Леночка вдруг проснулась, взяла с подоконника вторую книгу. Тоже
детская. "Алиса в Зазеркалье". Раскрыла. На гравированной иллюстрации
девочка в нарядном платье стояла перед стеной, на которой восседал
Шалтай-Болтай.
-- Давай сделаем Шалтая! -- воскликнула Лена. Она схватила Андрея за
руку и потащила обратно в комнату. Здесь уже все спали -- девушки в обнимку
с какими-то незнакомыми ребятами. В углу, в магнитофоне, догорала какая-то
музыка. Кажется, Кин Кримсон. На столе, среди объедков, мусора и пустых
бутылок лежало золотое яйцо, чудом никем не съеденное.
-- Шалтай-Болтай! -- громко сказала Лена, указывая на него.
В ответ кто-то заворочался в углу, под байковым одеялом, и сквозь сон
произнес с восточным акцентом: "Шахсей-Вахсей".
Из тумбочки Лена достала куклу, изображающую Незнайку. Сняла с него
желтую байковую рубашонку, зеленый широкий галстук в горошек, синие
брюки-клеш. Одела яйцо. Теперь оно казалось человеком -- с пустым личиком и
золотой лысиной. Чтобы прикрыть лысину, надели на него синюю шляпу Незнайки.
Яйцо снова преобразилось. Была на нем печать с датой, удостоверяющая
свежесть, неоплодотворенность, невинность. Была черная стрелка, нарисованная
тушью для того, чтобы яйцо, повинуясь неведомым потокам, течениям и толчкам,
каталось по ватману, указуя на буквы, из которых шепотом слагались фразы.
Все это скрыл слой золотой краски. Сверху, на позолоту, легло освящение,
брызги святой воды с метелки. А теперь все это прикрылось было тряпичной
одежкой, ризами Незнайки, сшитыми по моде 60-х годов, а то и конца 50-х --
Незнайка (если не считать широкополой шляпы с кисточкой) был ведь так
называемым "стилягой". Оставив нагого Незнайку на тумбочке, Лена с Андреем
отправились гулять.
Стояли влажные предрассветные сумерки. Уже начинали с осторожной
веселостью перекликаться птицы. Ребята долго бродили по лесу. Лена несла
Шалтая. Наконец, нашли подходящую "стену" -- это был бетонный, основательный
забор какой-то солидной дачи. Андрей приподнял Лену за талию, и она усадила
Шалтая между двумя металлическими зубчиками, торчащими сверху из стены.
Шалтай-Болтай сидел на стене
Шалтай-Болтай свалился во мне.
Вся королевская конница
Вся королевская рать
Не может Шалтая, не может Болтая
Не может Шалтая-Болтая
Собрать!
Торжественно продекламировав стишок, Лена метко кинула в нелепо
наряженную фигурку с золотым лицом ветку, имеющую форму "пистолетика".
Попала. И Шалтай, опрокинувшись, исчез за стеной.
-- Представляешь, Маша, мы вот с тобой не пошли в церковь, а Пасха к
нам сама пришла, -- сказал Борис Анатольевич, входя на террасу. В руке он
держал золотое яйцо, обряженное в кукольную одежду. -- Это я нашел у самой
ограды, знаешь, в самом глухом углу, где сплошная крапива. Даже ума не
приложу, что меня сегодня спозаранку занесло в эту заросль? Обычно-то я по
дорожкам гуляю. А тут как будто дело какое -- встал пораньше, ты еще спала,
натянул сапоги и пошел по кустам, вроде как проверять что. И вот -- нашел.
На ветке куста висело. Видать, бросил кто-то через забор. И ведь не
разбилось! Вот, встречай гостя, Машенька. Борис Анатольевич поставил яйцо на
стол. Мария Игнатьевна посмотрела на мужа поверх очков и улыбнулась. Давно
уже не видела она своего старика в таком веселом расположении духа. Борис
Анатольевич раньше принадлежал к тем, кого в народе зовут "начальство". Был
заместителем министра энергетики. Да, была высокая должность, была
интересная работа, но... Пришло время уйти на покой. Вот уже несколько лет,
как Борис Анатольевич вышел на пенсию и поселился безвыездно здесь, на
ведомственной даче. Последний год он пребывал в депрессии -- нелегко,
бывает, дается человеку деятельному погружение в пенсионную "тихую заводь".
Не развлекали ни чтение, ни спорт, ни возня с парником, ни рыбалка. Не
радовали даже редкие приезды детей с внучатами. К спиртному Борис
Анатольевич был равнодушен. Охоту никогда не любил. "Не понимаю, как это
люди радуются, зверей и птиц убивая", -- пожимал он плечами. В общем-то, он
был атеистом. Кроме как в детстве, с бабкой, в церкви не бывал. Но тут
вдруг, после Светлого Воскресенья, посветлело на душе. И вот яичко золотое,
пасхальное, в забавной одежде явилось как привет оттуда, с горки, где
поблескивали золотые купола и разносился радостный пасхальный благовест.
С этого дня он как-то изменился: взял себя в руки, подтянулся. Стал
чаще возиться в саду с парниками, по вечерам читать. Понял, что многие
проблемы возникают от неправильного питания. Наконец заставил себя сесть на
продуманную диету, что давно уже надо было сделать. Книги по диетологии,
сочинения Брега, Шелтона, труды по йоге появились на его рабочем столе.
Исчезла тяжесть и мутная печаль, и тупое оцепенение по вечерам, и
тошнотворная тоска поутру. В конце концов, успешно экспериментируя с
системами питания, он засел за книгу. Нечто вроде записок.
Предварительное название было: "Есть или не есть. Сумма
диетологического опыта для пожилых". Золотое яичко в одежде он бережно
поставил в сервант, за стекло, рядом со стопкой старых журналов "Здоровье".
А возле, усмехаясь, поставил фарфоровую мышку с изогнутым хвостиком. Хвостик
этот, казалось, вот-вот вздрогнет, дернется и заденет яичко -- так близко
застыл тонкий кончик хвостика от золотого бока. Между ними оставалось
расстояние в пол-миллиметра. Но мышка была фарфоровая, и хвостик ее (к
лукавому удовольствию обитателей дачи) был неподвижен.
1983-1997
Горячее
Я родился в селении Фомино. Трудно сказать, что это было: то ли
пригород, то ли дачный поселок, то ли слобода. По одну сторону дома шли
огороды и парники. С другой стороны сквозила большая потоптанная лужайка и
там же ворота, всегда закрытые железной скобой. Ходили через калитку, от
которой что-то вроде аллеи шло к стеклянной террасе. Через террасу и входили
в дом. Дом был большой, трехэтажный, наполовину городской, наполовину
дачный. Была одна общественная терраса и еще две частные, одна над другой.
Понизовы жили на втором этаже, в трех комнатах. Удобств особых не было.
Изящных вещей тоже не было, разве что одна большая картина -- портрет
кирасира на коне. Вскоре приехали из Омска родственники и навсегда осели у
нас. Мне стали стелить на полу в коридоре. Я был сирота. Родителей не было,
а дальние родственники и соседи казались мне истуканами. Решил устроить
истуканам веселый праздник. Была как раз осень, и кто-то скосил траву на
лужайке, собрал стожок.
За последние жаркие дни все успело хорошо просохнуть. Выйдя ночью из
дома, я перетаскал все сено в дом и раскидал по комнатам. Потом я полил пол,
стены и мебель бензином. Все спали, никто не мешал мне заниматься делом. С
собой я взял только портрет кирасира на разгневанном коне. Помню, как я
стоял на крыльце, жадно вдыхая ночной воздух. Потом подошел к открытому окну
нижнего этажа и бросил туда горящую спичку. Как я уже сказал, была осень. За
ночь слегка приморозило, и земля была схвачена инеем, так что бежать было
легко и приятно. Мешал только громоздкий портрет в тяжелой резной раме.
Когда я был уже на холме, я встал и оглянулся. Вместо дома стоял дрожащий
столб огня. Я видел, как жильцы, словно живые костры, мечутся там и здесь,
везде сея огонь. Скоро и все Фомино горело. Я швырнул тяжелый портрет в
темноту и побежал по лесной просеке. Зарево пожара скоро исчезло, и вокруг
была глухая ночь. Пробежав, наверное, часа два, я без сил упал и сразу
заснул. Когда я пробудился, то был поражен тишиной, которая стояла вокруг.
Весь лес словно бы умер. Деревья уже облетели, земля была покрыта палой
листвой. Стволы деревьев стали серебристыми от инея, листья хрустели под
ногами, промерзнув насквозь и сделавшись ломкими и хрупкими, как леденцы.
Освещение было ровное, серо-перламутрового оттенка. Пройдя несколько шагов,
я увидел, что на одном из деревьев сидит какой-то человек, одетый в черное
пальто. Короткие ноги в черных, хорошо начищенных ботинках свешивались вниз
с ветки. Лысая голова, борода и усы были покрыты инеем. Только теперь я
заметил, как страшно замерз. Человек приблизился ко мне, взял мои руки в
свои и долго держал. Из его рук в меня проникал жар. Лица я его не видел,
хотя оно было прямо перед моими глазами. Скоро мне стало жарко. Потом он
положил мне руку на лоб. Прошло минуты две. Незнакомец снял свою руку с
моего лба, повернулся спиной и ушел. Только тогда я с удивлением понял, что
это был Ленин. Я пошел напрямик через лес и скоро вышел к железнодорожной
платформе. Скоро подошел и пригородный поезд. Через полчаса я уже был в
городе. Никогда раньше я не выбирался из Фомино. Гигантский хрустальный
купол вокзала, грязный и пыльный, поразил меня своим заброшенным
великолепием. Попав на вокзальную площадь, я совсем потерялся. Цыгане
хватали меня за одежду, предлагая погадать. Незнакомый ребенок бросил в меня
недоеденное мороженое. Инвалиды на скрипящих колесах наперебой протягивали
грязные руки за милостыней, предлагали петушков на палочке, воздушные шары и
другие вещицы. Мой путь постоянно преграждали залежи тюков и котомок, на
которых дремали невозмутимые. Меня толкали, дергали за руки и за одежду и
давно уже обокрали бы до последней копейки, если бы у меня хоть что-нибудь
было. Темные, покрытые смуглостью и щетиной лица вдруг выглядывали с разных
сторон и исчезали. Тут были подбородки ужасных форматов, такие же носы,
различнейшие увечья, шрамы через все лицо. Ловкие пальцы прощупывали мои
карманы, но это меня не волновало. Внезапно я увидел в толпе нищих двух
старых цыган с мальчиком лет десяти. Мальчик был, видимо, болен какойто
болезнью. Он все время дергался, и прохожих поражало его увядшее лицо. К
тому же он не мог видеть: веки его очей были опущены. Не знаю, что
подтолкнуло меня, но я приблизился к ним и, наклонившись, положил руку на
лоб ребенка. В ту же минуту он излечился от болезней, его лицо приобрело
свежесть, глаза раскрылись и заблестели, тело перестало конвульсивно
дергаться. Цыгане бросились ко мне. Уж не знаю, что хотели они --
поблагодарить ли, убить ли меня. Я был, по молодости лет, резв и трезв, и
скрылся в толпе.
Да, большой город это странная вещь. Только взращенный в глуши может
понять его. Вот, например, кафе, и в нем старые дамы осторожно поедают
хрупкие пирожные таким образом, как будто их насильно кормят невидимые
существа. Вот киоски -- даже в предутреннем сне не увидеть столь зеленых
киосков. Погляди вверх -- сколько стеклянных окон, а там террасы друг над
другом. Ты видишь сов из камня на перилах, замшелую трубу и ее поднятый к
небу дымовой палец. И я, погруженный в толпу, был найден неким взглядом,
принадлежавшим незнакомому человеку в сером пальто. Он приблизился, видно
гордясь своей четкой походкой, и спросил, глядя не на меня, а в сторону:
-- Ты -- Понизов, любезный?
-- Я.
-- А Фомино сгорело?
Мне показалось, горькая усмешка возникла и растаяла в уголке его рта. Я
подтвердил, думая о том, почему кожа моих рук так странно и невесомо пылает,
как Фомино ночью.
-- Вы врач? -- спросил я. Он кивнул, и кивок был таков, что я понял: он
-- военный врач.
Незнакомый взял меня за руку и втолкнул в дверь, которая как раз
находилась недалеко от нас. Но в подъезде он вскрикнул в темноте и отбросил
мою руку.
-- Эге, жжет сквозь перчатку! Затем чиркнула спичка, и спичкой он
осветил мне лицо, потом руку, которую схватил за запястье.
-- Что с руками? -- спросил он меня, причем глаза приняли взволнванное
выражение.
-- Это Ленин, -- ответил я, припоминая все обстоятельства. -- Когда я
бежал по мерзлой земле, что в лесу, а потом утром вышел на поляну, в том
месте, где толстые деревья все в инее, там на ветке сидел Ленин, и полы
черного пальто свисали вниз. Потом он приблизился и, взяв мои руки,
замерзшие от холода, долго держал в своих, после чего они так и горят до сих
пор.
Спичка давно погасла, а мой спутник все молчал. Я поискал его пылающими
руками, но не нашел ничего живого, только холодную стену, потом голые
металлические ноги, кажется, ноги девушки. Ее железная нагота...
Видимо, подъезд украшен был статуями. Я обратил внимание на удивтельное
и никогда не виданное мною прежде качество темноты, что окружала меня. Ни
одного проблеска не волновало мое зрение, ни один контур не выступал.
На ощупь я продвигался туда, где надеялся найти двери и выход на улицу,
но, видно заблудившись, почувствовал под своими ногами ступени и стал
подниматься куда-то наверх. Время от времени мои руки нащупывали в темноте
предметы, видимо составляющие украшение лестницы: вазы, колонны, круглые
балясины балюстрады, некие изваяния. Лестница, однако, поднималась не прямо,
а странно петляла, раздваивалась и разветвлялась. Я поднимался не менее часа
и, по моим представлениям, должен был уже находиться на большой высоте.
Впрочем, я не особенно задумывался об этом. Тьма растворила во мне все
мысли. Мои ладони продолжали гореть, и ощущение это можно было бы назвать
неприятным с таким же успехом, как и приятным. Наконец лестница кончилась, и
по гулкому отзвуку моих шагов, и по тому, как расступились вокруг стены, я
догадался, что вступил в залу, или же в анфиладу зал. Мне не хотелось идти
посередине этого пространства, инстинктивно я желал находиться у стены и
держаться за нее рукой, так я чувствовал себя более безопасно. Раздался
хруст плотной материи, что-то упало, треснув. "Ага, -- сказал я себе. -- Я
порвал и уронил какую-то картину, возможно, ценное полотно". Как это
свойственно человеческой природе, я испугался отзвука произведенного мною
шума и кинулся в сторону, потеряв спокойствие и равновесие. Ударился плечом,
раздался звон стекла, осколок скользнул по моей щеке, оставив на ней теплую
линию. Тут же что-то задвигалось, пустой звериный баритон выдавил "Га", и
небольшое живое тело упало мне на плечо. Я почувствовал теплые лапки
нечеловека, но оно, совершив следующий прыжок, кануло в беззвучную темноту.
Нелепый случай совсем сбил меня с толку, я потерял стену, двигаясь вдоль
которой еше мог надеяться на какую-то ориентацию. А разум, не приправленный
образованием, вдруг вспомнил поговорку: "Верь темноте, когда глаза не те". Я
двигался с большой осторожностью, но цель моего продвижения не была известна
мне. Вы можете предположить, что я желал выйти из тьмы к свету. Еще
неизвестно, что больше по душе человеческому существу: свет или темнота.
Впрочем, свет бывает разный и тьма бывает разная.
Итак, я продвигался в темноте, пока вдруг не увидел где-то далеко
впереди некий, как мне показалось, зеленый отблеск. Я приближался к нему,
натыкаясь по дороге на какую-то мебель и время от времени опрокидывая гулкие
каменные вазы. Вскоре я уже мог разглядеть стеклянный куб, заполненный
изнутри тусклым зеленовато-коричневым светом. У меня создалось впечатление,
что это небольшая закрытая вольера, вроде используемых в зверинце для
содержания земноводных существ, или же большой аквариум. Действительно,
стеклянные стенки этого помещения изнутри заросли зелеными и бурыми
растениями, напоминающими водоросли, а между ними на коричневатом песке
виднелось некое лежащее животное, похожее на крокодила. Приблизившись, я
убедился, что это и в самом деле крокодил. Недолго я смотрел на него сквозь
мутное стекло. Он был, конечно, прекрасен собственной особой красотой --
красотой болот, дамских сумочек, красотой пелены, неподвижности. Застывшая
улыбочка обнажала клычки в уголках его длинного рта -- это блаженство, эта
улыбка были, наверное, ответом на тепло, источаемое обогревателем.
Я продолжал блуждать в темноте до тех пор, пока не услышал какие-то
голоса. Один из них громко выкликал: "Иголка, нитка, катушка, коробка,
золотой наперсток, серебряный наперсток, медный наперсток, очки, свечка,
коробка, овечка, книжка, колесико, часы, манишка, манжеты, фалды, рояль,
пианино, табурет, подсвечник, виноград, ананас, гранат, персик, косточка,
ваза, блюдо, рама, зеркало, отражение, лицо, кровь, губа, рот, рука,
перчатка, стрелка, окно, дождь, лампа, фонарь, пьяница, пивная, официант,
кружка, пена, стул, стол, посетитель, шарик, язык, лужа, коридор, дверь,
уборная, вокзал, ночь, часы, стрелки, платформа, лавка, кот, темнота, поезд,
мыши, шум, грохот, вой, треск, железо, кондуктор, форма, усы, лицо, путь,
свет, стук, лавка, пустота, книжка, пассажир, окно, темень, мост..."
Другой голос, который я расслышал не сразу, доносящийся откуда-то
издалека, произносил: "Колоть, вдевать, бежать, ронять, катиться, надевать,
блеять, гореть, звенеть, блестеть, кричать, молчать, спрашивать, слышать,
виднеться, темнеть, отражать, хватать, бежать, встречать, пугаться, хрипеть,
плевать, харкать, пить, спрашивать, отвечать, говорить, гудеть, курить,
дымить, вести, высовывать, лить, угрожать, бить, падать открыть пугать,
предостерегать, провожать, закрывать, молиться, бояться, темнеть,
возвышаться, сидеть, уставать, вздрагивать, мяукать, присутство Гать
созвать, ловить, перегрызать, пищать, убегать, видеть, надеяться, Гичать,
приближаться, светиться, тикать, шуметь, грохотать, выть реS вводить,
сморкаться, кашлять, говорить, заикаться, слышать, думать, вынимать,
щелкать, звенеть, ехать, читать, греметь...
1982
Грибы
(Отчет о приключении)
Утром, во сне, я придумал короткое стихотворение. Точнее, оно мне
приснилось. Типичный онейроидный стиль:
Бессудебному много набреют в конверт:
Беззаботная старость, приятная смерть.
Видимо, здесь описываются благотворные последствия уничтожения кармы,
упразднения "судьбы". Останавливает на себе внимание только выражение
"набрить в конверт" -- непонятно к какому сленгу такое выражение могло бы
относиться: к уголовному, наркоманскому, бюрократическому? В конверте обычно
дают взятку чиновнику. Этот обычай хорошо иллюстрирует значение слова
"конвертируемость". Коррупция возможнаьтолько при указании на символическую
дистанцию между дающим взятку и принимающим ее -- эту дистанцию можно
преодолеть только "почтовым" усилием. Таким образом, существо, не имеющее
судьбы, неподвластное року, пребывающее в потоке случайностей, все же
коррумпируется роком, "сбривающим в конверт" различные привлекательные
сладости: беззаботная старость, приятная смерть.
От таких подношений никто не в силах отказаться!
Как бы там ни было, я проспал время встречи. Полагая, что упустил
возможность поездки на дачу, я лениво завтракал, утешая себя мыслью, что
глубокий утренний сон, в любом случае, является самым психоделическим
состоянием из всех возможных. Затем меня навестили друзья, которые принесли
много пирожков, еще горячих. Поев пирожков, мы отправились гулять на Речной
вокзал. Поглядев на пароходы, которые освещены были уже закатным солнцем, я
внезапно принял решение ехать на дачу. Решение было (как и все подобные
решения) мгновенным. Впечатление было такое, что какой-то ветер вдруг
подхватил меня и понес. Я, конечно, превосходно знал, что это за ветер.
Неожиданно распрощавшись с компанией, я сел в автобус, который довез меня до
станции "Ховрино". Пока ждал электричку, резко темнело. Состояние было
возвышенное и несколько пьянящее, как будто я совершал головокружительную
авантюру. В каком-то смысле этот пред-эффект был не менее впечатляющим, чем
сам эффект. Во всяком случае, в нем не было тяжести самого эффекта, не было
той дидактической серьезности, которая появилась потом. У меня была с собой
книга Юнга, и в поезде я читал. Хотя я читал не очень внимательно, меня не
оставляло ощущение, что я хорошо знаком с автором. Я отлично "знал" этого
честолюбивого деревенского старика, этого сельского врача, увлеченного
мистикой, вступившего в отношения сговора с собственным галлюцинозом. За его
рассудительностью, за его бесконечным здравомыслием, за его осторожностью
мне постоянно мерещились уловки буйнопомешанного. Постепенно он окончательно
отождествился в моем сознании с доктором Ватсоном, предавшим своего Холмса
(которым, естественно, был Фрейд). Его методы напоминают методы Ватсона,
оставшегося без поддержки своего гениального друга: когда детектив не в
силах определить тип фосфора, которым покрыта собака Баскервилей, он
начинает изучать историю светящихся призраков и мифологию семейных
проклятий. Когда я вышел на станции "Головково", было уже совершенно темно.
Я быстро прошел поле, прошел по дорожке между дачами, прошел лесок и
мимо странной квадратной лужи (которую не было видно в темноте, однако я
помнил о ее существовании), вышел на узкую прямую просеку, окруженную
дачами. Нигде не светилось ни одно окно. Я шел довольно долго и уже подумал,
что А. и М., должно быть, не смогли приехать и я сейчас окажусь возле пустой
дачи (словосочетание "Пустая Дача" часто фигурировало в ранних текстах МГ в
качестве квазифилософского термина). Наконец я с радостью увидел
разноцветное свечение знакомой терраски. Я поднялся на крыльцо и постучал.
Голос А., несколько испуганно, спросил: "Кто там?" Я хотел было ответить,
что это печник, но удержался. Мне открыли. Глаза М. и А. светились, как
огоньки в аквариуме, лица казались слегка увлажненными. Прочитывалась
характерная смесь свежести и утомления, несколько напоминающая преображение
людей в парной бане. В., которого я раньше никогда не видел, сидел в кресле,
держа спину очень прямо.
Он выглядел как просветленный йог. В отличие от А. и М., В. был одет
подчеркнуто по-домашнему, в его одеянии мне почудилась какая-то больничная
интимность. Если я не ошибаюсь, он был в теплых кальсонах, в тапках, на
коленях держал аккуратно свернутый плед. Помню, что я воспринял это одеяние
как знак, сообщающий о том, что в измененной реальности В. чувствует себя
"как дома", что он в этих "мирах" является "своим", как бы постоянным
обитателем этих "миров". В углу, на столике, стояла черная сковородка с
аккуратно нарезанными кусочками омлета. Рядом стоял вскрытый пакет с
яблочным соком. Я съел один или два кусочка омлета, после чего сел между М.
и А. напротив печки. Мне дали прочесть письмо одного молодого художника, на
многих страницах, напечатанное на компьютере, изобилующее развернутыми
цитатами из какихто западных философов. Я стал читать письмо вслух.
Совершенно не помню сейчас, о чем в этом письме шла речь, однако, по мере
чтения, текст казался все более, более смешным -- вскоре мы все (кроме,
кажется, спокойного В.) просто умирали от смеха, сгибаясь пополам,
раскачиваясь и поминутно утирая выступающие слезы. Мне показалось в какой-то
момент, что нарастающий внутри меня смех может дойти до какой-то критической
черты и просто убить меня -- это и будет та "приятная смерть", завершающая
мою раннюю "беззаботную старость". Компьютерный шрифт первоначально
черно-белый и четкий, стал разноцветным и разъезжающимся, постепенно мне
стало казаться, что письмо написано от руки, цветными чернилами и довольно
неразборчиво. Иногда эта иллюзия исчезала. Вместо того чтобы воспринимать
смысл текста, я интенсивно воспринимал (как мне представлялось) внутреннее
состояние его автора.
В каком-то смысле повторялся тот же эффект психологизации, которыйт
имел место в случае с Юнгом: я "чувствовал" все мучительные затруднения
этого молодого художника, бесконечность его растерянности, глубину его
изумления перед непроясненностью всего. Горделивый и уверенный бред западных
авторов, которых он цитировал, так контрастировал с фонтаном его
собственного недоумения, что это делало комический эффект практически
невыносимым. Я больше не мог читать. К тому моменту "первая фаза" была
налицо. Она была очень приятно. Мы сидели в волшебной деревянной комнатке, в
магической избушке, среди сказочного леса. Меня раскачивали мягкие волны
веселья и утепленного интерпретационного возбуждения. Все вещи немедленно,
как только мой взгляд падал на них, выдавали мне свои сокровенные тайны.
Особенно приковывали внимание источники света и тепла. Обычные лампы
казались чуть ли не новогодними елками, если бы новогодние елки могли
светиться с предельной интенсивностью. Везде чувствовалось присутствие
множества живых существ: какие-то "гномики" где-то неподалеку копошились в
сундучках, наполненных сокровищами, духи древесины подмигивали из разводов и
"глазков", которыми покрыты были стены. В общем, вводный период напоминал
детскую экскурсию в ТЮЗ, на утренний спектакль. Прямо перед нами находились
два источника тепла -- печка и электрический обогреватель, включенный в
сеть. Кроме тепла, они извергали массу культурных, метафизических и даже
просто стилистических сведений о себе. Желая развлечь остальных и себя
заодно, я стал интерпретировать узоры на печке. Помню их детально и сейчас.
Там было три иконографических уровня. Первый -- кафельный. Промежутки между
плитками складывались в изображение "Голгофы" -- три креста, центральный
выше, нежели боковые. Эти "межкафельные" кресты своими основаниями упирались
в чугунную заслонку печки, изображение на которой представляло собой
квадратную мандалу, довольно традиционную на вид. Я почему-то уверенно
"опознал" этот второй уровень как "Чинквату" -- место суда над умершими. Под
"Чинкватой" располагался чугунный щиток ящичка для пепла. Изображение на нем
показалось мне наиболее значительным -- оно напоминало ваджру, положенную
горизонтально. "Пепельный" уровень, куда все, перегорев, ссыпается в виде
приятного легкого бесцветного порошка, казался мне очень симпатичным и
величественным, но А., когда я дошел до этого места в потоке своего
герменевтического бреда, сказала, что это мрачновато. Электрообогреватель,
по контрасту с теологическим фундаментализмом печки, казался сооружением,
прилетевшим из бездонной глубины 60-х годов. По своему стилю он был
инопланетным и научно-Лантастичкг.ким В какой-то момент было решено
предпринять небольшую прогулку.
Когда я оказался за забором дачи, сказочность происходящего достигла
своего апогея, одновременно приобретая несколько зловещий оттенок. Был
момент легкой паники, когда я остался один в темноте, на грани (как мне
казалось) погружения в живой и переполненный энергиями ночной лес. Мне
казалось, что забор сомкнулся и собирается, надсмехаясь, скрыть от меня
калитку. Калитку пришлось искать на ощупь -- все это время забор был не то
чтобы сам по себе живым и зловредным существом -- сам по себе он был всего
лишь чередой довольно добродушных кольев -- однако уже ощущалось весьма
отчетливо присутствие посторонних сил, с легкостью заставлявших и меня, и
забор (а ведь мы с ним были, в сущности, друзьями) играть друг с другом в
игры, наполненные взаимным недоверием. Впрочем, тогда все это воспринималось
и как "магическая задача", которую я, в конце концов, решил. Меня уже сильно
"вело", однако все это были еще цветочки. Мы вернулись в дом и снова сели
так же, как сидели перед этим. А. время от времени смеялась, В. сидел
неподвижно и просветленно улыбался, М. сильно раскачивался и шепотом
матерился. Что же касается меня, то я постепенно почувствовал, что мне, как
принято говорить, уже не до шуток. Я чувствовал нарастающее давление,
тяжесть, которая постепенно становилась невыносимой. Одновременно я
почувствовал резкую скуку. Вся эта сказочность, все эти магические силовые
вихри и стремнины -- все это стало меня раздражать. С предельной ясностью я
вдруг осознал, что переживание, в эпицентре которого я нахожусь, мне в
сущности глубоко неинтересно и ненужно. Я вспомнил о хрупкости своего
сознания, о том, что много лет прожил, находясь под наблюдением психиатров,
и подумал, что игра, в которую я ввязался, не для психически неустойчивых
персон. Одновременно с этой вспышкой ипохондрии я ощутил страх другого рода
-- видимо, имеющий шизофреническое происхождение. А именно я испугался
разоблачения -- моим друзьям внезапно могло стать со всей очевидностью ясно,
что я не человек и никогда не был человеком. Тело мое, к тому моменту, стало
совершенно тонким -- я казался себе черным кузнечиком. Возможно, мысль о
моей психической хрупкости отлилась в этот галлюциноз, представлявший и мое
тело образцом насекомообразной хрупкости.
Самому мне было безразлично, кем быть, но поскольку я отчетливо видел,
что остальные присутствующие не теряют своего человеческого облика, то мне
стало чудовищно неудобно, как если бы деантропоморфизация была поступком
несветским (таким поступком она, в общем-то, и является). Давление на меня
все увеличивалось. Я уже не мог сидеть на месте.
Я встал и пересел на маленький стульчик, прислонившись к печке, словно
надеясь найти в ней себе опору. Однако тепло, исходившее от печки, только
сильнее "раскручивало" меня. В этом тепле теперь присутствовало что-то
тошнотворное. Я вскочил и перешел в маленькую комнатку с двумя кроватями, на
одну из которых я лег. Попытка лежать в полутемной комнате, возле нагретой
"спины" печки, была самым глупым мероприятием. Я истончился почти до
нитеобоазного состояния, а меня все плюшили и плющили уже заебавшие меня
силовые волны. Меня угнетало отсутствие музыки (являвшейся важнейшим
проводником и верным гидом моих предшествующих опытов такого рода). Я также
знал совершенно точно, что один глоток крепкого алкоголя мог бы резко
изменить ситуацию в мою пользу, а серия таких глотков могла бы без особых
проблем трансформировать мое состояние из адского в райское. У меня
достаточно опыта, чтобы утверждать это с полной уверенностью. Побывав в
таких ситуациях, человек без труда понимает, что имел в виду Джим Моррисон,
когда он пел в одной из своих знаменитых песенок: If we dont't find a
nearest whiskey-bar, I tell you, we must die. Сознание, что я, по
собственной рассеянности, очутился под прессом психоделического интоксикоза
без испытанных союзников (музыки и алкоголя), действовало на меня
деморализуюше. Если музыка это проводник, то алкоголь (он должен быть
крепким и качественным, вроде хорошего виски или коньяка) это тип руля, с
помощью которого можно контролировать состояния и "оседлать" делирий. К
силе, которая меня трепала и плющила, я не испытывал ни капли симпатии и
никакого интереса -- интуитивно я ее насквозь понимал, она была в тот момент
простой и архаичной силой яда и древнего мозгоебства. Если в ней и
оставалось что-то загадочное, то к этой загадочности я испытывал только
брезгливость. Несмотря на то что я находился под чудовищным натиском,
никакого мистического ужаса, кроме скуки и опасений за свое здоровье, я не
испытывал. "Сказочность", обернувшаяся такими неприятностями, потеряла в
моих глазах все свое очарование. Я был озабочен только одним -- как пережить
это время (когда это закончится, было не совсем понятно) и чем се-
бя в подобном положении можно развлечь и отвлечь. Я больше не пытался
лежать (это было физически мучительно), встал и вышел в комнату, где сидели
А., М. и В. Я сказал, что "все это начинает утомлять, и хорошо было бы
понемногу начать выходить из этого состояния". Я также признался, что мне
хотелось бы чем-нибудь занять себя. В. с благостной улыбкой сказал, что один
его знакомый, православный, любит в этих состояниях молиться, другой же
занимается гимнастикой, и следить за ним в эти моменты -- одно удовольствие.
У меня не было желания ни молиться, ни заниматься гимнастическими
упражнениями. Сначала я решил было покурить, чего не делал несколько лет, и
попытался смастерить самокрутку (в этот момент А. приняла меня за дедушку
Ленина, который что-то пишет за своим кабинетным столиком в Горках). Силовая
волна, почти зубодробительной мощи, воспрепятствовала моему намерению -- вид
табака и папиросной бумаги внушил мне отвращение. Кроме того, само это
занятие -- изготовление сигареты -- оказалось мучительно трудным. Оставив
самокрутку недоделанной, а все ее ингредиенты брошенными на столе, я вдруг
резко встал, вышел из комнаты и поднялся на второй этаж дачи. С этого
момента началась, по моему исчислению, вторая фаза моих переживаний. Сам по
себе подъем на второй этаж почему-то придал мне сил. Я вдруг приобрел
неожиданного союзника -- этим союзником был холод. Тепло печки не
распространялось сюда, и я вдруг испытал некоторое облегчение. Я был один в
ярко освещенной комнате второго этажа. В такие моменты все имеет значение --
простота и холод этой комнаты были "союзны" мне, также как и однозначное,
яркое и простое освещение. Мое состояние изменилось. Я вдруг ощутил силу, но
эта была уже не одолевавшая меня сила интоксикации и ее "демона", а моя
личная сила -- в некотором роде это была сила протеста, реакция,
напоминающая пресловутую волну народного гнева, внезапно выбрасывающая
оккупантов из страны в момент, когда они уже готовы овладеть ее жизненными
центрами. Я по-прежнему ощущал страшный силовой натиск токсикоза,
пропитанного мистикой, магией и волшебством. Однако я как бы принял вызов и
ощутил себя раздраженным настолько, чтобы вступить в поединок. Я взглянул на
часы (эта заводная мандала была на моей стороне) и заставил себя определить
время -- это было дико трудно, так как зрение было слишком измененным, знаки
казались перемешанными и искаженными, и вообще время было как бы "отменено".
Определив время (было около десяти часов вечера), я внутренне сказал злобно
и властно, обращаясь к яду: "Даю тебе ровно час, чтобы убраться из меня!
Через час чтобы духу твоего во мне не было!" Я бы, конечно, предпочел
немедленное освобождение, но разум подсказывал мне, что это невозможно --
слишком большие силы были введены в действие, требовалось время, чтобы
"свернуть военные действия и вывести войска". Я принялся расхаживать по
комнате из угла в угол, по диагонали, время от времени производя резкие
"сбрасывающие" движения руками и ногами, как бы "отбрыкиваясь" и при этом
шепотом приговаривая: "На хуй! На хуй!" Постепенно я почувствовал ритм
бредовых волн, этих приливов и отливов, и стал действовать с учетом этого
ритма -- во время каждого из "отливов" я закреплялся на новом участке
территории. Вскоре я вошел во вкус борьбы, ощущение поединка было абсолютно
реальным и захватывающим. Я больше не хотел алкоголя и музыки -- сейчас они
бы мне даже помешали, придав переживанию гедонистический оттенок. Сечас мне
нравилась сама суровость и нешуточность происходящего. Меня охватило
ощущение значительности, невероятной важности того, что происходит со мной.
Ветхозаветный образ Иакова, который "боролся с кем-то всю ночь", возможно,
присутствовал на задворках моего сознания, охваченного воинственным пафосом,
однако боролся я, по моему ощущению, не с Богом, а скорее с демоном. В
процессе этой борьбы я внезапно вошел в зону интенсивной внутренней
"проверки", осуществлявшейся на всех уровнях. Эта "проверка" была,
собственно, основным содержанием "второй фазы" -- тем, ради чего эта фаза
была аранжирована. В целом это переживание было пропитано дидактикой, оно
было насквозь моралистическим и при этом в нем присутствовала некая
прагматическая ценность.
Первый вопрос, который я был вынужден себе задать (под влиянием
категорического механизма "проверки"): нет ли чего-либо такого, что
подспудно отягощало бы мою совесть. В том случае, если бы нечто такое
имелось, мои шансы в поединке, в который я ввязался, резко бы упали: говоря
тактически, я не смог бы рассчитывать на свои маневренные возможности. Я
быстро проинспектировал свою совесть, пользуясь для этого чем-то вроде
"луча", и с некоторым удивлением обнаружил, что она ничем не отягощена.
Успокоившись в этом отношении, я тут же был вынужден запросить себя о той
жизненной ситуации, в которой я нахожусь в данный период жизни: не угрожает
ли мне что-либо? Не стоит ли мне предпринять какие-то действия, о нужности
которых я пока что не догадывался по невнимательности или из-за ложного
понимания ситуации? Затем я должен был последовательно перебрать все, что
меня каким-то образом беспокоит. Все эти вопросы (а точнее запросы,
напоминающие запросы, которые правительство засылает в министерства с
требованием отчетов) касались меня, как реального, ограниченного во времени
и пространстве своей жизни, лица. Я должен был вспомнить, взвесить и дать
оценку (будь то моральную или прагматическую) каждому из обстоятельств,
составлявших мою ограниченную реальность. Я отвечал на запросы быстро,
пользуясь "лучевым зрением", легко прорубающим запутанные толщи житейских
обстоятельств. Большинство проблем оказывались при этом рассмотрении
надуманными и несущественными: я приказал себе выкинуть их из головы. Я
перебрал все несделанные дела, все обязательства, невыполненность которых
меня нервировала, -- почти все из этих дел я нашел не заслуживающими
какого-либо беспокойства.
Теперь мне кажется смешным, что фактически в зоне этой сверхдидактики,
под прожектором беспредельной, космической ответственности я вынес
оправдательный вердикт всем своим недостаткам и слабостям -- лени, эгоизму,
безответственности, беспечности и привязанности к удовольствиям. В конце
концов я был "запрошен" относительно метафизического и практического
состояния мира в целом. Я быстро прощупал ситуацию и обнаружил, что, в каком
бы состоянии мир ни пребывал на данный момент, он по-прежнему находится под
божественным присмотром, а следовательно, все происходит именно так, как и
должно происходить. Предоставив судьбы мира заботам высших сил, я
окончательно успокоился. Одновременно мне показалось, что я успешно
"оседлал' те силы, с которыми вел борьбу, как ковбой во время родео,
удержавшийся на спине необъезженного мустанга или же как казак из повести
Гоголя, оседлавший черта (манипулируя угрозой крестного знамения) и
заставивший его лететь на прием к императрице Екатерине. Однако час еще не
прошел, и я по-прежнему чувствовал себя отравленным -- независимо от того,
кто из нас кого оседлал. Расхаживая по комнате и продолжая "отбрыкиваться" и
посылать психоделику на хуй, я обратил внимание, что все это время курсирую
между двумя точками -- с одной стороны это был край белой оконной рамы
городского типа, с другой -- косяк двери, к которому была прикреплена
бумажка с репродукцией иконы. Не помню, была ли это Богородица или
Неопалимая Купина. Оба предмета (оконная рама и репродукция иконы) были
моими "союзниками". Я испытывал удовольствие по поводу двух обстоятельств:
стандартный, типовой характер оконной рамы, напоминающей сразу обо всех
хрущевско-брежневских "новостройках" одновременно. И то, что икона была
репродукиие иконы. В силу собственной шизофреничное, я успевал во время
"проверки" параллельно размышлять над тем, почему эти вещи мне так приятны.
Помню, я подумал, что все современные рассуждения о репродукции почему-то
пропитаны недоброжелательством и осуждением, в то время как репродукция
гораздо уникальнее любого оригинала -- хотя бы потому, что репродукцию
нельзя репродуцировать: репродукция репродукции всегда останется
репродукцией оригинала. Оригинал как бы не удерживает собственную
уникальность, давая себя воспроизводить, тогда как репродукция (в силу
присущей ей божественной скромности) утаивает свою уникальность весьма
успешно. Будучи безличным, все типовое и тиражированное является более
удобным резервуаром для интимного содержания, нежели все оригинальное. Эти
размышления, кажущиеся полемически заостренными против Беньямина или
Бодрийяра, на самом деле в тот момент были полемически заострены против
древней магии и волшебства. Фоном этих мыслей было удивление по поводу
резкой дидактичности моих переживаний во время "проверки". Наконец я понял,
что весь этот поединок был, до известной степени, инсценирован. Во всяком
случае, он был важным номером в программе психоделического варьете. "Духи
интоксикации" на моих глазах три раза поменяли свой облик: начав в качестве
"доброго сказочника" и "ласкового волшебника", они превратились в
"силовика-террориста", в атлетически сложенного джинна, желающего
"замусолить к ебеням", а затем, раскрутив меня на борьбу, стали действовать
в духе классического гуру, строгого и опытного "учителя жизни", умело
фабрикующего педагогические ситуации, различные духовные закаливания и
полезные нагрузки. Такое многообразие проявлений и изощренность в деле
"отвода глаз", эта педагогическая хитрость -- все это заставило меня, в
очередной раз, изменить свое отношение к "духам". Я был, отчасти, восхищен
их мастерством и профессионализмом. Они, конечно, мастера своего дела и
(если пользоваться артистическим языком) "отлично держат зрителя". Однако, в
любом случае, я был утомлен всеми этими "перетрясами" и духовными бранями.
Надо отдать должное их аккуратности -- ровно через час, в районе одиннадцати
часов вечера, я был освобожден, как и требовал. Правда, в течение этого часа
"они" постоянно тормозили время, а.иногда вообще его останавливали. Мне
постоянно приходилось смотреть на часы и усилием воли реанимировать течение
времени: с колоссальным трудом, очень медленно двигать стрелки, словно бы
залитые клеем. Это было составной частью нашего поединка. Казалось, что за
этот час прошло как минимум часа три. Почувствовав себя, наконец, свободным,
я подошел к узкому зеркалу в утлу комнаты. Я увидел себя таким, как и ожидал
увидеть: лицо увлажненное, зрачки расширены, вид одновременно как бы
выздоровевший и заболевший (я был действительно уже простужен, но еще не
знал об этом). Напомнил сам себе картину "Проверена на партийной чистке". Я
спустился вниз. Какое-то время мы еще сидели и разговаривали. Возвращение в
обычную реальность казалось раем -- было невероятно приятно просто сидеть в
дачном уюте и вести дружескую беседу за чаепитием, вместо того чтобы
трястись на ухабах психоделического аттракциона.
Я был полностью уверен, что "все закончилось". Чувствовал себя вполне
нормально и вменяемо. Однако меня еще поджидала "третья фаза", классический
flash back. После чаепития все легли спать. Я заснуть не смог, но всю ночь
лежал в кровати весьма спокойно, о чем-то думая и чувствуя себя хорошо. При
первых признаках рассвета начался легкий галлюциноз -- потоки онейроидов за
закрытыми веками. Впрочем, это для меня явление нормальное. Ведущую роль в
разворачивании онейроидных образов удерживала за собой терраска с
разноцветными стеклами: она развернулась в сложную сеть витражных анфилад.
Настоящий flash back начался с первыми солнечными лучами. По своей силе и
интенсивности "третья фаза" ничем не уступала двум предыдущим, а в чем-то
превосходила их. Она была исключительно позитивной и заключала в себе резкое
нарастание эйфории, переходящей в состояние откровенного экстаза. Я больше
ни с кем и ни с чем не боролся, ничего не боялся и был преисполнен доверия.
Причиной тому было солнце -- самый мощный и колоссальный, в своей
очевидности, "союзник", которого я был лишен ночью. Вообще, солнце было
центральным действующим лицом этой "третьей фазы". Эйфория подбросила меня с
кровати. Я двигался как на пружинах, находясь в плавном и сильном
энергетическом вихре. Я оделся, взял со стола сигарету (которую доделал
перед укладыванием спать) и вышел из дома. Выйдя на просеку, я оказался
буквально вплавлен в мощный поток солнечного света -- солнце, только что
вылезшее из-за горизонта, экстатическим колобком висело прямо передо мной.
Оно само двигало мной -- я поддавался на этот раз охотно. Прогулка больше
напоминала плавание. Я прошел по просеке, затем через перелесок, вышел в
совершенно пустой дачный поселок. Поселок (как и все остальное, впрочем)
казался сногсшибательно прекрасным. Дойдя до края поля, я остановился и
выкурил сигарету. Затем я пошел обратно и углубился в лес по другую сторону
просеки. В этом лесу меня настиг пик эйфорических переживаний -- эффект был
настолько сильным, что на какое-то время я даже как будто бы "потерял
сознание", но не упал, а продолжал двигаться и воспринимать все. Очнувшись,
я обнаружил, что стою на четвереньках на большом поваленном стволе дерева.
Ствол был покрыт пушистым светлым мхом. Мое лицо было наклонено очень близко
к поверхности мха -- я видел его мельчайшие детали, его структуры и ощущал
его сильный запах. Какое-то время я еще ползал по стволу и общался с мхом,
затем я стал понемногу приходить в себя. Я дошел до того места, где лес
обрывался и начинались заборы следующего дачного поселка, и повернул
обратно. На обратном пути я увидел ярко-красные мухоморы, большую группу. Я
сорвал четыре мухомора -- по числу участников нашего приключения -- и с ними
вернулся на дачу. К тому моменту, когда я подходил к разноцветной терраске,
я уже был снова вменяем -- на этот раз "это действительно закончилось.
Вечером я поехал в Москву. В электричке у меня сильно заболело горло, и
стало знобить. Когда я вошел в свою квартиру, то был уже окончательно болен
-- у меня была высокая температура и все прочие признаки простуды. Однако
настроение у меня было на редкость спокойное и благостное. Возможно, мои
негативные переживания между первой и второй фазами были спровоцированы
начинающейся простудой. Есть и другое возможное физиологическое объяснение.
Меня предупреждали, что с утра не надо ничего есть. Я же не просто ел, но
злоупотреблял' пирожками. Насколько я помню, я съел девять пирожков: четыре
с рыбой, три с капустой и два с курагой. Впрочем, пирожки были вкусные, так
что я ни о чем не жалею.
1995
Ватрушечка
Таким вот образом въехал Филипп Павлович Плещеев в поле моего зрения:
на зелено-красном драконе с золотой чешуей, сидя между роскошных
перепончатых крыльев на лакированной скамеечке. Он вылетел из разноцветной
тьмы, из радужного дождя, и снова исчез, подскакивая и головокружительно
вращаясь в вышине, на большой китайской карусели. Когда драконы снизились,
он подошел ко мне и, протягивая руку, сказал: "Господин Мартов, нас ожидает
павильон ужасов". К тому времени я был уже знаком с его романом "Освальд".
Где-то в пустынном и диком месте останавливается поезд. Из вагона
первого класса (с "креслами синего бархата") выходит молодой мужчина в
грязном пальто. В руке -- большой чемодан. У него бледное лицо с вечной
маленькой улыбочкой. Нижняя губка честолюбиво оттопырена. Это Ли Харви
Освальд, будущий убийца президента Кеннеди. Большую часть книги занимает
переписка Кеннеди и Освальда. Освальд живет в гостинице, в полупустыне.
Гостиница расположена недалеко от железнодорожного полотна. В своем номере
Освальд вынимает из чемодана разобранное ружье с оптическим прицелом,
тщательно собирает его, укрепляет на подоконнике. Окно выходит в какие-то
сонные заросли. Освальда окружает тишина. Но его переписка с президентом
идет на истерическом взводе. В ней много упреков, каких-то неожиданных
воплей. Кеннеди кажется человеком огромного роста, пропахшим лекарствами, с
огромными длинными пальцами, необузданным, вечно взвинченным, проводящим
целые дни напролет в диком возбуждении. Освальда он называет в письмах
иногда "милый Ли", а иногда "мой дорогой Харви". Ли хочет убить Кеннеди, он
долго, старательно настаивает на этом, приводит доводы, доказывает,
убеждает, требует. Кеннеди яростно сопротивляется. Его письма начинают
напоминать прозу Пастернака по обилию исступленно цветущей сирени в вазах,
умножаемой зеркалами и поверхностями роялей. Эта сирень, а также весенние
грозы, цвет неба и звуки музыки вызывают какой-то дикий, неадекватный, не
влезающий ни в какие рамки восторг. Захлебываясь от восторга и ужаса, громко
топая, сопя, в огромном разметавшемся фраке, Кеннеди бегает по залам и
коридорам Белого дома. Там, под онейроидными люстрами, отражаясь в паркетах,
вечно длятся концерты великих исполнителей. Однако Ли упорен. Он тихо,
неизбывно и кротко добивается своего. Наконец согласие получено. Кеннеди
извещает об этом в суховатой записке, поражая несвойственным ему лаконизмом:
"Милый Ли! Я понял все. Ты не можешь иначе. Хорошо, я согласен. Джон".
Получив эту записку, Освальд собирает вещи, наводит порядок в комнате.
Несколько раз переставляет тяжелую пепельницу зеленого стекла. Перечитывает
записку, негромко бормоча: "Милый Ли... ты не можешь иначе..."
Затем он встает, подходит к ружью, нацеленному в открытое окно,
приникает глазом к оптическому прицелу, тщательно целится и, наконец,
стреляет.
Хайдеггер говорил об ужасе, который позволяет нам "осязать" Ничто.
Можно сказать,-что всякая тварь, пребывающая во времени, должна обладать
некоторым "воспоминанием о Ничто", этим "подсознанием подсознания".
Возможно, именно к этому "воспоминанию о Ничто" возводят свою родословную
комические эффекты. Пустота, лежащая в глубинах памяти, делает нас
смешливыми, подобно тому как емкость, скрытая в глубине горного массива,
порождает акустический резонанс. Впрочем, роман Плещеева лишь косвенно
юмористичен.
Я уже сказал, что наша встреча с автором Освальда произошла на
иллюминированной старинной плошади, среди огоньков, под слабым дождем.
Приблизившись к "павильону ужасов", мы сели в черный мерседес образца 1930
года, движущийся по рельсам, наподобие трамвайчика. И этот транспорт увлек
нас в туннель.
-- Вы несколько старше меня, -- начал Плещеев, -- и поэтому, наверное,
помните настоящие китайские аттракционы, а не те подделки, вроде той, с
которой я только что слез.
-- О да, -- ответил я охотно, -- я помню еще знаменитую карусель по
имени "Веер с персиковыми цветами". Он прищелкнул пальцами с видимым
наслаждением.
-- Ах, что за времена были!
-- Туннель ужасов, в котором мы сейчас с вами находимся, тоже хорош.
Здесь никогда ничего не меняется. Те же мрачные автомобили, несущиеся друг
за другом по темному коридору, те же гибнущие дети...
Мою речь перекрыл скрежет. В ярко вспыхнувшем сиянии на рельсы
выскочили искусно сделанные дети в матросках, автомобиль смял их, блеснули
на миг озаренные ужасом голубые глаза, беспомощно всплеснула маленькая
ладонь в синем рукаве, ветровое стекло покрылось мелкими капельками крови.
-- Теперь, -- сказал я, -- когда видишь аттракцион много раз, это
только ностальгически теребит нервы. Но после первого посещения мне снились
искаженные личики, золотой якорек на рукаве... Но, если уж мы говорили о
развлечениях прежних времен -- времен моей молодости, -- все это бледнеет по
сравнению с так называемым Домом Сухих Цветов. Он появлялся незадолго перед
Рождеством, в темную снежную ночь. Обычно он находил себе место на
какой-нибудь достаточно оживленной улице, в проеме между двумя большими
доходными домами. Выйдешь, бывало, утром купить горячих каштанов и вдруг
видишь, что там, где еще вчера зияла прореха и темнел пустырь, стоит он --
высокий, строгий, без всяких украшений, с абсолютно черными стеклами в
длинных узких окнах. В этих непрозрачных стеклах отражалась иллюминация
кондитерских лавок и подводные огоньки торговцев живыми рыбами...
-- Живыми рабами? -- не расслышал Плещеев.
-- Живыми рыбами, -- поправил я. -- Дом Сухих Цветов это было солидное
предприятие. Скромная вывеска извещала о невозможности входа для детей,
подростков, впечатлительных женщин и людей со слабой нервной системой. На
первом этаже, сразу влево от входа, был особый ресторан.
Впрочем, я там никогда не обедал -- я сторонник простой здоровой пищи,
к тому же вегетарианец. К тому же ностальгирующий эмигрант. Вареная картошка
с дымком, соленый огурчик, рюмка водки -- что еще надо пожилому писателю? В
мире существует много хорошей еды -- простой, хорошей еды...
-- Да, я читал ваш роман "Еда", -- сказал Плещеев. -- Шестьсот страниц
сплошного описания различных блюд... Читая его, я представлял вас
розовощеким толстяком... -- Он бросил косой взгляд на мое сухое бледное лицо
и тщедушное телосложение. Я хотел сказать что-то, но грохот перекрыл мои
слова. На головокружительном повороте нам открылся стремительно
надвигающийся на нас горящий дом. Мощный столб огня вздымался над ним.
Искусственные люди прыгали из окон, сыпались вокруг и разбивались в кровавые
дребезги. Видно было, что верхний этаж уже поехал, с треском, и навис над
дорогой пылающим массивом. Мы должны были промчаться под ним.
-- Проскочим или нет? -- спросил Плещеев, на миг поддаваясь обаянию
игры. Дом, как в замедленном кинофильме, разъехался в стороны, расселся и
рухнул. Были в подробностях видны оседающие стены, открывающиеся за ними
беззащитные коробочки жизни -- обнажившиеся квартиры, знакомые мне, как моя
собственная. Я смотрел на все это чуть увлажненным, унающим взглядом -- ведь
я видел это не меньше двадцати раз. Вот зеленая бутылка на столе -- сейчас
она превратится в облачко стеклянной пыли, так как ее заденет пролетающий
кирпич. Вот женщина вскакивает с кровати и тут же проваливается сквозь пол с
еле слышным криком. Вот мужчина в подтяжках выбегает на лестничную площадку,
падает в пролет, испаряется. Чудом наш автомобиль остался цел среди этого
распада, и мы продолжали мчаться в туннеле.
-- Проскочили! -- крикнул Плещеев, оглядываясь в заднее окно.
Догорающий дом исчезал за поворотом.
Мы выехали на узкий мост. В глубине, внизу, тек пенистый Ахерон.
Плещеев, взволнованный происходящим, не отказался от предложенной
сигареты. К тому же мост впереди обрывался.
-- В пропасть? -- спросил Плещеев, выпуская облачко дыма, -- навсегда?
"Мерседес" близился к обрыву. Уже были отчетливо видны покореженные концы
рельсов, нависающие над бездной. Но гигантская летучая мышь тихо
спланировала с высоты и, подхватив наш автомобиль, одним махом перенесла его
через пропасть. Я приоткрыл глаза. Мы снова мчались по рельсам. Плещеев в
полутьме улыбался.
-- Здесь весело, в этом аду, -- сказал он задумчиво.
-- Наше время -- время революции в этом деле, -- сказал он через
некоторое время. -- Электронные и лазерные эффекты придают беспощадную
достоверность старому бреду, прошедшему новейшую техническую обработку.
Конечно, мы с вами можем оценить наивность традиционных туннелей, но
молодежь уже мало интересуется этим. Впрочем, наивное, собственно говоря,
ближе к ощущению ужаса. Самые простые вещи бывают порой ужасными. Меня в
общем-то волнует только наивное.
-- А что для вас ужасно? -- поинтересовался я. -- Я в детстве лежал в
больнице. По ночам в палате дети рассказывали друг другу "страшные истории".
Одна из них запала мне в душу своей недосказанностью. Где-то в деревне была
разрушенная церковь. Каждый, кто входил туда и смотрел на потолок, мгновенно
умирал. Он умирал именно от ужаса, так как на потолке было что-то невероятно
ужасное. Собственно, это было "самое ужасное", лицезрение коего нельзя было
выдержать. История обрывалась вопросом: что было на потолке? Ответ на этот
вопрос, конечно, ни один человек не мог знать, так как все видевшие умерли.
Однако слушатель должен был выдвинуть предположение, соответствующее ответу
на вопрос, что для него является самым ужасным. Кто-то сказал, что на
потолке человек видел сам себя в виде растерзанного мертвого тела. За
неимением другой версии, большинство детей в палате согласились с этим
мнением. Думаю, что в этом сказался детский эгоцентризм.
-- Может быть, он видел Бога? -- пожал плечами Плещеев.
-- Существует распространенное мнение, что все видевшие Бога умерли.
Впрочем, эти предположения чересчур экстремальны. Речь в них идет о слишком
крайних случаях. Я всегда с невероятным трепетом, как самое ужасное и в то
же время сладко-томительное, переживал ситуацию внезапного прозрения, даже
незначительного, мельчайшего. Смутно помню, что в детстве, еще в России, у
меня была пластинка о каком-то Пухти-Тухти -- ежик, что-ли? Точно не
припоминаю. Там был один момент (когда он наступал, у меня всегда больно
сжималось сердце) -- Пухти-Тухти глядел издали на какую-то гору, и вдруг он
увидел на поверхности горы маленькую дверцу. Он долго смотрел и ничего не
видел, и вдруг наступало прозрение. В этом для меня содержалось самое
ужасное.
Наш "мерседес" погрузился в мутную зеленую воду. К окнам льнули
Утопленники, меж ребер у них выскальзывали грациозные гирлянды ярко-красных
рыбок. Поодаль громоздились затонувшие пароходы -- среди пятен черной
ржавчины и пушистых наслоений мха можно было прочесть названия -- Титаник,
Лузитания... На палубах толпились мертвецы -- их белые курортные костюмы
набухали и раздувались пузырями в воде, а выражения лиц напоминали цветы,
настолько отрешенными и как бы "разрастающимися" были эти искусственные
лица.
-- В различных медитативных практиках, -- продолжал Плещеев, --
существует опасность преждевременного, неподготовленного прозрения. Истина
настигает адепта в состоянии незащищенности. Это как бы "сатори наполовину".
Полагаю, что это весьма ужасно. Даже если мне делают сюрприз на день
рождения, что-то в глубине моей души больно сжимается от ужаса -- сюрприз
включает в себя момент внезапного прозрения. Должен сказать, что этот
туннель, заранее определенный как "место ужасов", является для меня отдыхом
от того быстрого неопределенного проступания ужасного, которое имеется в
нормальной жизни. Этот устаревший павильон ужасов напоминает мне мои
собственные тексты, в которых я занимаюсь "техническим" воссозданием
наивности. В частности, наивность обостряет и страхи. Пугаясь, мы
возвращаемся в детство, а оно -- единственное из периодов нашей жизни --
по-настоящему готовит нас к смерти. Остальные периоды -- отрочество,
молодость, зрелость, даже старость -- они лишь отвлекают, это лишь
"задержка". Туннель сближает людей. Мы вышли оттуда друзьями, слегка волоча
ноги, щурясь на ставшую неправдоподобной площадь, как бы немного пьяные,
испытывая головокружение и удивление при виде обычной жизни.
Поесть мы отправились в русский ресторан. Плещеев разлил водку в рюмки,
поднял свою и провозгласил первый тост:
-- За Россию!
Мы выпили и какое-то время молча ели, думая об огромных вокзалах и
аэродромах, о кладбищах, утопающих в цветущей сирени, об извилистых
тропинках. Отсутствие России -- это просто наркотик, мы же -- неизлечимые
наркоманы.
Плещеев стал рассказывать о своей жизни. Он родился в Крыму, в городе
Феодосии, в доме, напоминающем торт. Был проказливым, загорелым ребенком с
внезапными приступами глубокой задумчивости. Вечерами в доме собирались
интересные люди, мать играла на рояле Рахманинова и Скрябина. На стенах
висели небольшие оригиналы Айвазовского, Волошина, Кустодиева. Филипп
собирал на пляже сердолики и аметисты, продавал их на набережной. Кроме
того, он превосходно мастерил из ракушек сувениры: бабочек, улиток, профили
Пушкина. Его родные считали, что он в жизни не пропадет. Совершенно
неожиданно у него вдруг открылся запущенный туберкулез. Время было трудное,
стояли пятидесятые годы, однако все же удалось отправить его лечиться в
Москву. Он долго лежал в больнице и чуть не умер, но в конце концов
выздоровел и вышел из больницы в пятьдесят седьмом году, как раз во время
молодежного фестиваля. Ему было двадцать лет, он был худой и истощенный
долгой болезнью. Среди молодежного буйствования он вяло бродил в колышущемся
костюме, который за время болезни стал велик и висел на нем изжеванной
тряпкой. Несмотря на это, он познакомился с одной немкой. Они переписывались
на протяжении четырех лет -- именно эта продолжительная переписка и привела
Плещеева к занятию литературой. В Москве Плещеев стал так называемым
стилягой -- он носил узкие брюки, плечистый пиджак, смазанный бриолином кок.
Бойко танцевал рок-н-ролл. Потом немка снова приехала в Москву, они
поженились, и Плещеев уехал за границу.
-- А теперь я обосновался в этом городишке. Здесь неплохо, но мне,
южанину, не хватает моря и тепла. Хорошо бы перебраться в Португалию, да
только вот Эльза не хочет.
-- Над чем вы сейчас трудитесь? -- спросил я.
-- Я пишу роман "Пни". Без одной буквы роман Набокова. Название можно
понимать двояко -- или это множественное число (кряжистые, замшелые пни в
туманном лесу), или повелительное наклонение, революционный призыв: "Пни!"
(в смысле: дай пинка).
-- О чем же это?
-- Жанр: семейная эпопея. Я описываю судьбу тридцати двух братьев по
фамилии Зубцовы. Все начинается в России конца девятнадцатого века. Имена
братьев: Еремей, Григорий, Силантий, Федосей, Егор, Кирилл, Порфирий,
Никанор, Сергей, Всеволод, Ростислав, Петруха, Антон, Сургуч, Евсей, Труп,
Никифор, Терентий, Брательник, Упырь, Церковь, Моисей, Корзина, Дохлятина,
Спиридон, Курок, Сортир, Рыбешки, Парижский, Нестор, Здравствуйте и Простор.
Имена у них столь необычные потому, что по мере того как они рождались, их
родители постепенно сходили с ума. По злой иронии судьбы дольше всех прожил
Труп Зубцов. Все они влюбились в одну женщину -- Софью Викентьевну
Селезневу. Сначала мы видим Соню Селезневу маленькой, босоногой девочкой,
бегущей лесной тропинкой с ковшиком, наполненным до краев спелой малиной.
Именно такой, в золотистом свете солнечного летнего дня, увидели ее впервые
все тридцать два брата, когда они как-то вышли из своей красной покосившейся
избушки и пошли погулять в лес. Длинной цепочкой бросились они вслед за ней,
издавая радостный крик. В ужасе добежала Соня до белого барского дома с
колоннами, где она жила воспитанницей у помещиков Сосновских. Она сирота, ее
родители, бедные дворяне, рано умерли, оставив девочку дальним
родственникам. В следующих главах романа мы видим Соню гимназисткой, потом
курсисткой, потом -- во время русско-японской войны -- сестрой милосердия.
Однако братья Зубцовы не оставляют ее в покое со своей страстной
влюбленностью. Все тридцать два брата ей одинаково отвратительны, но они не
верят этому, ревнуют друг к другу, мучительно следят друг за другом,
ненавидят и в конце концов убивают друг друга. Сергей ночью "решает" Нестора
на сеновале, всаживая ему в горло длинный гвоздь. Здравствуйте кончает с
собой в номере отеля. Страсти слегка притупляются, когда Софья Викентьевна
выходит замуж за своего троюродного брата капитана Сосновского. Но капитана
вскоре убивают на фронте, и все разражается с новой силой. Вздуваются и
оседают пузыри исторических катаклизмов: русско-японская и первая мировая
войны, Февральская и Октябрьская революции, гражданская война,
раскулачивание и т. д. Братья нередко оказываются по разные стороны баррикад
или встречаются лицом к лицу в разгаре боя. Никифор красноармеец из отряда
Буденного, разрубает шашкой до седла своего брата, добровольца Терентия.
Корзина служит в Чека и расстреливает Силантия. Рыбешки Михайлович
становится атаманом банд, на ликвидацию его высылают отряд под командованием
Евсея. Короче, братья уничтожают
друг друга в ритме спазматических пульсаций истории. До конца тридцатых
годов доживают только Брательник и Труп. Оба одновременно входят в тусклую,
убогую комнату в коммунальной квартире, где живет уже немолодая женщина
Софья Викентьевна Селезнева-Сосновская. Они несут букеты цветов. Софья
Викентьена отвергает их предложения руки и сердца. Единоутробные выходят,
подыскивая место для поединка. В этом поединке победа достается Трупу
Михайловичу. Труп Михайлович выбрасывает тело Брательника в узкое окно и
начинает неторопливо ухаживать за Софьей Викентьевной. Он каждый день
приносит цветы, достает продукты и билеты в театр, читает ей вслух стихи
Тютчева. Постепенно Софья Викентьевна привыкает к его присутствию. Наконец
она соглашается выйти замуж. Стоит теплое лето. Они идут по улице,
останавливаются на краю открытого канализационного люка. Труп Михайлович
всматривается зачем-то в глубокую темноту. Внезапно Софья Викентьевна слышит
какой-то голос, произносящий слово "Пни!" Она оглядывается, но вокруг нет
никого. Тогда Софья Викентьевна пинает Трупа Михайловича ногой в спину. Он
падает в люк и исчезает. Софья Викентьевна крестится и уходит по пустой
летней улице, покачивая ридикюлем. Этот день -- 21 июня 41-го года. Завтра
война. На этом роман кончается.
-- Интересный замысел, -- сказал я.
-- Пересказ дает не совсем точное представление о романе, -- возразил
Плещеев, -- может показаться, что речь идет об экспрессионистической
новелле. Но на самом деле это подробное, неторопливое повествование, с
длинными описаниями природы. Вот, впрочем, образец стиля. Он вынул из
кармана исписанную бумажку и прочел: "Тяжело, тяжело зацветали розы в саду
Сосновских. Как бы в тягостной дремотной задумчивости лопались упругие
бутоны, и тонкие лепестки с еле слышным шорохом начинали теснить друг друга
закрученными уголками, напоминающими края старинных рукописей, много лет
пролежавших в свернутом состоянии, в посыпанных пылью рулонах. Эти лепестки
излучали сияние настолько теплое и яркое, что оно даже отражалось в слюдяных
зернышках песка, зажигаясь мягкими розовыми пятнами на общем синем и лиловом
фоне длинных полуденных теней. Потом, ближе к вечеру, когда в сад вступали
сгущенно-молочные сумерки, сияние бутонов зачарованно гасло, зато аромат
становился сильнее. Аромат роз вторгался в раскрытые окна, и движения людей,
находившихся в доме среди белой зачехленной мебели, замедлялись, ленивые
пальцы начинали бродить по отзывчивым струнам гитары. Падала со звоном
чайная ложечка, чье серебро потемнело и истончилось от времени, истертое
пальцами нескольких поколений. Шелестели небрежно листаемые и уже словно
светящиеся страницы книги, на которых нельзя было разобрать ни слова, так
как в комнатах становилось слишком темно, но никому не хотелось зажигать
свет..."
Плещеев свернул бумажку и положил обратно в карман.
-- Сколько примерно будет страниц? -- поинтересовался я.
-- Не меньше трехсот, -- ответил он, -- а может быть, и того побольше.
-- Что ж, надеюсь в скором времени держать в руках законченный роман.
Если я не ошибаюсь, вы изображаете традиционный русский бой за обладание
истиной. Софья Викентьевна -- София-Премудрость. Все мы, в какой-то степени,
наследники тех представлений, которые завещали нам Соловьев и другие русские
мыслители. Однако Божественная Премудрость недостижима, непостижима. Поэтому
все братья представляют собой какие-то останки, обрывы, укорененные в
традиции, но не имеющие никакого продолжения, короче говоря, пни. Этот бой
или эта охота за Премудростью описывается, в общих чертах, пословицей
"Близок локоток, да не укусишь". Тридцать два брата по фамилии Зубцовы это,
конечно же, просто зубы. Намек более чем прозрачен. Зубы живут в красной
избушке, то есть во рту ("рот" по-немецки -- "красный"). Фабула, таким
образом, воспроизводит структуру распространенного сновидения о выпадающих
изо рта зубах. Они сыпятся друг за другом, выталкивая друг друга,
постукивая, как бухгалтерские счеты. Такой сон снится, по всей видимости,
всем. Последним остается зуб по имени Труп -- мертвый зуб, увенчанный
коронкой -- коронованный победитель в этой игре в "Царь Горы". Однако он
гниет под своей коронкой, и его также приходится устранить. Зубы имеют форму
пней, пенечков. "Сядь на пенек, съешь пирожок!" То есть положи на пенек (на
зуб) нечто мягкое и сладкое, отчего этот зуб или этот пенек начнет гнить. От
этого появляется боль, и тогда лишь один выход -- положить на зуб мышьяк,
словно у дантиста. Не лучше ли сразу начинить пирожок мышьяком, как это
учинили Пуришкевич и молодой князь Юсупов, готовясь к визиту Распутина?
Мышьяк хорошо прятать в творог. Тогда получится ватрушечка. Вспоминается миф
об аргонавтах. Вспоминаются "зубы дракона", засеянные Ясоном. Из этих
засеянных зубов вырастают воины. Это объясняет, почему последний зуб
выпадает (как карта "выпадает" при гадании) за день до начала войны. Посев
произведен, зубы ушли в почву, и земля готова к тому, чтобы, зачав от этих
семян, породить героев. Плещеев согласно кивал головой.
-- А над чем вы сейчас работаете? -- спросил он.
-- У меня в гостинице два незаконченных рассказа -- "Ватрушечка" и
"Румцайс".
-- Ватрушечка? Вы как раз только что упоминали о ватрушечке.
-- Лейтмотив. Наверное, что-то из детства.
-- Мы могли бы зайти ко мне на чашку чая, -- сказал Плещеев. -- Эльза
иногда готовит ватрушки в германском стиле, с корицей. Но... тут есть одна
загвоздка. Моя жена -- член неофашистской партии. Не знаю, не смутит ли это
вас?
-- Как, ваша жена -- наци?! -- изумился я. -- И вы это терпите?
-- Ах, вы не представляете, сколько это мне доставляет неприятностей!
Но что остается делать? Не разводиться же из-за политических разногласий.
Когда мы с Эльзой поженились, она была слегка "розовой". Потом все
"краснела" и "краснела". Меня это раздражало безумно. Я выбрасывал в помойку
книги Маркузе и статьи Пол-Пота, рвал плакаты с ликами Мао и вихрастого
Троцкого. Наконец я смирился, но вскоре Эльза внезапно "позеленела".
Началась новая напасть! По квартире ползали вымирающие животные. Все столы
были заставлены пробирками с водой наших рек в разной степени загрязнения.
Теперь же "красное" и "зеленое", видимо, наслоились друг на друга, образовав
"коричневую" смесь. Эльза опять переоборудовала квартиру. Теперь она
предпочитает то, что я называю "гитлерюгендстиль", -- смесь неофашизма и
неомодерна. Черные дубовые панели и белые статуи, изображающие нагие тела
арийских девушек и юношей. На стенах -- невероятно увеличенные фотографии
очаровательной Гели Раубаль, которая покончила с собой из-за любовной
истории с собственным дядей.
-- Полагаю, нам лучше немного прогуляться на свежем воздухе, --
возразил я, -- подобные интерьеры, конечно, экзотичны. Однако поздними
вечерами эта эстетика может подтолкнуть к депрессии. Мы вышли. Пока мы
сидели в ресторане, стало поздно и похолодало.
Дождь сменился мелким снежком, который по-детски неуверенно похрустывал
под подошвами ботинок. Плещеев закурил сигарету.
-- Скажите, Филипп Павлович, не потомок ли вы русского поэта Плещеева,
чьи стихи мы все учили в детстве на память?
-- Нет вроде бы. Не думаю. А вы -- не приходитесь ли родней известному
большевику Мартову?
-- Нет. У большевика это был партийный псевдоним, у меня же --
наследственная фамилия.
Гуляя, мы вышли на мост. Ярмарочная площадь видна была внизу.
Иллюминация еще кое-где светилась, но драконы на каруселях были уже в
чехлах, аттракционы закрыты. Прямо под нами виднелось огромное круглое
здание "павильона ужасов", где мы недавно развлекались.
-- Смотрите, господин Мартов, вот она -- вылитая ваша любимая
ватрушечка, -- сказал Плещеев, стряхивая вниз пепел с сигареты. Павильон
ужасов действительно сверху напоминал "ватрушечку" -- надутое кольцо, в
центре -- беловатая крыша, свежеприсыпанная снежком, словно сахарной пудрой.
-- Да, ватрушечка, -- согласился я.
Вокруг нас была чужая страна, а, главное, вокруг нас была приблизившая
ся вплотную зима, от которой следовало снова и снова спасаться бегством.
1985
Кекс
29 сентября 1985 года двое мужчин стояли возле высокого столика в
московской закусочной. За дождливыми окнами виднелся фасад Центрального
телеграфа, на котором -- один из лучших экземпляров герба СССР.
Оба ели сметану из граненых стаканов и тихо, взволнованно беседовали. В
центре круглого столика размещалось блюдце, на нем -- обыкновенный кекс.
Коричневатый, с запекшимися черными изюминками, сверху посыпанный сахарной
пудрой. Речь шла о неожиданных политических изменениях в стране. Под конец
разговора, когда сметана была уже съедена, один из собеседников (тот, что
был ростом пониже) задумчиво сказал, глядя в окно:
-- По идее, земной шар на гербе должен вращаться. Но тогда возникает
вопрос -- должен ли он вращаться вместе с эмблемой серпа и молота, время от
времени унося ее за пределы нашего зрения? Или же он должен вращаться под
эмблемой? В первом случае восточное полушарие постоянно помечено этим
клеймом, западное полушарие всегда свободно. Во втором случае эмблема по
очереди накрывает собой оба полушария. Ведь социализм -- это солнце.
-- А все-таки она вертится, -- ответил высокий. Оба засмеялись и ушли.
Кекс не был съеден. Только один раз высокий собеседник слегка ковырнул
вершину кекса алюминиевой ложкой, отщепив крошечный кусочек. После их ухода
блюдце с почти неповрежденным кексом какое-то время оставалось на столе.
Потом его убрала официантка.
В 1983 году двух писателей из диссидентской среды посадили по разным
статьям. До ареста они друг друга не знали. Один принадлежал к христианскому
кружку, спортсмен. А другой -- хрупкого сложения, атеист. Познакомились в
следственной тюрьме, "на сборке". Потом встретились в лагере. Разговорились,
подружились. Впрочем, остальных они раздражали -- все пересказывали друг
другу свои написанные и ненаписанные сочинения. Спортсмен печатался раньше
за границей, издал два романа -- "Тяжеловесное солнце" и "Жизнь человеческих
людей". В этих романах он рассуждал о Боге и о том, что начальство и не
вспоминает про справедливость. Тот, что был хрупкого сложения, увлекался
математической логикой и ребусами, но сочетал это с антисоветчиной. Он
написал когда-то повесть "Фулюган из пятиконечного сквера", где надсмехался
над государством, но, одновременно, пытался решить один математический
парадокс.
-- Поймите, "сквер" по-английски значит "квадрат". "Пятиконечный сквер"
-- это аберрация, -- пытался он объяснить следователю.
-- Вот отправят вас на общак, там вам покажут пятый угол. Там вам все
объяснят про "аберрацию", -- раздраженно ответил следователь.
Разве следаку чего втолкуешь?
Случайно оба писателя были однофамильцами двух художников прошлого
века. Христианина звали Брюллов, худосочного -- Сверчков. Подружились --
водой не разлить. Когда приблизилось время отправляться из лагеря в ссылку
-- они попросились вместе. Начальника лагеря о чем-то просить -- наивное,
мягко говоря, мероприятие. "Вместе? -- спрашивает. -- Ну, хорошо, отправлю
вас в такое место, где вы поймете, что такое "в месте". "В месте" как "в
тесте". После этого он, как говорят, отправил их в "особую зону" в Северном
Казахстане, где царствовал уголовник Пухти-Тухти и его брат Улан. Оба были
буряты колоссального роста, метра два с лишним каждый, с голыми лицами
глиняного цвета. Только Пухти-Тухти был очень толст, а Улан, наоборот, был
гибким, как цирковой акробат. В особой зоне вообще не было охраны, ни одного
вертухая, не было начальствия, кроме этих двух уголовников. Все им
подчинялись беспрекословно. Слово здесь молвили редко, но порядок стоял
железный. С самого начала писателей поставили на работу: резать перочинными
ножами автомобильные покрышки из черной резины, расчленяя их на большие,
аккуратные куски... За этой работой пролетел месяцок. Вокруг все работали
молча, только наши писатели все шептались. Среди казахской ветреной степи
читали они друг другу стихи Фета на память и вспоминали с болью о женщинах.
У Брюллова была жена и трое детей, а Сверчков был влюблен в молодую девушку
с веснушчатым личиком. Когда он резко закрывал глаза, личико -- словно бы
сделанное из теплого мрамора -- вспыхивало сбоку: то ли в душе, то ли в
глазу. Другие ссыльные (хотя на нормальную ссылку все это было так не
похоже) по приказу "царя" Пухти-Тухти рыли землю, таскали песок. Из песка и
земли сооружалась посреди "зоны" колоссальная насыпь, нечто вроде
искусственной горы в форме пасхального кулича. Когда гора была возведена,
поступил приказ: "инкрустировать" ее стенки, предварительно их заровняв,
кусками черной резины. Как-то Сверчкова и Брюллова вызвали в барак No 1.
Здесь жили лишь двое: Пухти-Тухти и Улан. Первый раз переступили Сверчков и
Брюллов этот порог. Пухти-Тухти и Улан сидели по-турецки, каждый на своих
нарах, в одних синих набедренных повязках. На их огромных телах не было ни
одной татуировки, ни одного волоса. На земляном полу стояли две пиалы с
козьим молоком. Улан соскочил с нар и с глубоким поклоном поднес одну пиалу
Сверчкову. Тот выпил. Улан, поклонившись снова чуть не до земли, поднес
пиалу Брюллову. Тот выпил молоко, перекрестившись. Улан указал вошедшим на
небольшой коврик и жестом предложил сесть. Сверчков и Брюллов неловко сели,
подвернув под себя ноги. Пухти-Тухти несколько
минут был неподвижен. Все молчали.
-- Вы художники? -- наконец спросил Царь медленно, тихо и с трудом
выговаривая русские слова. Впрочем, говорил он без ошибок.
-- Нет, мы писатели, -- сказал Брюллов.
-- Поэты? -- переспросил Пухти-Тухти, глядя на Сверчкова. Тот
неуверенно кивнул.
-- Прочти стихи, -- сказал Пухти-Тухти, не сводя блестящих сонных глаз
с лица Сверчкова.
Сверчков прочитал четверостишие из Фета:
Сосна так темна, хоть и месяц
Глядит между длинных ветвей.
То клонит ко сну, то очнешься,
То мельница, то соловей...
-- Твой? -- спросил Пухти-Тухти.
-- Нет, -- честно ответил Сверчков. -- Это стихи Фета.
Пухти-Тухти кивнул. Была пауза. Потом он вдруг медленно произнес
какие-то рифмованные строки на незнакомом языке -- может быть, по-бурятски.
-- Это мои стихи, -- сказал он. -- Я тоже поэт. По-русски это будет
так:
Я гнал стада к зеленым пастбищам,
Чтоб нагуляли жир перед зимой,
Но горный обвал убил весь скот,
И я, одинокий, пью чай в Доме Сухих Цветов.
Затем Пухти-Тухти пошарил под кошмой, покрывающей нары. Двигаясь, он
был похож на моржа -- кожа его лоснилась и блистала, под ней перекатывались
огромные светящиеся объемы жира. Наконец он достал нечто и показал это
Сверчкову и Брюллову. К их несказанному удивлению, это была членская книжка
бурятского отделения Союза писателей СССР -- истертая, старая, но все еще не
совсем развалившаяся. Брюллов изумленно раскрыл билет -- Бадмаев Сергей
Иванович, принят в СП СССР в 1969 году. С потрескавшейся фотографии, где
серое сменилось желтым, смотрело молодое простое бурятское лицо -- совсем не
похожее на заплывшее жиром, огромное лицо Пухти-Тухти.
-- Хотите знать, как называется этот дом? -- спросил Пухти-Тухти,
медленно обводя вокруг себя рукой, которая толщиной могла бы поспорить с
взрослым морским котиком. -- Он называется Дом Сухих Цветов. -- И,
совершенно неожиданно, он произнес по-английски: Welcome to The Нome of Dry
Flowers.
Писатели огляделись: барак действительно был полон высушеннымисвязками
полевых цветов. Они свисали с потолка на нитках, букетами стояли в углах.
Стены были сплошь оклеены журнальными вырезками с фотографиями обнаженных и
полуобнаженных женщин. Среди этих бесчисленных плеч, блестящих губ, локонов,
бедер, ног, белозубых улыбок, кокетливых глаз, волнистых животов, курчавых
темных и золотистых треугольников и нежных вагинных складок выделялось одно
квадратное пустое место. В центре этого промежутка была иголкой приколота к
стене страница из детской книжки: картинка с подписью. Воде бы ежик, а
точнее, ежиха в красном фартуке в белый горошек, стояла на крыльце домика и
смотрела на дальнюю гору.
-- Вы видели Кекс? -- спросил Царь, указывая в окно, где тоже стояла
гора -- высокий курган, испещренный черными кусками автомобильных шин, как
тесто, полное запекшимися изюминками. Литераторы кивнули. Царь подал знак,
что они могут идти. Гибкий Улан, так и не сказав ни одного слова, с
цирковыми поклонами проводил их вон из царского барака. Обернувшись, они
увидели на дощатой стене домика надпись, намалеванную по трафарету: ДСЦ-1.
Им дали новую работу, снова связанную с черной резиной: резать резину
на узкие полосы, а затем, проволокой, скреплять эти полосы в узкие трубки.
Работа была тяжелая, нормальных ножей не было -- работали "заточками" и
игрушечными ножиками для школьников. Но на душе было легко. Все ходили
сытые: на особой зоне была своя скотоводческая ферма, был птичий двор, была
даже хлебопекарня. Царь Пухти показывал себя хозяйственным и рачительным
управителем: каждый день все пили жирное козье молоко с кипяточком. К тому
же осенний ветер, кроме запахов приближающейся зимы, нес слухи о скорой
амнистии. Ждали свободы, как ждут, что из лужи мазута вдруг вынырнет
белоснежное существо. Брюллов по утрам и вечерами молился перед бумажной
иконой, читал каноны и акафисты. Сверчков, откинувшись на нары, слушал
церковнославянские фразы, составленные некогда с изысканным мастерством
людьми, явно искушенными в изящной словесности. И вспоминал веснушчатое
личико. Художник, более других русских живописцев когда-либо избалованный
славой, живший весело и богато в Италии и России, капризный академик и сын
академика, написавший "Гибель Помпеи" и пышнотелую "Итальянку", -- таким был
однофамилец одного из наших героев. Однофамилец другого был крепостным и всю
свою жизнь писал господских лошадей. В этих небольших, аккуратных "конских
портретах", в освещенных солнцем дворах и простых грумах, придерживающих
коней под уздцы, -- во всем этом теперь не чувствуется даже унижения: только
лишь тщательность и хитроватый покой чьих-то прищуренных глаз.
Наконец настало долгожданное утро -- Утро Первого Снега. Все было
готово. Гордый Кекс возвышался посреди зоны -- усилиями многих рук сходство
этой искусственной горы с кексом было доведено до совершенства. И вот теперь
первый снег закончил эту работу -- он присыпал "сахарной пудрой" верхушку
Кекса и его ребристые, слегка вогнутые стенки. Последний штрих. Сладкое,
младенческое прикосновение самих небес.
-- Припудрило, припудрило... -- радостно шептались зэки.
Еще до рассвета все вышли из бараков и построились в два ряда,
образовав просторное квадратное оцепление вокруг Кекса и ДСЦ-1.
"Приближенные" Царя -- старший прораб Степаныч, блатной авторитет Чижов,
опытные воры Хлыч и Сизый, все в парадных, подшитых "шмутках", с пестрыми
повязками на рукавах ватников -- покрикивали на зэков, ровняя ряды. Взгляды
всех были прикованы к дощатой двери ДСЦ-1. Наконец дверь эта распахнулась и
оттуда показался Пухти-Тухти. Он протискивался с трудом, согнувшись почти
вдвое, -- он и сам по себе был слишком огромен, а тут еще на нем было одето
что-то невообразимое. Он был спереди наг и бос, только чресла прикрывал
изжеванный кухонный передник -- красный, в белый горошек. Однако с затылка,
с макушки, со спины свисали торчащие во все стороны длинные черные резиновые
трубки. По всей видимости, он изображал ежа -- или ежиху -- ту самую, с
детской картинки. Пухти-Тухти сделал несколько неуверенных шагов и
остановился. Черные трубки волочились за ним по свежему пушистому снежку.
Трубки, над изготовлением которых немало потрудились Сверчков и Брюллов.
Я гнал стада к зеленым перевалам.
Чтобы набрали тук до холодов,
Но их снесло грохочущим обвалом;
И я пью чай один среди Сухих Цветов...
-- прошептал, глядя на Царя, Сверчков. -- Так лучше звучит по-русски,
Сергей Иванович. Я позволил себе доработать ваш перевод...
Никто его не слышал. Пухти-Тухти стоял неподвижно и величественно,
приложив руку к глазам и глядя из-под ладони на вершину Кекса. Рассвет в
степи бывает резким. Вдруг оранжево-красный первый луч упал на вершину
искусственной горы, сделав снежок розоватым, как марципан. В этот момент
что-то посыпалось, и в "кексе", на самом верху, открылась маленькая дверца.
Оттуда выглянул улыбающийся Улан и помахал своему царственному брату длинной
мускулистой рукой. Вскоре всех обитателей "особой зоны" досрочно освободили.
Бублик
"Бубликом" в среде людей, употребляющих галлюциногенные вещества,
называется "нулевой trip", то есть неожиданное отсутствие галлюцинаторного
эффекта после приема препарата.
"Чугунным бубликом" называется состояние, когда ожидаемый эффект не
просто отсутствует, но его отсутствие сопровождается явлениями психической
угнетенности и физической истерзанности.
Справка
Двое стояли на краю горного плато. Была темная ночь -- мрачные часы,
предшествующие рассвету. Справа угадывался горный кряж. Впереди плато,
гладкое и ровное, как стол, обрывалось. Там была пропасть. Один (назовем его
"фигура No 1") подал голос, сдавленный тьмой и неподвижностью:
-- Делать пока нечего. Скрасим скуку старинным способом -- обменяемся
историями наших существований. Если да, то начинайте. Второй (скажем так:
"фигура No 2") охотно отвечал, выговаривая слова быстро, негромко и четко.
Видимо, он привык произносить речи.
-- Моя история это история преступника. Она не для нежных ушей. Но
вас-то она не сможет шокировать. Родителей у меня не было. Я рос у чужих.
Сначала меня кормили и грели какие-то кухонные тетки, а потом сдали в приют.
Среди других подкидышей, сирот и бастардов я сразу выделился своей силой,
умом и прожорливостью. Кормили нас вроде бы сытно, но мне все было мало -- я
так и льнул к кухням, не гнушался объедками. Взросление мое было более
быстрым, чем у других детей. Вскоре я сбежал. Холодный ветер в переулках
заставил меня смеяться и хохотать. На городской помойке меня подобрали
цыгане. Дорожный мир открылся мне, и я полагал тогда, что для бесконечной
дороги появился на свет. Впервые я съел кусок мяса и выпил первую чашку
вина. Я научился гадать. Я также научился воровству и пению. Я ходил колесом
и проделывал другие акробатические трюки. В двенадцать лет я уже
совокуплялся с цыганскими девчонками, носил нож и серьгу. Но свобода вскоре
мне надоела. Поступил в школу Страстью моей стало чтение книг, особенно
романов с продолжениями. Все люди разделяются на тех, кому хочется знать
"как было на самом деле", и на тех, кому хочется знать "что было дальше". Я
принадлежу ко второй категории. Слова "продолжение следует" стали для меня
символом веры. Однажды я торопливо прочитал первый том одного романа и
увидел в руках у товарища второй. Мне не терпелось узнать дальнейшую судьбу
героев. Я попросил книгу. Он не дал. После уроков пошел за ним: ножик был,
как всегда, в сапожке. По дороге попалось одно сухое место -- там я убил
его. Сделал это осторожно, чтобы не испортить книгу. Как весело я бежал
обратно, прижимая вожделенное продолжение к сердцу!
Я закончил школу с золотой медалью и нанялся в бродячую труппу актером.
Вообше-то я желал управлять. Постепенно я завладел этим театром. Стал мелким
деспотом -- тут уж порочные свойства моей натуры распахнулись, как синее
окошко. Я отрастил раздвоенную бороду до колен, завел плетку-семихвостку --
когда я брался за ее бамбуковую отполированную рукоять, мне казалось, что я
поглаживаю позвоночник Цербера. Истязал подростков-лицедеев, как умел.
Особенно одну девчонку, которую потом изнасиловал. "Я хотел бы, чтобы моя
борода была такого же цвета, как твои локоны", -- шептал я ей вместо
комплиментов. Как-то раз она вздумала сбежать от меня с парнем, исполнявшим
роль Пьеро. Я настиг их за складом дров. Под горячую руку подвернулось
полено -- этим поленом я убил обоих. Окровавленную деревяшку я потом долго
возил с собой. В дождливую ночь, скучая, я вырезал из нее истуканчика,
которого затем превратил в решето, тренируясь в стрельбе.
Наши выступления постепенно входили в моду. Я почувствовал запах
успеха. Решил освободиться от дикости юных лет. Сбрил дурацкую бороду,
усвоил манеры светского человека. Сошелся с людьми из богемных кругов, затем
протиснулся в круги аристократические. Прошли времена, когда я мог дать волю
чувствам и плетке, разбираясь с актерами и актрисочками. Теперь я приглашал
на работу людей прославленных и обращался с ними нежно. Успех был налицо.
Вскоре, использовав связи, я получил пост директора театра. О чем еще мог
мечтать парень, родившийся на кухонных задворках? Но я остался собой. Дыра в
моем сердце требовала от жизни новых теплых кусков. Соблюдая осторожность, я
продолжал делать плохое.
Только один раз я почувствовал нечто вроде любви. Это была начинающая
актриса. Не удержался, изнасиловал ее. После этого она стала опасной. Я
устроил так, что ей пришлось убить кое-кого. Ее взяли. Психика у девчонки не
выдержала, и она попала в глупый дом. Я всегда испытывал тайное желание
вновь увидеть ее, но так и не посмел навестить. Из всех дурных поступков,
которые я совершил, лишь об этом теперь сожалею. Между тем иссякли 60-е годы
и вроде бы начались 70-е. Я еще был молод и иногда скучал по цыганским
кибиткам. В городе появились хиппи.Они были грязны и незамысловаты, но знали
дорогу к местам произрастания конопли и мака. Ночью я пробирался к
заплеванным палаткам. Там можно было втянуть в себя сладкий опиумный дым.
Мне нравилось грезить в обнимку с немытыми девчонками, которые не знали
о существовании Театра, не знали, что есть король. Но я-то знал короля
лично. Реальной власти он не имел, но все-таки...
План мой был прост. Король был обычный старик, вдовец. Имелось три
отпрыска -- двое сыновей и младшенькая. Невыносимый ребенок. В сущности, все
они были монстрами, но я привык жить среди чудовищ. Я решил жениться на
ребенке, войти в эту семью. Затем, при случае, устранить старика. Они
казались совсем беззащитными. Малолетнюю я очаровал сплетнями. Король
сочетал в себе маразматическую чопорность с легкомыслием. Я был поражен,
узнав, что его вообще никто не охраняет, кроме одной овчарки. На всякий
случай я отравил пса.
Но вся эта дачная расслабленность была просто фарсом. Сказалась моя
простота -- наивность читателя Скотта, Гюго и Дюма. Я не догадывался о
старых и страшных вещах, что прячутся за скромностью, за стертостью, за
современной незначительностью, которыми в наши дни окутывает себя власть. Я
возомнил себя чуть ли не единственным преступником среди людей рассеянных,
милых и дряхлых. В полутемной палатке, лежа на собачьем матрасике с
кисточками и ржавыми бубенцами, зажимая рукой место укола (мне только что
сделали инъекцию опия), я услышал легенду о хиппи по кличке Пытарь. Я не
поверил этой сказке о хиппи-садисте, слишком уж она была дикой. Склонность к
жестокостям как-то не вязалась с идеологией "flower power" и "детей любви".
Но через несколько дней к костру, у которого воскурялась "трубка мира",
подсел изможденный парень в сером пончо. Запястья у него были неряшливо
перебинтованы, как будто он недавно пытался покончить с собой (обычная вещь
в той среде). За спутанными грязными волосами не видно было лица. Трубку
передавали по кругу. Он сделал глубокую затяжку и тихо назвал мое имя. Мы
встали и отошли в сторону для разговора. Инстинктивно я опустил руку за
верным ножом, но его не было на месте. Пытарь предложил мне сесть в
автомобиль, который стоял в тени. Меня привезли в место, оборудованное для
издевательств над телом. Один из принцев уже ждал нас там. В тазу он мыл
какие-то инструменты...
Четкий голос рассказчика пресекся, но на слух это больше напоминало
техническую помеху, нежели проявление эмоций. Тут же он продолжил рассказ:
-- Я испугался боли и признался во всем. Наговорил на себя лишнего,
просил дать мне яд. Но главного я им не сказал. Впрочем, меня, кажется,
никто не слушал. Пытарь достал из-под пончо маленькую черную глиняную трубку
и мешочек с курительной смесью. Неторопливо наполнил чашечку трубки: смесь
состояла из мелких грибков и трав. Закурили. Не помню, был ли я связан.
Пытарь несколько раз подносил трубку к моему рту и держал до тех пор, пока я
не втягивал в себя достаточно дыма. Затем он снова наполнял трубку и
раскуривал. По глупости, желая разжалобить, я сказал принцу, что всегда
хотел предложить руку и сердце его сестре. Наверное, и принц, и нищий могли
бы открыть мне новый мир -- мир боли и смерти. Этого не произошло. Я не
почувствовал никакой боли. Я также не умер. Сначала я подумал, что слишком
пропитан наркотиками, чтобы умереть или ощутить боль. Потом я сообразил,
что, должно быть, я никогда не был человеком. Пытарь отрубил мне кисть
правой руки, затем он извлек из меня сердце -- все эти вещи он передал
принцу. Тот уехал. Мы остались вдвоем -- я и старый хиппи. Пытарь обрубил
мне обе руки по плечо, затем обрубил ноги и разбросал их по полу. Места
срезов были белые, плотные и гладкие, как у спиленных древесных стволов.
Оказалось, внутри я состою из однородной массы, напоминающей сыр или
древесину. Я узнал, что никогда не был соткан из того сложно упорядоченного
переплетения изнанок, которое принято называть "плотью и кровью". Почему же
тогда меня обуревали такие страсти, почему я с такой жадностью вонзал зубы в
мясо, пил вино, вдыхал холодный воздух, ласкал женщин и обрушивал на их тела
посвистывающие удары плеток? И зачем нужно было мое странное сердце, если
оно не разгоняло кровь, не имело никаких физиологических функций, ни к чему
не подсоединялось?
Пытарь работал молча, как скульптор. Он устранил весь центр моего тела,
проделав во мне дыру. Теперь я представлял из себя нечто вроде рамы в стиле
рококо, увенчанной украшением в виде головы. Я так и не испытал никаких
физических ощущений -- я был анестезирован насквозь. Каждые полчаса Пытарь
наполнял трубку. Я понял, что дышу не с помощью легких, а посредством пор,
как губка. И этими бесчисленными внутренними порами я и впитывал тяжелый
старательный дым.
Когда рассвет замаячил в окнах, я был "готов". На прощанье Пытарь омыл
меня в тазу (вода даже не порозовела). Я был как колесо. Пинком ноги он
попрощался со мной.
С трудом добрался я до лагеря хиппи (а куда еще я мог податься?). Мне
пришлось заново учиться держать равновесие и поджимать голову, чтобы она не
мешала при перекатывании. Я вспомнил те времена, когда был гимнастом...
Холодный ветер свободно проходил сквозь пустой центр тела. В палатках меня
встретили хохотом. Тут же меня наградили новым прозвищем -- Бублик. Что ж, я
принял это новое имя. Оно милое, в нем есть что-то от того настоящего
детства, которого у меня никогда не было. Так могли бы звать котенка, с
которым возятся и над которым сюсюкают...
Рассказчик умолк. Потом снова заговорил:
-- Я бы, конечно, сошел с ума, если бы не опиум. Мои друзья окуривали
меня неделями. Мак пропитал мое тело. Мак спас тело. Я -- бублик с Маком.
Настала пауза. Наконец слушатель произнес:
-- Вы упомянули, что на допросе рассказали все, кроме главного. Что вы
утаили?
-- Устранив меня, мои враги (видимо, из суеверных соображений)
уничтожили мои достижения. Сначала расформировали Театральную библиотеку и
Театральный музей -- эти сокровищницы, которым я отдал столько своих сил.
Затем сожгли Театр, солгав, что в него якобы попала молния. Кто поверит в
эту чепуху? Там вся крыша была усеяна громоотводами -- я лично проверял их.
Мой великолепный театр, гордость города, гордость страны! Но... незадолго до
моей трансформации я заказал уменьшенную копию театра, которую мы собирались
преподнести королю. У меня был один друг и сообщник -- стеклодув, резчик по
стеклу и вообще умелец. Человек очень своеобразный. Один из немногих, кого я
действительно уважал. Знаете, есть такие люди, у которых руки сами собой
совершают технические чудеса... Он превратил копию театра в некую
музыкальную шкатулку, что ли. Внутрь он поместил фигуры членов королевской
семьи, сделанные из стекла, в натуральную величину. Незамысловатый механизм
заставлял их двигаться по
кругу -- движение сопровождалось мелодичным звоном колокольчиков,
вызванивающих мелодии любимых песенок короля. Специальный рычажок позволял
приоткрыть пространства "под сценой" и "за кулисами", чтобы иметь
возможность наблюдать, как работает механизм.
Этот дар преподнесли королю от лица рабочих стекольных заводов.
-- И что же, в этой шкатулке содержалась бомба или яд?
-- Я выдал (или пытался выдать) всех своих сообщников. Но своего
друга-стеклодува я не назвал. Он убеждал меня, что король рано или поздно
погибнет, владея этой вещью. Детали он сообщить мне не захотел, назвав их
"своим маленьким техническим секретом". Он упомянул что-то о "пружинке". Там
была какая-то пружинка -- может быть, отравленная, не знаю даже... Говорил,
был некий князь, заточивший сына в механической табакерке... Он говорил, что
старик будет умирать постепенно, безболезненно и незаметно, как бы
рассеиваясь между жизнью и смертью. "Мы заманим голландца в болото", --
говорил стеклодув. Вообще-то старика все любили, даже мне было жаль
устранять его. Но у меня была серьезная причина -- я хотел попробовать, что
такое трон под задницей. В детстве я объезжал свирепых лошадок, неужели трон
брыкается сильнее? -- вот что хотелось мне выяснить. А вот Стекло (такое
было у моего приятеля прозвище) непонятно чего хотел. Вначале я думал, что
он -- королевский бастард, но потом понял, что это исключено. От моего
любопытства он отделывался мутными фразами, типа: "Дерево, стекло и уголь
никогда не будут жить дружно". Не знаю, сработала ли хваленая "пружинка".
Возможно, это был просто бред Стекла. Все это неважно. Главное, что я жив, а
это значит, что "продолжение следует".
Тьма на горном плато стала несколько менее плотной. Видимо, приближался
рассвет. Ночное небо рассекла пополам серая вертикальная линия. Справа и
слева от нее обозначились неподвижные облака, похожие по форме на цветы.
-- Я слушал вас и удивлялся, -- вымолвил наконец второй собеседник
("фигура No 2"). -- Жизнь ваша мне не понравилась. Совершили много скверных,
бессмысленных и жестоких поступков, а сожаления никакого.
Моя история проще. Родился в деревне. Помогал родителям в поле. Дед
обучил грамоте. Как и вы, много читал. Сам рано стал писать. Написал два
сборника стихов: "Цветы и письма" и "Белое". Кое-что из этих ранних стихов
напечатали в "Сельской жизни". Но эти стихи были написаны под влиянием
изящных поэтов. Как все молодые люди, я поддавался колдовскому воздействию
тех прелестей, которые заключены в поэтических образах и необычных
словосочетаниях. Однако юношеские любовные неудачи и горькая водка отрезвили
меня. Я вдруг не просто понял, но ощутил, что все -- реально, и эта
реальность ничем не оправдана, ничем не может быть объяснена. Только онанизм
и сон смягчали реальность реального, как бы "намыливая" все существующее.
Других способов я тогда не знал. Как-то раз, в алкогольном делирии, я
написал несколько стихотворений -- ничтожных и скомканных, -- которые, хотя
бы в какой-то степени, запечатлели бессилие всего, приоткрывшееся передо
мной. Вот одно из них:
Приезжали поезда на станцию.
Там встречали ласково
Пассажиров всех.
Целовали их в билетики,
А потом компостером
Хлоп-хлоп.
Москва!
Не думайте, что я был графоманом, скорее это было нечто вроде отчаяния.
Я приехал в Москву, поступил на филологический факультет. Конечно, я,
деревенский замкнутый парень, чувствовал себя словно оледеневшим в
колоссальном городе. Я был убежденным сторонником онанизма. Как говорят
блатные, "жил с Дунькой Кулаковой". Я чувствовал, что не могу быть
писателем. Однако надо ведь было на что-то существовать. Решил стать
литературоведом. Я написал статью "У лукоморья дуб зеленый..." о сказках
Пушкина. Ее напечатали в журнале "Детская литература". Статья всем
понравилась. Потом я написал большую работу под названием "Окна роста и
коридоры уменьшения", посвященную проблемам психологии чтения у детей в
возрасте от 7 до 11 лет. Эту работу напечатали (хотя и не полностью) в одном
специальном сборнике. Она вызвала одобрительные отклики нескольких людей,
которых я уважал. Ваш друг Стекло говорил вам о князе, который описал своего
сына, сидящего в механической табакерке. Я -- специалист по этой части.
Скорее всего, Стекло имел в виду князя Одоевского, который написал известную
сказку "Городок в табакерке". В этой сказке сын князя во сне попадает внутрь
музыкального механизма, в мир понукания, где все страдают, но никто не
испытывает боли. Попытка революционного вмешательства в мрачную жизнь этого
"общества" приводит к поломке и к пробуждению. "Проснуться" и "сломаться" в
данном случае одно и то же. Знаете, как говорят в тюрьме -- "сломался на
допросе". Вот так и вы в свое время -- "проснулись на допросе".
Я решил, что мне следует избрать для изучения творчество одного
единственного писателя. Я выработал критерии для выбора: этот писатель не
должен быть умершим, он не должен быть слишком известным, он должен быть
членом Союза писателей и регулярно публиковаться (чтобы я мог следить за его
сочинениями), он не должен быть слишком официальным, не должен быть фигурой
одиозной, в его текстах должно присутствовать нечто очевидно невидимое,
непрочитываемое, некое слепое пятно, нечто засвеченное. Я хотел заглянуть в
такую боковую щель, куда только что нырнул некто защищенный со всех сторон,
некто, "чьи следы не оставляют следов". Я долго выбирал среди множества
кандидатур. Оказалось, немало интересных литераторов вполне соответствует
перечисленным требованиям. Выбор был трудным. Наконец, я остановился на
одном писателе по имени Георгий Балл. Лично я его не знал. Видел один раз
мельком, но не стал знакомиться, чтобы сохранить теоретическую дистанцию. Он
писал и для взрослых и для детей. Из его "взрослых" вещей мне попался на
глаза только сборник рассказов "Трубящий в тишине" и фрагмент неоконченного
романа "Болевые точки". Больше меня заинтересовали тексты для детей:
"Торопын-Карапын", "Речка Усюська", "Зобинька и серебряный колокольчик". Все
они отмечены присутствием приторной "сладости" и одновременно "жути", причем
эти сладость и жуть нигде не сходятся между собой, нигде не образуют
привычную "сладкую жуть". Они существуют параллельно, и если что-то и
удерживает их вместе, то это только меланхолия. В "Речке Усюське" есть такой
эпизод:
один очень старый жучок каждый день отправляется раздобыть себе еды.
Ему это трудно дается. Возвращается измученный, еле-еле переставляя лапки.
Какое-то другое насекомое детского возраста каждый день преграждает ему
дорогу к дому, загромождая тропинку кучкой из пыли. Старое каждый раз кротко
перебирается через препятствие. На следующий день сил меньше, а
микроскопический проказник строит кучку повыше. В один прекрасный день
старое не возвращается. Тут только детское понимает, что оно потеряло
единственное дорогое на свете. Повесть заканчивается портретом рыдающей
точки -- образ щемящий и мрачный. В повести "Торопын-Карапын" описывается
детский дом военного времени. Там действует "синий огонек", который проводит
детдомовцев сквозь внутренние пространства печки-буржуйки в мир нечетких
потусторонних существ, словно бы слепленных из сырого пуха. Я написал о
текстах Балла статью "Скакать не по лжи" для журнала "Детская литература".
Ее не опубликовали, потому что название случайно совпало с каким-то из
названий у Солженицына. Меня это уже мало волновало. Я засел за большую
теоретическую работу "Детям о смерти", в которой собирался суммировать свой
опыт литературоведа и психолога. Жил я тогда в Переделкино, в Доме
писателей. Стал захаживать на горку, в церковь. Тогда же заинтересовался
православной догматикой. Оставив "Детям о смерти" без завершения, я вскоре
предпринял попытку уйти в монастырь. Впрочем, эта попытка ничем для меня не
закончилась.
Стало неуверенно светать. Фигуры собеседников приобрели робкое подобие
видимости. "Фигура No 1" оказалась темной, приземистой. "Фигура No 2" была
светлой, даже белой, вертикально-удлиненной. Возможно, она была в
белоснежном простом ниспадающем одеянии, напоминающем подрясник или длинную
ночную рубашку. Полоска, рассекающая небо пополам, постепенно наполнялась
светом. Внезапно она порозовела. Где-то очень близко свистнула птица. Затем
скрипнула древесина, и кто-то огромный вздохнул и шевельнулся неподалеку.
Облака окончательно приняли облик растрепанных роз. Стало ясно, что
"небесная полоса" это щель между полупрозрачными занавесками. Горного плато
не стало -- оказалось, что это поверхность простого деревянного стола,
придвинутого почти к самому окну. Горный кряж справа оказался мятым и
бархатистым -- это была женская блузка, небрежно брошенная на край стола. В
ответ на дребезжащий звон будильника, там, где обрывалась поверхность стола,
вынырнула колоссальная взлохмаченная женская голова. Зевая и протирая
заспанные глаза, гигантская женщина разглядывала циферблат. Впрочем, женщина
была обычного размера. Она лишь казалась гигантской по сравнению с
небольшими "фигурой No 1" и "фигурой No 2", которые стояли на столе.
-- Ой, впритык завела. Сейчас опоздаю!
Показалась не менее заспанная голова мужчины. Выпростав руку в пижамном
рукаве, он неуверенно нащупывал на тумбочке очки.
-- Ну, беги. Я завтрак сам себе приготовлю.
Женщина вскочила. Сдернула со стола блузку, со стула джемпер, юбку,
чулки и прочее. Стала быстро одеваться, одновременно причесываясь. Затем
подхватила пачку школьных тетрадей, лежащих на телевизоре. Из пластмассового
стаканчика, стоящего на умывальнике, выдернула зубную щетку и тюбик с зубной
пастой "Чебурашка".
-- Ну, побежала. Умоюсь уже в школе.
-- Ага.
Женщина наклонилась и быстро поцеловала пробуждающегося.
-- Когда тебя ждать-то, стрекоза?
-- Слушай, совсем забыла, у нас сегодня учительское.
-- Да не ходи ты на эти собрания. Давай лучше в лес -- до того, как
стемнеет. Там, знаешь, за овражком, я тебе сюрприз приготовил... -- Мужчина
мечтательно улыбнулся.
-- Ну, ладно, постараюсь сбежать, -- крикнула она в ответ из прихожей,
надевая валенки и чахлую шубку.
-- Давай. Смотри, не задерживайся. Если спросят, скажи: муж заболел.
Я, может, на крыше буду, хочу помудрить еще с громоотводом и антенной.
-- Ага. Ну, я побежала.
Хлопнула дверь. За окном, по утреннему синему снегу проскрипели
торопливые валенки, взвизгнула промерзшая за ночь калитка.
Мужчина потянулся. Нехотя встал, потирая поясницу. Натянув поверх
полосатой пижамы старый свитер с заштопанными локтями, он присел к столу. На
пустом столе только два предмета -- полная, неоткупоренная бутылка кефира и
кусок толстой железной трубы, отпиленный под косым углом с припаянным сбоку
стальным щитком, в котором оставлены отверстия для шурупов. Из-под основания
щитка виднеется конец дорогой платиновой проволоки. Это и есть пресловутые
"фигура No 1" и "фигура No 2". Мужчина берет бутылку, вдавливает пальцем
зеленую крышечку из тонкой фольги с выпуклой надписью КЕФИР и датой
20.02.81. Делает несколько осторожных глотков из горлышка. Удовлетворенно
вздыхает. Привычным жестом достает из ящика стола плоскогубцы, снимает с
гвоздика паяльник. Прижав плоскогубцами край платиновой проволоки к
стальному срезу трубы, он вставляет штепсель паяльника в электросеть и,
негромко напевая, начинает припаивать.
1987
Колобок
Я учился в школе номер 159. Это было типовое строение, белое с черными
окнами, состоящее из двух продолговатых блоков, соединенных стеклянным
переходом. У входа виднелся высокий флагшток, на котором по праздникам
поднимали знамя, в будние же и ненастные дни там билась только голая
железная проволока, наполняя округу тягостным звоном. Окна были забраны
решетками в форме восходящего солнца. Между уроками мы с моим другом Андреем
Ремизовым сидели внизу, в большом холле с мраморными полами. От скуки мы
рассказывали друг другу истории, основным содержанием которых было
тщательное описание деталей. Сюжет обычно оставался в зачаточном состоянии.
Достаточно было наметить, что в открытой степи встретились несколько
всадников. Далее подробно описывались их одеяния.
Однако сейчас я хочу рассказать о выступлении у нас в школе известного
советского писателя В. А. Понизова, кажется -- лауреата Ленинской премии.
Речь идет об авторе трилогии "Грозовая завязь", отрывки из которой были
включены в школьную программу. Знаменитый "диалог эсэсовцев" даже надо было
заучивать на память. С пятого класса нашим учителем литературы стал Се"мен
Фадеевич Юрков, худощавый, энергичный. Он был из числа тех педагогов, о
которых говорят, что "они отдают всего себя". Нельзя сказать, чтобы я
вспоминал о нем с симпатией, хотя вообще-то дети из интеллигентных семей его
любили. Иногда он бывал строг, в другие дни задумчив, иногда терпелив, порой
чересчур раздражителен. Мы с моим другом Ремизовым занимали всегда первую
парту, придвинутую вплотную к столу учителя, так что во время уроков почти
постоянно наблюдали его длинное, загорелое, немного конское лицо, седеющие
волосы, голубые крупные глаза, пристально всматривающиеся в нас. Следует
отдать ему Должное -- в нашей школе он провел целый ряд успешных
литературных мероприятий. Дело свое он знал превосходно, был, как говорится,
"влюблен в литературу". Своей одержимостью старался заразить детей. "Люди,
живущие без литературы, проживают лишь одну жизнь. Люди читающие проживают
тысячи жизней. И у них всегда есть еще несколько десятков тысяч жизней в
запасе", -- часто повторял он. Эти слова мне запомнились.
Особенно любопытной показалась мне та необузданная жадность, то
влечение к "поглощению жизней", которое стояло за этими словами. Большое
значение придавал он и личным встречам с известными литераторами. Одним из
таких мероприятий было выступление в нашей школе Валерия Андреевича
Понизова. Оно было приурочено, как вспоминается, к одной из ленинских дат и
обставлено с большой торжественностью. Актовый зал, где оно проходило, был
огромным пространством с высокими окнами. Красные бархатные знамена, золотые
горны, белоснежные бюсты, длинные ряды стульев. Автор "Грозовой завязи"
оказался человеком старческого вида в паралитическом кресле. Две маленькие
узколицые девочки в пионерских униформах (возможно, внучки Понизова) вывезли
его из-за неподвижного занавеса. Колеса кресла сильно блестели. Край
клетчатого пледа, которым были укрыты ноги писателя, волочился по дощатому
полу сцены. Я думаю, что Понизов тогда не был особенно стар, но худоба и
желтизна кожи делали его похожим на старика. Меня поразил его голос -- в нем
было что-то действительно старческое. Декламация его была сдобрена
глуховатыми причмокиваниями, влажными задыханиями, пришепелявливаниями.
Порой это переходило в сюсюканье. Временами с особой силой вырывались
пассажи, исполняемые с холодным патетическим накалом, напоминающим белое
электричество. Это волнообразное чередование пафоса (когда Понизов удивлял
электрическими звучаниями) и глуховатого старческого бормотания производило
сильное впечатление. Глаза писателя, насколько я мог видеть их, были
бледные, коричневые, прикрытые помаргивающими веками. Иногда эти веки вдруг
словно бы исчезали, и тогда Понизов смотрел вверх, как изумленная золотая
рыбка, взирающая сквозь воду на своего рыбака. В эти минуты на лице его
отражался страх, восхищение и нежность. Он улыбался, но как бы внутрь себя,
а слушателям предназначал только плавные движения ладоней, которыми он во
время чтения артистически вращал на сухих кистях. К нашему удивлению, в
поэме, которую он читал, встречались изредка матерные слова. Он их, правда,
почти прогладывал, выговаривая неотчетливо и быстро. Только один раз он
произнес короткое матерное слово (даже полуслово) с экстатической четкостью,
во фразе "В КАКИХ, БЛЯ, ЩАХ?!" Эту фразу он выкрикнул на весь зал, причем
лицо его осветилось отчаянием. Кажется, что все слушавшие в этот момент
оледенели, -- очень уж громким и неожиданным был этот "белый вопль".
Прослушав в его исполнении поэму "Видевший Ленина", я стал подругому
воспринимать многое из его прозы, которая давно уже стала классикой
советской литературы. Несколько лет прошло, как он умер, а поэма до сих пор
не напечатана. Причины мне неизвестны, однако я полагаю, что могу здесь
привести текст поэмы целиком без каких бы то ни было искажений и сокращений.
Дело в том, что наш учитель Семен Фадеенич попросил в тот день моего
одноклассника Mитю Зеркальцева принести в школу свой магнитофон, чтобы
записать чтение известного литератора на пленку с целью потом еще раз
прослушать запись на занятии нашего литературного кружка и подробно обсудить
услышанное. Это было осуществлено. Зеркальцев по легкомыслию потом стер
ценную и, возможно, уникальную запись, наиграв на эту пленку песни группы
"Абба" (тогда была в моде эта шведская группа). Однако, к счастью, я успел
перепечатать на машинке текст поэмы Вот этот текст, который мы услышали из
уст автора в тот давний светлый день в актовом зале нашей школы:
Поэма
Дитя, оглянися! Младенец, ко мне;
Веселого много в моей стороне:
Цветы бирюзовы, прозрачны струи,
Из золота слиты чертоги мои.
Жуковский "Лесной царь "
Я шел безлунной темной ночью.
С холма спустился, мрак кругом,
Шагал я прямо, пахло сеном,
Болота тонкий дух стоял,
И издали с шипеньем тихим
Принес мне ветер гниловатый
Известье о еловом лесе,
О мхе, о дальних поездах,
Что мрачно шли в железном гуле.
Звенели в них стаканы чая.
Проводники, кроссворды, сон,
Печенье, минеральная вода
На столиках, дыханье -- все
Там проносилось быстро, мимолетно.
Я также знал, что где-то есть деревня,
Собаки лаяли и помнкли о том,
Что враг недалеко -- там, заграницей,
Они стоят безмолвною толпою
И ждут.
Беспечные, -- я думал, -- люди спят,
А кто-то в полусне, весь разогретый, тучный,
Из дома вышел в предрассветный холод
И, ежась, по тропинке
Прошел в нужник, закрывшись за собой.
Во тьме нащупал он карман тряпичный,
Из мягкой байки сшитый, -- он висел
На стороне обратной двери,
Сколоченной из досок, в нем -- газету
Смяв ее прилежно.
Растер между ладонями, чтоб мягче
Была бумага, а потом
Задумался о чем-то... Может быть,
О том, что где-то высоко над нами
Иная жизнь есть, берег дальний.
Туманный, сладостный. В такие вот минуты
Лишь человек и космос, он и мир.
Они стоят друг против друга, смотрят,
И тишина, безмолвие, безбрежность.
Вокруг.
Вот человек сидит в уборной дачной,
Полупроснувшись, -- он еще
В туманах сна затерян. В голове
Блуждают мысли сонные, витые.
Как свечи, бледные, непрочные. Забвенье
Сладкое еще ему туманит
Глаза полуприкрытые. Зрачки
В прозрачный мрак уперлись, шорох
Случайный уши ловят, не заботясь
О том, что опасаться надо
Неведомых, излишних порождений
Огромной ночи, веющей над миром.
Он временно вернулся в этот мир
Из неги снов, из теплоты постели,
Чтобы обряд свершить -- необходимый,
Естественный и древний, словно уголь.
Он какает задумчиво и сонно,
Глаза подернутые дымкой поднимая
К проему неба над дощатой дверью.
Он в небо смотрит, тело расстается
С излишками прожеванной им пищи
(Таинственное, я сказал бы, дело!
Все те прелестные порою изысканья
Природы и людей, что мы спокойно,
Без жалости, без страха, без сомнений,
Зубами мелкими, спеша, перетираем,
Размачиваем едкою слюною
И втягиваем внутрь, сквозь пищевод,
В утробу жадную, где все обречено
Материалом стать для нашей жизни --
Ненужное же извергаем вон,
Не думая, в уверенности хладной,
Что так и быть должно. А сколько
Там умыслов изысканных хранится!
Стараний сколько! Трогательных тайн
Почтенной гастрономии -- котлеток,
Супов, салатов разных!
Варенья, меда, хлеба, пирожков
И кроликов, когда-то красноглазых!
Бульонов с жирными и нежными очами!
Тортов, пирожных, крема, взбитых сливок...
Ах, царство чудное, отрада для гортани!
О хрупкость влажная эклеров и сардин!
О сытный пар, о ласковый туман,
Курящийся из розовых тарелок!
Паштеты тучные, вареная картошка
Простое блюдо, но однако сколько
В нем прелести загадочной таится,
Когда, посыпав солью этот клубень,
Его дымящимся на вилке поднимаешь!
Да, странно все же устроен человек,
Однако и, пожалуй что, прекрасно),
Да, расстается, и останки эти
Безмолвно падают в холодный, плотный мрак,
В глубокую безрадостную яму, --
Вот если эдак мы с едою поступаем,
С таким чудесным, дружественным сонмом,
С таким родным, необходимым, близким,
То как же с нами этот мир поступит?
Огромный, неизвестный и скользящий,
Неуловимый, бледный, перепрелый,
Темно-сверкающий, космически-блестящий,
Бездонный, заграничный, запредельный.
Ужели будет с нами ласков, осторожен,
Как с хрупкой куколкой, как с ценною игрушкой?
Неужто, снисходительно склоняя
К нам ухо величавое, он будет
Внимателен к младенческим затеям,
К смятенным бормотаньям, к нашим играм?
Неужто будет нас баюкать и лелеять,
И вслушиваться в плач, и слезы
Платком прохладным отирать?
А было бы чудесно!
Но боюсь порою,
Что канем мы в бездонный хладный мрак,
Как испражнения, как трупики сырые
И смрадные, -- дымясь, тепло теряя,
Разваливаясь на лету, мы будем
Извечно падать в яму выгребную,
И плакать над собой, и забывать
Зачем и как, и почему, и что,
И для чего когда-то были мы
Субтильны так, оживлены, беспечны?..
Зачем мы пили чай, качались в гамаках,
Писали сочинения, играли
В настольный теннис? В гулкий наш пинг-понг!
Да, печально. Но, может быть, не так
И плохо все?
Ведь есть же дно у ямы выгребной!
Ведь есть закон, пределы и границы!
Ведь разлагаясь, прея, там, внизу,
Все испражнения в Россию переходят!
Они ее навеки составляют,
Питают и вливаются в нее,
В ее полей колхозных ширь и трепет,
В ее глухой, качающийся злак,
В улыбку смелую простого тракториста!
В ее хлеба, и волосы, и ногти!
В речной простор и нежное свеченье
Загадочного дальнего Кремля!
Россия, ты -- Отчизна, ты под нами
Огромным исполином притаилась.
Куда же ты плывешь, о айсберг дивный?!
Тебя умом, однако, не понять,
Тебя аршином общим не измерить,
Твои размеры, Родина, для нас
Загадка странная, довлеющая тайна,
И иногда я думаю: быть может,
Что ты, моя страна, совсем мала,
И все просторы, вся твоя безбрежность,
Небрежная, угрюмая краса,
В моем лишь сердце русском поместились!
Да, так я размышлял, шагая ночью.
Была кругом простая ночь страны,
Но вдруг там впереди, между стогами
Далекими, блеснул мне огонек
Неясный, трепетный -- он как привет оттуда
Явился. Я ускорил шаг
И, приближаясь, костерок увидел.
Сутуловатый, дымный, он горел
В ложбинке маленькой среди гниющих трав,
И свет его неясный рисовал
Над ним склоненные задумчивые лица.
Я подошел. "Товарищи, Бог в помощь!"
"Здорово, парень", -- отвечали из
Прозрачной тьмы и бликов красноватых.
"Нельзя ли к вам присесть?" --
"Садись, коли не шутишь". Я присел.
И присмотрелся к лицам. Было что-то
Простое и надежное в чертах,
То были лица грубого помола:
Щетина жесткая на скулах золотилась,
В глазах открытых был здоровый блеск,
И смелая улыбка тракториста,
Привыкшего к труду, к страде колхозной
По временам их скупо освещала,
Как спичка в темной комнате порою
Одною вспышкой скромно озаряет
И угол столика, и кресло, и картину,
И стены грязные, потертые, а также
Фигуру темную притихшего убийцы --
Мы видим это долю лишь секунды.
Но в следующий миг, уже во тьме,
Мы с жалким криком, с дрожью ощущаем
Сомкнувшиеся на непрочном горле
Чужие руки, потные тем потом,
Холодным, перламутровым и едким,
Каким потеют только душегубы...
Увлекся я сравнением однако,
А между тем разговорились мы
По-дружески, по-родственному, просто.
Все были трактористы. Рослый Федор
В золе пек ароматную картошку,
Сергей нарезал хлеб, а сбоку кильки
В пакете мятом скупо серебрились.
Степан из ватника бутыль с вином достал,
Андрюха протирал стакан граненый
Газетным, пожелтелым лоскутком.
Потом его по самые края
Наполнили, как на пиру Валгаллы, чтобы
Пустить по кругу. Пили все степенно,
В себя глоток приличный пропуская.
Потом слегка, натруженной рукою
Прикрывши рот, рыгали -- в этом звуке
Глубоком, сочном, сдержанном и нужном,
Весь комплекс чувств случайно отражался,
В нем честь была, достоинство и сумрак,
Житейский и физический порядок,
И наслажденье честное. Потом
Роняли шепотом обрывочную фразу,
Напоминающую чем-то нитку
Нанизанных грибов коричневатых.
Слова все непечатные -- но сколько
Они несут народной прочной силы!
Как пахнут крепко прелою землею!
В них земляная мощь, в них магма, страсть и трепет,
Проклятье в них и пустота большая.
Они гудят от пустоты, как чан,
В который палкой бьют, играя, бесенята. --
Ребятки, зубоскалы, скалолазы,
Пролазы малые, подлизы, прилипалы
Капризные, в шерстинках, и порою
Все склизкие, как червячки, что точат
Дохлятину -- да, гадость ют такая!
Мы пили влагу крепкую -- признаться,
Закашлялся я даже, и слеза
Меня прошибла. Засмеялись.
"Ишь, бля, скрутило как его!
Как заколдобился! Ты глянь-ка, Федор!"
"Чего там, еб твою, он человек столичный,
К такому не привык, бля. Ты бы лучше
Нам по второй налил". Степан стакан наполнил.
Заговорили о колхозе. Было много
Горячих слов и споров увлеченных,
Как технику избавить от простоев,
Повысить урожайность, чтобы трактор
Не зря будил поля от снов туманных.
Расспрашивал я их, они подробно
Мне отвечали. Вспомнили, конечно,
Макарыча. -- "Он председатель наш.
Мужик он строгий, но, конечно, дельный,
И справедливость любит. От работы
Не сторонится -- как страда, так в поле.
Со всеми вместе с раннего утра.
В рубашке пропотевшей, загорелый,
Седой, морщинистый, с мозолистой рукою.
За шуткою в карман не лезет -- только
Порою больно вспыльчив". -- "Да, гневлив, --
Серега подтвердил. -- Я помню, Иванов,
Наш бывший агроном, к нему пришел.
Сказал: "Макарыч, посмотри, совсем, бля, почва
Здесь обессолена. Я пас, Макарыч, ты
Теперь решай как быть". Наш председатель долго
Смотрел на Иванова, в бледном взоре
Немая исступленность проступила,
Коричневатый испещренный лоб
Покрылся крупным потом, шевелились
Лишь губы белые под белыми усами.
Он повторял все время: "Сука!.. Сука!.."
Дрожащим шепотом, затем внезапно
Раздался крик: "Да, я тебе решу!
Решу сейчас..." Макарыч быстро
Схватил топор и бросился вперед.
Смятенный агроном поднял худые руки,
Чтобы живое тело защитить,
Но поздно было... Врезался топор
Под самый подбородок. С мощью страшной
На всех нас брызнула дымящаяся кровь.
И Иванов упал с последним стоном...
Макарыча унять не просто было.
Кромсал он долго тело Иванова,
Словно дрова рубил. И мерно, сильно
Топор вздымался в опытных руках
И опускался, и сверкал на солнце.
Потом его далеко он отбросил
И тихо отошел, присел устало
На ветхую завалинку, тряпицей
Отер с лица соленый, жаркий пот
И успокоился".
"Да, было дело". -- Андрюха со Степаном закивали
И сплюнули. Но рослый, чинный Федор
Ко мне вдруг повернулся, посмотрел
Внимательно: "Ты -- человек столичный.
Тебе вопрос задать серьезный можно?"
"Что ж, спрашивай", -- ответил я бесстрастно.
"Скажи, ты видел Ленина?" Ко мне
Все лица с жадностью поспешной обратились,
Глаза с волнением во мне ответ искали.
Нетерпеливое дыханье вырывалось
Из приоткрытых, пересохших губ,
Сердца стучали в такт, единым ритмом.
Как барабанщики в строю, и даже
Наш костерок как будто вспыхнул ярче
И ввинчивался в небо, словно штопор...
Полк приближался, реяли знамена,
Штыки блестели ровно в жидкой мгле,
И нарастал огромный четкий грохот --
Он будто бы вспухал волной огромной
И захлестнуть готов был, -- так сердца
В ночной тиши отчетливо гремели,
В них билась кровь, пульсация большая
Их потрясала грозно и жестоко...
А я сидел, как мраморный божок,
Как Будда каменный, замшелый, недвижимый,
Омытый струями священного дождя,
Что медленными водами стекает
В его молчании по меркнущей улыбке,
По вечно гаснущей, но все же негасимой,
По оттопыренным ушам продолговатым,
По плоскому большому животу,
По плавным складкам одеяний сонных,
Стекает по бесчисленным ступеням,
По стеклам, по слепцам, по пьедесталам,
По пальмам, миртам, кипарисам, соснам,
По эвкалиптам, елям и секвойям,
По пиниям, алоэ, бальзаминам,
По папоротникам, лопухам, крапиве,
По артишокам, смоквам и лимонам,
По авокадо, мальмо, перпузто.
По чаго-чаго, эвиссанам, данте,
По киш-башим, сьернбаро, больбоа,
По такко, морл, корани, монтовитта,
По эдельвейсам, усикам, клубнике.
По орхидеям, манго, гуатамам,
По можжевельникам, акациям, маслинам,
По палисадникам, оранжереям, гротам.
По лондонам, верандам, иммортелям,
По кортам, трекам, крепам и бильярдам,
По миллиардам розовых макао,
По лилиям, какао, каучукам...
Да, я молчал, но тлел ответ во мне!
Как в глубине под стынущей золой.
И эту искорку, и этот робкий пламень
Их ожидание тихонько раздувало.
"Да, видел! -- прозвучал мой голос тихий, --
В глубоком детстве, в дали обветшалой.
Я был еще мальчонка, одиноко
Скитался лесом. На большой поляне
Под деревом ночлег себе устроил...
Стояла осень. Хрупкие листы
С деревьев крупных падали устало,
А ночью вдруг мороз ударил. Рано
Я пробудился на рассвете бледном.
Весь лес молчал. Такая тишь стояла,
Что ужас пробирал. Не только ужас!
Был холод ледяной, как после смерти.
Вокруг меня коричневые травы
Все инеем покрылись и блестели,
Отламываясь со стеклянным звоном,
Когда я прикасался к ним случайно.
Я еле встал с земли -- а мог и не проснуться.
Все тело неокрепшее до самых
Костей бездомных холод пробирал.
Я побежал среди стволов, что за ночь
От инея как будто поседели,
И словно тучные, большие мертвецы,
Морщинистые, в два обхвата, трупы,
Стояли неподвижно. Я дрожал.
Вдруг на одной огромной ветке, вижу,
Сидит вверху какой-то человек.
Свисают вниз коротенькие ноги
В ботинках хорошо начищенных, блестящих,
Свисают полы черного пальто --
Он в черном весь, без шляпы, с бледным ликом,
И только под пальто, в петлице узкой
Горит, как рана, алая гвоздика...
Вдруг быстро спрыгнул, подошел вплотную,
И, как во сне, маячило лицо
Неясно, муторно, светло, неразличимо,
Или от холода мои глаза-бедняжки
Отчетливо увидеть не умели.
Мои он руки взял и сжал в своих руках.
И хлынул жар в измученное тело:
Безбрежное, могучее тепло
Из суховатых пальцев источалось.
Смывало дрожь. Я видел, как узоры
Прозрачного изысканного льда
Покорно таяли на синеватой коже
Моей, и краска жизни -- розовая спесь
Сквозь бледную убогость проступила,
Вся кровь пошла быстрее, веселей
В артериях, гремучая, как пламя...
О нежная река моей судьбы!
О жизнь, сестра моя, моя подруга!
Подпруга, стремя, знамя, шпора, хлыст,
Полет упругий в вышине над бездной,
Стремнина быстрая, знамена, корабли,
Железный звон уздечки, стук ракетки,
Креветки тлеющей соленый влажный вкус...
Да, был я возрожден! Мне даже жарко стало.
Меня аж пот прошиб! Но вот уж пред собой
Я никого не вижу. Мой спаситель
Вдруг быстро повернулся и исчез
Между деревьями. Стоял я, пораженный.
Ладони рук горели терпко, странно,
И я внезапно понял, мне открылось, --
Как открывается в угрюмых небесах
Прореха исступленная, откуда
Из яростной лазури брызжет свет,
Как будто крик из тысячи гортаней,
Как будто стая изумленных змей,
Вдруг хлынувших из сумрачной корзины --
Я понял, кто то был --
Да, то был Ленин!!!
А после... много жизнь меня бросала.
Работал в медицине, при больницах.
Порою наложеньем этих рук
Я исцелял теряющих надежду
Да, много было! Много пережито!.
Затем пришли враги на нашу землю,
Затем война нагрянула -- ушел я
На фронт. Повоевал изрядно.
Дошел до самого далекого Берлина!
Рейхстаг облупленный, коричневый, горящий
Я штурмом брал -- вокруг лежали
Как мусор, кучами, большие мертвецы.
Война -- не шутка, брат! Я много повидал.
Вот, помню, как в оранжерее мрачной,
Среди разбитых стекол и цветов,
Из мягкой почвы, полной удобрений,
Солдаты в пыльных касках, в плащпалатках,
Достали Гитлера отравленное тело.
Завернутый в шинель, лежал он, как ребенок,
Дитя арийское, и на худых щеках
Играли краски -- радужные пятна
Из глубины тихонько проступали,
И реяла неясная улыбка. Тишина
Стояла средь цветочных ваз, средь водометов.
"В нем бродит кровь!" -- раздался робкий шепот.
И точно: вампирически-румяный
И скрученный комочком, он лежал,
И что-то в этом мертвом, детском теле
Как будто пучилось, бродило, трепетало,
Шептало что-то, снилось, как в болоте.
Мы наклонились, и военный врач
На всякий случай зеркальце приблизил
К морщинистым губам зеленоватым.
И вот, на льдистой, светлой амальгаме,
Из тонких капель свастика сложилась
Совсем прозрачная -- то был последний всплеск,
Последнее погасшее дыханье
Эпохи отошедшей.
Я на Родину вернулся. Помогал
Восстанавливать разрушенные сваи
Нашей жизни. После в средней школе
Был учителем. Учил детей наукам:
Биологии, ботанике и праву,
Анатомии, литературе, слову
Устному, а также физкультуре.
А меж уроками, в сыром пустынном зале,
У шведской стенки тихо примостясь,
Вдыхая гулкий скандинавский холод
И кашляя в кашне, писал я повесть
"Сон пулеметчика" -- о пройденной войне.
Да, напечатали. Успех большой имела.
Я бросил школу и отдался прозе.
Вступил в Союз писателей, работал
В журналах разных, но потом засел
За мощную трилогию. В размахе
Ее, в теченье мерном, плавном
Литых и плотных строк, в чередованы;
Насыщенных многостраничных глав
Покой я находил, глубокий, стройный,
И тихое величье. В первой части
Я смело, сочно перепутал нити
Пяти судеб, пяти моих героев,
Затем с тремя покончил -- приходилось
Порой над вымыслом слезами обливаться,
А иногда на строчки роковые
Вдруг голову тяжелую роняю,
Уткнусь в бумагу лбом, и брызнут слезы
Неудержимо, широко, просторно!
Написанное расплывется чуть, но станет
Еще живей и ярче -- так на пашню
Весенний хлещет дождь, ростки питая,
Вливая свежесть в них, упругость молодую...
Названье было "Грозовая завязь".
Я премию за это получил
И стал весьма известен. Да, друзья,
Настала для меня пора расцвета --
Бывало, вот, как помоложе, выйду
В проклеенном резиновом пальто
В широкую разлапицу бульваров
(Цитата здесь. Ну ничего, я дальше)
Иду, не торопясь, и фая тростью,
В Дом литераторов. Я прохожу местами,
Где действие известного романа
Впервые завязалось. Я дышу:
Весенний воздух пьян и глух и сладок.
Вхожу я в Дом писателей, снимаю
У вешалки азартную шинель
И в зеркале случайно отражаюсь.
Я с дамами, я пьян и элегантен --
На мне скрипучий кожаный пиджак
И шаровары синие, из байки,
С лампасами -- как будто генерал
Иль комиссар казачий. Но оставим!
Мы с вами в ресторане! Здесь, в прохладе,
В псевдоготическом, заманчивом уюте,
Я завсегдатай -- там, там, у колонны.
Где фавна лик лукаво проступает
Из зарослей резных вакхической листвы
-- Краснодеревщика прелестные затеи! --
Там, у камина, в уголке укромном
Вы можете меня найти. Я знаю
Официанток всех по именам,
Я знаю жизнь и я пожить умею,
По клавишам я жизни пробежался,
По серебристым шпалам ксилофона
Как палочка отточенная прыгал,
Неся легко на экстренных пуантах
Простую жизнерадостную тучность!
Скорей расставьте колпачки салфеток!
Бликующий, ликующий парад
Приборов, вензелей, тарелок и бокалов!
Скорей несите водку, коньячок...
Чего еще там? Белого вина?
Ах, "Совиньон"? Ну что же, я не против.
А вы, Тамарочка, пожалуйста достаньте
Вот этой лососины, что смакуют,
Неряшливо салфеткой повязавшись,
За столиком соседним лироносцы.
То бишь поэты. Я их так зову.
Смешно? Не очень? Ничего, пустое.
Я в остроумии, признаться, не силен
И иногда шучу тяжеловато.
Как жизнь сама. Еще икорки,
А также балычок, маслин (конечно свежих),
Капусточки гурийской, лаваша,
Да масла шарики ребристые подайте.
Мы их, изысканных, как ракушки, жестоко
Размажем по дымящимся лепешкам --
Изделиям армянских хлебопеков..
И не забудьте тарталетки -- к ним я нежен,
Такие хрупкие коробочки, шкатулки
Непрочные такие -- на зубах
Податливо хрустят, внутри паштет и сыр.
Затем, наверно, суп -- он, говорят, полезен.
Ну и еще чего-нибудь с грибами,
Какой-нибудь зажаренный кусок
Коровы умерщвленной -- ведь жила,
Подумайте, жила она когда-то!
Как мы, вдыхала воздух ртом, ноздрями
И порами увесистого тела,
Но мало радости, должно быть, в этой жизни --
Вот разве что цветущий луг, трава там...
Да, ладно, впрочем, -- вы, Тамара, нам
Под занавес шампанского достаньте.
Пусть пузырится. Я люблю его.
В нем глупость есть какая-то, невинность...
Подайте кофе по-турецки, и для дам
Побольше там пирожных разнородных.
Вот так-то, значит". Сытно отобедав,
Я спутниц оставлял своих внезапно,
Взгляд озабоченный остановив на диске
Часов настенных. Дело приближалось
К восьми. Нырял я незаметно
В довольно тесный, узкий коридорчик.
Я быстро опускался, поднимался
По лесенкам, по мелким закоулкам,
Потертые ковровые дорожки
Стремглав мелькали под упругим шагом.
Затем толкал я судорожно, тихо
В стене дубовой дверцу потайную
И в комнату большую проникал:
Все стены черным бархатом обиты,
А в середине стол огромный -- здесь
Меня уже все ждали. Да, все наши.
Ведущие прозаики, поэты
И критики -- довольно тесный круг.
Почти семейный. Председатель Марков
Меня приветствовал: "А, Валерьян Андреич!
Вы заставляете себя, однако, ждать.
Ну что ж, приступим. Все, я вижу, в сборе.
Евгений Алексаныч, попрошу вас
Нам освещение приличное создать".
И с хрустом свежую колоду распечатал.
Он был у нас всегда за банкомета --
Незыблемо сидел в высоком кресле,
Когда мы каждый вечер собирались
В той мрачной комнате для карточной игры.
Писатель Евтушенко вынес свечи
В тяжелых, бронзовых, зеленых шандалах,
Расставил медленно, поправил, чиркнул спичкой,
И огоньки тихонько заметались.
Свет потушили. Мягкий красный отблеск
Свечных огней поплыл по строгим лицам,
В очках у Кузнецова отразился
И потонул в глубоких зеркалах...
Да, после часто повторял я,
Что ногу потерял на фронте. Мне
Обычно верили. Смотрели с уваженьем
На иностранный, стройный мой протез.
Другие думали, что я попал под поезд,
Когда в запое был. Но вам скажу я честно,
Начистоту, без шуток, не таясь:
Я эту ногу в карты проиграл.
Играть на деньги скоро надоело,
У каждого полным-полно бумажек --
Какой здесь интерес? Так вот и стали
Придумывать мы разные затеи
Позаковыристей. А началось с ребячеств!
Один в себя плеваться позволял,
Когда проигрывал. Другой съедал бумажку.
Писатель Мальцев пил свою мочу...
Но бог азарта сумрачен и строг
И требует не штучек инфантильных.
Он настоящей жертвы жаждет. Крови!
Он любит трепет до корней волос,
Дрожанье пальцев, жуткий бледный шелест,
Холодный пот, отчаянье, злорадство,
Блеск, хохот, вопль, рыданье, скрежет, стон!
Я ногу потерял. Вы скажете: ужасно!
Чего там! Были случаи похлеще.
Фадеев жизнь свою поставил -- и два раза
Выигрывал. А в третий раз не вышло.
Вот так вот и судьба. Она играет с нами!
Да, помню день, когда я проигрался,
Вот как вчера как будто это было...
Меня все окружили, утешали,
Сказали, что все сделают небольно.
Расселись по машинам с шумом, смехом
И в Переделкино веселою ватагой
Нагрянули. По кладбищу бродили.
"Гуляй, Валерий! -- мне друзья кричали, --
В последний раз гуляешь на обеих".
В усадьбу местную писателей зашли,
Там выпили холодного кефира
В полупустой полуденной столовой.
Затем один из нас к себе на дачу
Всех пригласил. Грибами сладко пахло.
Стоял холодный, солнечный сентябрь,
Большая дача ласково блестела
Стеклом веранд, дряхлеющих террасок.
Костерчик развели полупрозрачный
И с прибаутками, болтая, стали жарить
Пахучий шашлычок. Хозяин вынес кресла
Плетеные -- в одном я примостился
В оцепененье тихом, золотистом.
А рядом кто-то выдвинул антенну
Транзистора -- эфирный нежный шорох
И голоса на чуждых языках
Потусторонней лаской прозвучали.
Вдруг Штраус грянул -- венский, сумасбродный,
Сверкающий, вращающийся вальс...
Ах, сколько там стремлений, неги, влаги!
Ах, сколько пены, бренности кипучей!
Как тягостно паренье, как легка
Слепая тяжесть в кружевной истоме!
А даль! Какая даль там проступает!
Как робко розовеет и манит
В то путешествие, откуда нет возврата!
Воистину -- ведь это танец смерти!
Предсмертный, брачный танец мотыльков,
Что в сумерках до гибели, до боли
Цветочных ароматов насосались...
Заслушались мы все, и тишь стояла.
Одни глядели в небо потрясенно,
Другие прятали глаза, украдкой
В платок вбирая терпкую слезу.
А третьи гулко, медленно вздыхали...
Всех взволновало крепко, до корней.
Ах, Вена, Вена, как ты нашалила!
Проказница, капризница, красотка,
Болтунья, непоседа, истеричка!
Соседка-сплетница, безумная наседка,
Ты из пятнистых экзотических яиц
Выводишь Штраусов -- больших, аляповатых.
В тебе колдует Фрейд -- серьезный призрак,
Угрюмый, лысый, с белою бородкой.
Он твой Амур на гипсовых крылах,
В тебе лепные изыски и зелень...
Ах, Вена милая, артерия больная,
Зачем ты изменила, ну, скажи?
Ну почему ты не досталась нам?!
Ведь мы тебя с оружием в руках
У Гитлера проклятого отбили!
Фронтовики тихонько завздыхали.
"Не удержали Вену. Отступили,
Врагу оставили. А как бы мы ее
В объятьях русских бережно качали!
Мы холили, лелеяли б ее!
Мы Моцартом ее бы умилялись
И с деревянной ложечки кормили,
Как малого ребенка..." "Ничего!
Не вечно ей в плену у них томиться!
Придет, придет освобожденья час!
Мы разобьем оковы, рухнут цепи,
И грубой мускулистою рукою
Мы защитим заплаканное чадо
В сецессионных тонких кружевах..."
На ветхие верандные ступени
Из дома Марков вышел. Он держал
Обычный шприц с блестящею иглою.
"Ну, Валерьян Андреевич, пойдемте.
Уже готово все. Бодрей, бодрей!
Не маленький уже! Закончим -- выпьем
И шашлычком закусим. Хорошо
На свежем воздухе у костерка под вечер!
Прилягте здесь. Тихонько. Так, прекрасно.
А ты клеенку подстели. Подвинь-ка
Поближе тазик. Ближе, ближе!
А то диван весь кровью пропитает..."
Мой голос прозвучал как чужестранец,
Как бы не мой, как бы какой-то детский:
"Вот так, под Штрауса, ее мне и отрежут?"
"Ну а чего? Нам Штраус не помеха.
Пускай играет -- музыка какая!
Какой ведь виртуоз! Не то что нынче.
Да ты чего, чудак, заиндевел?
Сейчас уколемся -- заснешь себе спокойно,
А мы тут поработаем немного...
Скажи спасибо -- взяли на себя.
А то ведь сам бы резал. Представляешь?
Ее ведь эдак с ходу не возьмешь.
Не палец, знать. Топор здесь ненадежен.
А тут вот, у Чаковского, есть штучка
(Расул тебе ее сейчас покажет).
Ага, вот видишь -- техника какая!
Для рубки мяса, вроде гильотинки,
Конечно иностранная. Но к делу!
Давай, брат, руку. Засучи рубашку
И брюки подверни. Вот здесь, на левой.
Ну, а сейчас укольчик небольшой,
Протрем одеколончиком. Как пахнет!
Немного жжется? Ничего, зато
Микробы юркие под кожу не проникнут...
Теперь закрыть глаза, расслабиться, забыться
И спатеньки!"
Все тихо затуманилось, поплыло.
Снотворный мягкий змей, не торопясь,
По крови расползался. Я хотел...
Я что-то, кажется, сказать еще пытался,
Но вдруг увидел, что уже уснул.
Мне снилось, что я вновь в родной деревне,
В полупустой натопленной избе,
И будто бы вернулся я с охоты.
Я весь в грязи, с меня свисают клочья
Свалявшихся болотных, прелых трав,
На поясе висит тяжелый заяц,
И медленно и мерно каплет кровь
С него на светлый, выскобленный пол.
Вдруг бабушка вошла. "Не ждали, внучек.
Давно не приходил. А лет небось немало
Прошло". Прозрачный бледный взгляд
Смотрел в меня спокойно, неподвижно.
"Помыться бы", -- с трудом я прошептал.
"Помыться можно. Здесь вот, в чугунке,
Я щи поставила. Не хочешь прямо в щах
Помыться?" -- бабушка как будто усмехнулась.
"В каких, бля, щах?!" -- вдруг вырвался истошный,
Нечеловеческий, поганый, сиплый вопль,
И передернуло меня. Я понял,
Что бабушка давно сошла с ума,
Живя здесь на отшибе, в одинокой
Заброшенной избушке. "А вот в этих", --
Она иссохшим пальцем указала
На чугунок большой с каким-то супом.
"Ты зайчика на лавку положи,
А сам, в одежде прямо, полезай --
Уместишься как раз". Я почему-то
Послушался -- и в жижу погрузился.
И правда, поместился хорошо.
Щи были теплые, болотцем отдавали,
В них плавала какая-то трава,
Куски земли, комки неясной глины,
И мягкий пар неспешно поднимался.
Сначала было хорошо, умиротворенно,
Но вдруг, я вижу, -- щи-то закипают
И тело под одеждой жгут все строже.
Все яростней... "Да что ж это такое!"
Я закричал, забился -- пар плотнее
Вокруг меня. Я вижу лишь оконце
Все кривоватое -- совсем заиндевело,
Покрыто все блестящим тонким льдом.
Узор мерцающий -- похожий чем-то
На выпитый до дна стакан кефира
С разводами на тоненьком стекле.
Не помню... вот, недавно, только что...
Совсем-совсем сейчас его оставил
Я на столе в писательской столовой...
Когда же? Неужели так давно?
Ах, много лет назад. Ну что же, понимаю.
Почти вся жизнь прошла,
И вот теперь вернулся
В места забытые младенческой зари,
В края родимые, в далекую деревню,
Да только незадача вот -- послушал
Безумную старуху и полез
Зачем-то мыться в щах. Как горько
Так глупо, по случайности, погибнуть.
Как только это все могло случиться?
Я, кажется, подумал -- в этом есть,
Должно быть, неиспытанное что-то...
Но промахнулся -- и попал в капкан!
Вот так вот, трепеща, жизнь исчезает,
Уже исчезло все -- и только то оконце
Еще мне светит ледянистым светом,
Последним лучиком и изморозью нежной...
Вдруг что-то в нем слегка зашевелилось.
Я пригляделся, вспыхнула надежда,
И голова безумно закружилась.
О, неужели это... Быть не может!
О, Господи! Да, да, там проступает
Рукав со складками, картуз, плечо,
Улыбка, локоть, тень от козырька
И салютующие пальцы -- Ленин! Ленин!
Ильич...............................
Вдруг схлынуло все тяжкое. Спокойно
Сидим мы трое за простым столом.
Я словно после бани -- разомлевший,
Распаренный, в рубашке светлой, чистой.
А рядом -- он сидит, такой обычный,
Житейский, теплый, близкий, человечный.
Мы щи едим из деревянных мисок,
Нам бабушка дала -- с домашним хлебом
И с крупной солью из солонки древней.
Он только что вошел, снял шубу,
Снег отряхнул, перекрестился чинно
На образа в углу, присел на лавку.
И карий взгляд, лукавством просветленный,
Во мне тонул, как в темных, мутных водах
Луч солнечный глубоко исчезает.
Высвечивая илистое дно...
"Отличнейший, Ефимовна, супец!"
"Старалась, батюшка, чтоб посытнее было,
Тебе ведь за делами, знать, нечасто
Горячего поесть-то удается.
Да вот и внучек подоспел -- вернулся
Из города в родимую деревню.
Его еще ребенком бессловесным
Отсюда увезли -- я, помню,
Стояла у крыльца и взглядом провожала,
Дорога таяла в предутреннем тумане,
Шаги все удалялись, мягко гасли.
"Вернешься к бабушке, -- тогда я прошептала,
Вернешься, голубок! Не так-то просто
Ог бабушки навеки укатиться,
Судьба назад забросит, как ни бейся,
Как ни ползи стремглав ужом блестящим!
Как ни вертись, как ни молись -- не выйдет!
Вернешься к бабушке -- она твое начало
И твой конец, мой внучек, твой конец!.."
"Охота здесь хорошая, -- некстати
Вмешался я (а говорилось трудно,
И получался только сиплый шепот), --
Я вам тут дичь принес..." "Молчи, охальник! --
Вдруг бабушка прикрикнула сурово, --
Ты посмотри, что притащил сюда!"
Я оглянулся. Вздрогнул. Там, на лавке,
Нога отрубленная сумрачно лежала,
И кровь стекала на пол -- темной лужей
В углу избы безмолвно расползалась...
Ильич нахмурился и искоса взглянул:
"Нехорошо у вас, Валерий, вышло!
Нога -- она дана ведь от природы
Не для того, чтобы играться с ней!
Она была живою частью тела,
Его опорой, мощною поддержкой,
Костяк в ней прочный мудро был запрятан,
Упругие хрящи сгибаться позволяли,
Все было мышцами обложено вокруг.
И кровь в ней циркулировала -- чудный
Загадочный сок жизни омывал
Ее до самого последнего сустава!
А нынче, посмотрите, как стекает
Безрадостной коричневою жижей
В слепую пустоту сей эликсир...
И сколько укоризны в этом трупе!
Хоть и без глаз, без лика, но как явно
Упрек она тихонько источает!
А ведь она дорогами войны
Вас пронесла -- и столько раз спасала
Своим проворством жизнь вам". "Это правда!"
Я разрыдался. Жалость вдруг пронзила.
"Возьми ее, -- пробормотал сквозь слезы. --
Возьми ее себе. Не дай пропасть в пустыне.
Скалистой нечисти с пронырливыми ртами
Не дай сожрать ее -- о, не позволь
Обгладывать им вянущее мясо
С моих костей, слюну в ничто роняя...
Вертлявые! Им вкусен запах крови,
Придут, придут голодною цепочкой
И клянчить будут. Бледнопалы,
Проворны, белоглазы, нежнотелы.
Ты не отдай! Ах, пусть не зря, не зря
Дитя беспомощною с жизнью разминулось
И, отсеченное, отброшено вовне...
Она твоя! Возьми ее с собой!"
Он встал, задумался, по комнате прошелся,
Потом вдруг ногу взял и перекинул
Через плечо, как сумку, как винтовку.
"Ну что ж, беру, пожалуй, и до срока
Приберегу. А там посмотрим!
Придешь туда -- отдам ее обратно.
Не вечно же все одноногим прыгать,
Не аист ведь. Ну как, договорились?"
"Да, да!.." -- я захлебнулся
И медленно, прощально помахал
Сквозь слезы сна слабеющей рукою.
В открывшуюся дверь, шурша, ворвалась вьюга,
Забился веером колючий снежный прах...
Запахло безграничностью и смертью,
Очарованием, прощаньем, снегом, чудом,
Он обернулся на пороге: "Нуте-с!
Итак, товарищ Понизов, я жду
Вас у себя. Запомнили? Прощайте".
Дверь хлопнула. И только на полу
Полоска снега бледного осталась...
И все затихло.
С того момента жизнь переменилась.
Я понял, что судьба меня зовет
К пути иному. Круто повернув,
Я оборвал привычное теченье,
Литературу бросил и ни строчки
С минуты той, клянусь, не написал.
Больней всего -- с друзьями расставаться.
Нам было вместе хорошо, мы сильно
Друг к другу сердцем прикипели. Знайте
И помните всегда -- большая дружба
Поистине бесценна! В этом мире
Под ветром ли холодным трепеща,
Иль поднимая кубок наслаждений,
Мы к другу льнем -- ведь мы же так непрочны,
Ведь нас и радость может раздавить,
Когда ее с друзьями не разделим!
Ах, как они старались скрасить мне
Ноги потерю! Вынесли на воздух,
Шутили, пели, тосты поднимали.
Я очень много пил -- я осознал в тот вечер,
Что это как лекарство нужно мне.
О, эта ночь! В последний раз с друзьями!
Спустилась тьма, мы факелы зажгли
И медленной, торжественною цепью
В путь тронулись -- мы ногу хоронили.
Ее в лиловый бархат завернули
(Была то скатерть -- сняли со стола)
И впереди несли в блестящем мраке.
За ней несли меня -- лежал я на доске.
В угаре пьяном мне порой казалось,
Что умер я и будет погребенье, --
Процессия тянулась вдоль заборов,
Скрипели сосны, в воздухе висели
Гудки ночные дальних поездов.
Неясный свет от факелов метался,
Мы вышли на шоссе, с полей тянуло смрадом,
Там Сетунь показалась впереди,
Дрожащий шум воды, глухой печальный ропот
Послышался, и мрачный черный холм
Навис над нами. Кладбище! Огромной
Толпой могил, решеток и крестов
Оно по склону расползлось. Ступени,
Полузатопленные слякотью, вели
Наверх, туда, к кладбищенской ограде.
Мы песню затянули, а на нас
Глядели тьмою съеденные лица
С могильных фотографий застекленных.
Надгробия как домики -- оттуда
В овальные окошки смотрят в мир
Те, кто лишился тела. Житель смерти
Обязан мягок быть и молчалив,
Обязан сдержан быть и ненавязчив,
Обязан скромен быть и осторожен.
Обязанностей много, но не так-то
И просто исполнять их. Да, порою
Они с цепи срываются и буйно
Кружатся над землей в сиянье жутком...
Ах, как на них тогда смотреть опасно,
Но и приятно до предельной дрожи!
Мы ногу погребли в углу погоста.
Над ней поставили дощечку небольшую
"Нога В. Понизова". Острослов Чаковский
Импровизировал надгробный монолог.
Заставил нас, подлец, до слез смеяться!
А мне совсем ведь не до смеха было,
Но он такие штуки отпускал,
Что я червем, как сука, извивался!
Среди молчания, и холода, и тлена
Звучал здоровый этот, пьяный смех
Собравшихся мужчин. И факелы дрожали,
Хохочущие лица освещая.
Нет, не было цинизма в нашем смехе!
Нет, взор наш не зиял бездонной скукой
И жаждою кощунственных забав!
Мы жизнь любили искренне и нежно,
Мы все почти войну прошли, мы знали
Ей цену горькую, мы Родину любили
И за нее, не думая, готовы
Мы были умереть -- мы столько раз стояли
Под смертоносным свистом вражьих пуль!
Мы трепет смерти чувствовали плотью,
И потому ценили свет ночной
И гул небес, и нежный запах тлена,
И хрупкие бумажные цветы,
Шуршащие об отдыхе и шутке...
Мы меж могил скатерку постелили,
С собой была закуска и вино.
Лежал я, опираясь на какой-то
Надгробный памятник. И было хорошо!
Я никогда еще не пил так сладко!
Я никогда таких не слышал песен,
Как в эту ночь. Мы пели фронтовые,
Народные и прочие напевы.
Звучало "Полюшко", вставая над погостом...
Вдруг кто-то крикнул: "Эй, смотрите, там
Могила Пастернака". Точно, возле
Белел тихонько памятник поэту.
"Поверь, Борис, в сердцах живут твои
Живые строки, словно ключ прозрачный --
Стеклянный ключ к слепым дверям веранды.
Мы любим эти звуки, это пенье.
Глухое воркованье на току,
Мы плачем от восторга пред грозою,
Когда горит оранжевая слякоть,
Навзрыд ты пишешь, клавиши гремят,
Весна чернеет, шепчутся портьеры,
Ты не ушел от нас, ты с нами, Боря!"
И мы стихи читали Пастернака,
Кто что припомнить мог. В трюмо туманном
Там чашечка какао испарялась,
И прочее звучало так волшебно!
А мне вот не пришлось какао пить!
Я беспризорным рос, оставленный всем миром,
Я голодал, я знал жестокий холод,
Я на вокзалах грязных ночевал,
Я продавал скабрезные открытки.
Какое уж какао там! На дачах
Цвела тем временем роскошная сирень,
Вздымался над прудами легкий сумрак,
Упругий мячик гулко целовался
С английскими ракетками на кортах...
Вдруг пьяный Кузнецов поднялся с места,
Отяжелевшей головой качая:
"Ребята! Вот стихи какие...
Давайте-ка Бориса откопаем!
Ведь интересно, как теперь он там, --
Такой поэт великий все же...
Такие рифмы..." -- И его стошнило.
"Слабак! -- презрительно промолвил Марков, --
На кладбище блевать! Не стыдно, Феликс?
И что за мысли странные? Ты что,
Соскучился по трупам? Морг любой
Радушно пред тобой раскроет двери,
Покой же погребенных нарушать --
Великий грех. А ну-ка, братцы,
Споем еще". Но Кузнецов сквозь слезы,
Сквозь хрип и бульканье своих позывов рвотных
"Давайте откопаем..." все шептал
И содрогался -- лишь очки блестели.
"Заткнись!" -- прикрикнул Марков и ударил
Его с размаху в хрустнувшую щеку,
И тот затих, уткнувшись неподвижно
В могильный чей-то холмик, где давно уж
Сухие незабудки отцветали.
Внезапно, неожиданно и ярко,
Как звук трубы, взывающий к атаке,
Луч первый хлынул из лиловой дали.
Ночь кончилась, осела темнота
Большими клочьями, клубящимся несмело
Гнилым туманом. А над нами прямо,
Над нашим утомленным пикником,
Как бы ответным блеском вспыхнул крест
На куполе церковном, словно пламя.
Мы робко закрестились, и тихонько
Послышались в неясном бормотанье
Слова молитвы: "Господи, помилуй!"
Да, человек -- земля! В нем тысячи фобов.
В нем преющих останков мельтешенье,
В нем голоса кишат, как полчища червей,
В его крови фохочет предков стадо,
Он родственник погостам и крестам,
Он верный склепа сын, он слепок, он -- слепец!
И мертвецы, вмурованные в кости,
Недолговечные, как бабочки ночные.
Как легкий слой тумана, преходящи,
Затейливо блестят глазенками пустыми
Из глубины. Но есть иные трупы!
Они величественны и просты, как небо,
Они, как вечность, щедро неподвижны,
Они не тлеют, не текут, не пахнут,
Не зыблются, не млеют, не хохочут,
Не прячутся, не вертятся, не блеют,
Не шепчут, не играют, не змеятся,
И в землю изможденно не уходят, --
Они навеки остаются с нами
И молча делят горести земные,
И бремя тяжкой жизни помогают
Нести живым задумчиво и строго.
Они лежат в глубинах темных храмов,
В таинственных пещерах, в мавзолеях,
И к ним стекаются измученные толпы
И припадают жадными губами
К прохладе животворной их смертей.
И ближе всех нам -- Ленина чертоги.
К нему, к нему, он всех других нужнее!
А у меня в глазах мой сон стоял:
Его лицо, негромкий, ясный голос.
"Я жду вас у себя..." И я решился.
Прошло немного времени, быть может
Почти полгода. Очень плохо помню
Событья этих месяцев -- все как-то
Расплылось. Пил я горькую, признаться.
Мне сделали протез, я где-то
Шатался инвалидного походкой,
Осунувшийся, бледный, завалящий.
Кто бы подумал в эти дни, что я -- писатель,
Что "Грозовую завязь" написал я?
Да, опустился сильно. Но в душе
Решенье непреложное светилось.
Я только ждал -- судьба была открыта!
И вот одно из утр меня застало
На Красной площади. Пройдя спокойно
Между застывших грозных часовых,
В толпе паломников, детей и ветеранов,
Больных, слепцов, аскетов и солдат,
Ударников, спиритов, комсомольцев,
Вступил я тихо под немые своды.
Вокруг прожилки темного гранита
Как будто полные подспудной тайной кровью.
Огромные, тяжелые ступени
Вели нас вниз и вниз. Волшебный холод
Над нами реял, словно дуновенье
С потусторонних, сладостных полей,
Где чистый лед играет с вечным светом.
И вот она -- гробница! Горы, горы
Цветов возникли на пути у нас,
Смесь ароматов призрачным фонтаном,
Бесплотным лесом в тишине висела.
Служители в мерцающих халатах,
Печальные и тихие, как тени,
Метелками цветы сметали в кучи,
Чтобы дорожка чистой оставалась.
Откуда-то неясно источался
Почти что шепот, голос приглушенный,
Читавший вслух написанное тем,
Кто здесь лежал. Но разобрать слова
Совсем не удавалось. Словно капли
Иль звон далекий, скорбный и прозрачный,
Звучала музыка над этим тихим чтеньем,
Замедленный и постоянный марш,
Один и тот же погребальный шелест --
Творенье Шостаковича. А дальше,
Между курильниц золотых, откуда
Голубоватый крался фимиам,
Дурманящий и сладкий, как наркотик,
В неярком свете Вечного огня,
Горящего среди подземной залы,
Словно бестрепетный и розовый язык
Лучащийся слегка из бездны мрачной,
Над этим всем висел стеклянный фоб
На золотых цепях. А в нем, совсем открыто
И просто, не скрываясь, на виду
Лежал он. Да, несложно
Нам встретиться с судьбой своей -- всего лишь
Глаза поднять -- и вот она, судьба.
Без удивления, без ужаса, без крика
Мы смотрим на нее. Здесь крики не помогут.
И смех тут неуместен, и слеза,
И можно только тихою улыбкой
Счастливую покорность запечатать.
Торжественно толпа текла вдоль фоба.
Здесь люди тайной силы приобщались.
Они на тело мертвое смотрели,
Тихонько цепенея длинным взглядом,
И мимо проходили, чтобы к жизни
Своей вернуться, чтобы с новой Сфастью
Работать на заводах, пить кефир,
Стремительно нестись в локомотивах,
Мозолистой рукой вести комбайны,
Лежать в больницах, сфоить интернаты,
Ифать в футбол на солнечных полянах,
Томиться, плакать, школу посещать,
Глядеть на дождь, молиться, зажигать
По вечерам оранжевые лампы,
Готовить пищу, какать, спать, стремиться
Куда-то вдаль все время. А куда?
И только я вот не тянулся к жизни,
Туда мне возвращаться не хотелось.
Я чувствовал, что здесь мне надо быть,
Что здесь мой пост, и мой покой, и счастье,
Что мне пора от мира отвернуться,
Исполниться смирением глубоким
И сердцем пить вот эту тишь и холод.
И я остался. Как обычный нищий,
Сидел я в дальнем сумрачном углу.
На плитах постелив пальто, а шапку
Перед собою положив открыто.
Я был здесь не один. Нас много
Ютилось вдоль гранитных темных стен,
Так далеко от центра гулкой залы,
Что еле-еле достигал нас мягкий
Незыблемый свет Вечного огня.
Стоял прозрачный шепот. Были здесь
И одноногие, как я, и вовсе
Безногие, безрукие, слепцы,
Глухонемые даже. Кое-кто
Картонные модели мавзолея
И Ленина портреты продавал.
Другие предлагали предсказанья
О будущем, гадали по теням
(Старухи были, что в деталях мелких
Судьбу по форме тени излагали),
Еще гадали по руке, на спичках,
На картах, на ногтях. А третьи
Благословляли тех, кто в брак вступал
И крестики давали от раздоров.
Болезни кое-кто умел снимать.
Но за большие деньги. Остальные --
Их было большинство -- сидели молча.
Монеты звякали, поток людей струился,
И я не голодал, и в кепке
На вытертой подкладке находил
Вполне достаточно -- мне на еду хватало,
А более ни в чем я не нуждался.
Из мавзолея на ночь выгоняли.
Я летом ночевал на лавке где-то,
Потом устроился в гостинице "Москва"
В испорченном спать лифте. Но недолго
Я пользовался эдаким комфортом:
Лифт починили, и пришлось идти
В ночлежный дом Кропоткина. На нарах
Средь сброда грязного я кротко засыпал,
И сны были спокойны и бездонны,
Как горная вода с блестящим солнцем.
Играющим в ее холодном плеске...
Во сне украли у меня протез.
Какие-то подонки отвинтили,
Он иностранный был, понравился им, видно.
А заменить пришлось обычной деревяшкой,
Ходить стало труднее, но зато
Побольше денег мне перепадало.
Так шел за годом год.
Я страшно похудел, зато теперь
Опять в ладонях начал ощущать я
Волшебный тот и невесомый жар.
Какой давным-давно, в полузабытом детстве,
Мне Ленин подарил своим рукопожатьем.
Я снова руки возлагал отныне
(На головы детей по большей части),
Успешно исцелял порой -- снимал
Одним прикосновением болезни.
И будущее видеть стал. Да, сильно
Я изменился. Где былая тучность?
Румянец бодрый где? Блеск взора?
Я стал лысеть, морщинами покрылся,
С висков свисали трепетные пряди
Свалявшихся, седеющих волос.
Все плечи были перхотью покрыты,
Носок совсем истлел, и тело пахло
Болотной, застоявшейся водой.
И не узнать почти. Однажды, помню,
Один мой бывший друг меня увидел.
Сидел я в мавзолее, как обычно,
Он с пятилетним внуком проходил.
Вдруг оглянулся: "Ты? Не может быть!
Неужто Понизов?" Но, приглядевшись,
Забормотал смущенно: "Извините...
Ошибка, кажется..." Я только улыбнулся
Блаженною, беззубою улыбкой
И руку чуть дрожащую, сухую
На голову ребенку возложил.
"Он станет математиком. В двенадцать
Годков уже он будет
Производить сложнейшие расчеты,
Учителей угрюмых поражая.
Три раза будет он женат, и с первой
Довольно быстро разведется. Да.
Вторая же сойдет с ума и выльет
В себя смертьприносящее лекарство.
А с третьей будет трех детей иметь:
Сережу, Лену, Бореньку меньшого.
Тот Боренька меньшой великим станет
И государством этим будет править.
Но вот беда -- как только он родится,
Твой внук случайной смертью умереть
Обязан будет. Пятьдесят два года
Ему как раз исполнится тогда.
Ну, не печалься -- хоть не доживет
До старости, но все же жизнь увидит.
Но чтоб не умереть ему до срока,
По пустяку чтоб жизнь не прособачить,
Пускай запомнит несколько советов:
Не приближайся, Валентин, к стеклянным
Цветочным вазам в нежный час заката,
Увидишь мышку белую -- возьми
Кусочек хлеба и зарой в землицу.
Когда сырой осеннею порою
Пойдешь в лес за грибами -- мой совет --
Не надевай одежды темно-синей.
Когда в пруду ты плаваешь, подумай
О Боге. Прежде чем заняться
Обычным делом, иечисленьем формул,
Произнеси короткую молитву.
Ну вот и все, пожалуй".
Да, годы шли. И вот настал великий
Двухтысячный -- о многостранный год!
Приблизился он мерною походкой
По лунным площадям Европы сонной,
Он космосом дышал, средневековьем,
Одновременно погребом и небом,
Текла в нем кровь эпох давно ушедших,
Закравшихся в глубинные ячейки,
В подземные насмешливые норы.
Он трогателен был, дрожал, но, молча,
Словно ребенок, словно сумасшедший,
За струны ржавые, играя, дергал больно.
Гудело все. Торжественный приход
Толпа знамени гулко возвещала.
Так перед великаном вьются тучи
Встревоженных, орущих, диких птиц,
Сорвавшихся с деревьев сокрушенных
И вмятых в землю буйными ступнями.
Так перед мертвецом, идущим садом,
В цветенье ночи медленно кружатся,
Фосфоресцируя, слепые мотыльки.
Так рыбки бледные эскортом терпеливым
Утопленника тело предваряют...
Да что уж там! Довольно много можно
Сравнений разных подобрать, но разве
Все это передаст тот трепет? Помню
Предновогодний праздничный парад
На Красной площади. Как низко, низко
Висел дрожащий свод ночных небес!
В то время было множество комет,
Какой уж там Галлей! Игрушки, бредни!
Комета Резерфорда приближалась
И яростною розовою точкой
Висела над Кремлем в сверканье жутком.
Кометы Горна, Бреххера, Савойли,
Марцковского, Ньютона, Парацельса,
Романиса, Парчова, Эдвингтона,
Суворова, Брентано, Филиппике,
Комета Рейгана, Комета Трех Огней,
Собачья Лапка (так одну назвали),
Метеорит Борнлая, Свист Зевеса,
"Зеленая Горгона", "Змейка ночи",
Два "падающих камня" Лор-Андвана,
"Летящая Изольда", "Страх и трепет",
"Ядро Валгаллы", "Вечный Агасфер",
"Рубин Кремля" (его впервые наши
Увидели и потому назвали),
Кимновича кометы, Олленштейна,
Гасокэ, Брейна, Штаттеля, Бергсона,
Манейраса, Кованды, Эдельвейса
И прочие. На небесах, как шрамы
От беспощадных яростных плетей,
Висели звездные хвосты, сплетаясь.
Сплетались и мерцали. А внизу
Гремела музыка военного оркестра,
Вздыхали трубы, золотом сверкали
Литавры громоносные, и мимо
В военном топоте текли полки солдат.
Толпа рукоплескала. Маршал дальний
В автомобиле белом объезжал
Ряды вооруженные. Вздымался
Приветствий гулкий ком над головами.
Потом рыбоподобные ракеты,
Сияя серебристыми боками,
На колесницах тяжких проплывали.
Последние ракеты! В этот год
Оружие везде уничтожалось.
На съезде в Копенгагене решили
Подвергнуть ликвидации жестокой
Опасные запасы механизмов,
Различных бомб, ракет, боеголовок,
Головок боевых, железных, юных --
Везде крушили их, а сколько
В них было кропотливого труда!
В них вложено старанья, пота, мысли!
Рабочие их руки мастерили,
И сделаны на славу. Хороши!
Приятно поглядеть. Гармония какая!
(Во всем, что связано с загадочною смертью,
Какая-то гармония мерцает.)
Последнюю огромную ракету
На площади оставили, чтоб люди
Могли собственноручно растерзать
Могучего врага их хрупкой жизни.
И хлынула толпа! Оркестр взыграл, ликуя.
В вакхическом экстазе захлестнуло
Людское море сумрачную рыбку.
Обшивку рвали, дико заблестели
Из глубины скоплений топоры,
От воплей ярости, от смеха ликованья
Весь воздух стал как битое стекло,
Удары потрясали мостовую.
Гигантские бумажные гвоздики
Пылали с треском. Сверху, с мавзолея,
Из-под руки на этот дикий праздник
Правители смотрели неподвижно.
И падал снег. Вдруг радостные вопли
Взорвались бешено -- ракета поддалась,
Обрушилось там что-то, и открылось
Слепое, беззащитное нутро...
Все было на куски растерзано. Валялись
Повсюду клочья мятого металла,
Все ликовали. Только мне вот стало
Немного грустно. "В этом есть утрата, --
Подумалось мне. -- Что-то потеряли
Отныне мы. Ведь раньше в нашей жизни
Какая-то торжественность была.
Как в доме, где лежит в одной из комнат
Мертвец в гробу. Там все нежней и тише.
На цыпочках там ходят и едят,
О высшем думая. Клянусь, еда вкуснее
И ветер слаще из окна, когда
Мы чувствуем, что смертны. Или вот,
Представьте пароход, плывущий в море,
Когда всем пассажирам объявили,
Что может все взорваться. Каждый
Почувствует тогда в какой-то мере,
Что заново родился. Новым взглядом,
Любвеобильным, детским, чуть туманным,
Посмотрит он на блещущие волны,
Слизнет морской осадок с губ соленых,
Почувствует, как собственное тело
Живет и дышит. Как в зеленой бездне
Под ним колышутся слепые толщи вод,
Как там, в пучине, в бесконечном мраке
Пульсируют задумчивые гады.
Услышит дольней лозы прозябанье
И прорицать начнет. И будет
За табльдотом исповеди слушать.
А между тем уж полночь приближалась.
На площади везде костры горели,
А у Манежа возвели огромный
Из снега город. Ждали фейерверков.
И взгляд нетерпеливый обращали
К курантам Спасской башни. Новый год,
Тысячелетье новое сейчас
Вот наступить должно. Я в мавзолей спустился.
(По праздникам его не закрывали.)
Здесь было как всегда -- торжественно и тихо,
Все так же еле слышный марш звучал.
Я бросил взгляд на гроб -- его лицо хранило
Исчезнувшей улыбки отпечаток.
Казалось, что вот-вот он улыбнется
И мне кивнет. Мне стало почему-то
Как будто страшно. Я прошел к себе,
В свой полутемный угол. Здесь собрались
Уже гурьбой соратники мои,
И кто-то разливал шампанское в стаканы.
Раздался звон курантов. Поднялись
Шипящие, наполненные чаши,
Но вдруг одна старуха прошептала:
"Качается! Смотрите, закачался!"
Ее застывшие зрачки нам указали
На гроб. Все обернулись. Точно
Стеклянный гроб как будто чуть качался,
И слышался прозрачный тонкий скрип
От золотых цепей. В оцепененье
Мы все смотрели на него, не зная
Что делать нам, что думать, что сказать, --
Сюда ни ветерка не проникало,
И гроб всегда был раньше неподвижен.
Внезапно чей-то крик, осипший, жуткий,
Прорезался сквозь тишь: "Рука! Рука!"
Осколки брызнули разбитого стакана,
И судорога ужаса прошла
По изумленной коже -- руки трупа,
Что были раньше сложены спокойно,
Слегка пошевелились, и одна
Бессильно, как у спящего, скользнула
И вытянулась вдоль немого тела.
И в следующий миг все бросились внезапно.
Как одержимые, все к выходу стремились,
Один полз на руках, другой висел на шее
У быстрого соседа, третий ловко
На костылях скакал с проворством гнома.
Молниеносно древние старухи,
Охваченные трепетом, неслись.
Служители, охрана -- все исчезло.
Я тоже побежал и на ступенях,
Последним покидая подземелье,
Я звон стекла разбитого услышал!
О, этот звон! Его я не забуду!
Он до сих пор стоит в моих ушах!
Но я не оглянулся. Пред гробницей
Я поскользнулся и упал. Над нами,
Над стенами Кремля взлетали стрелы,
Рассыпчатые полчища огней,
Безумные гигантские букеты
Сверкали розоватыми шипами.
Зеленых точек дикое сиянье,
Лиловые роящиеся тучи
И красные шары попеременно
Над зубчатыми башнями вставали!
Салют гремел. И вдруг всеобщий вздох
По площади пронесся. Часовых
Как будто подстрелили -- с тихим стуком,
Звеня штыками, ружья отвалились
От этих цепенеющих фигур.
Затем раздались немощные крики,
Один упал, фуражка покатилась,
Другой, закрыв лицо руками,
Куда-то бросился, и в синеватой хвое
Ближайшей елки судорожно бился.
И вот, из глубины, нетвердою походкой,
Как бы окутанный еще неясным сном,
Прикрыв глаза, отвыкшие от света,
Слегка дрожащей белою ладонью,
Из мавзолея тихо вышел Ленин.
Салют угас. Толпа, как гроб, молчала.
Лишь снег белел, прожекторы светились,
Бесстрастным бледным светом заливая
Знакомую до ужаса фигуру.
Он что-то бормотал. И этот вялый шепот,
Нечеткий отсвет полупробужденья,
Сильнейший репродуктор разносил
По площади затихшей. "Надя, Надя!..
Как в Горках нынче вечером темно...
Пусть Феликс окна распахнет. Так душно!
Гроза, наверно, будет... Как гардины
Тревожно бьются.., Видишь, видишь,
Зарница промелькнула. Я хочу
Сказать вам всем... Ты, Феликс, подойди.
Пусть Киров сядет там вот. A, Coco,
Ты отойди к дверям. Меня сейчас смущает
Твой взгляд восточный -- нежно-плотоядный
И сочный, как кавказская черешня...
Так вот, друзья, от вас я ухожу,
Но знайте, что не навсегда... Понятно?
Не навсегда... Еще вернусь к вам, дети...
И вот завет мой -- тело от гниенья
Мое избавьте, не кладите в землю,
Пускай лежу в фобу стеклянном и прозрачном,
Чтобы, когда проснусь, одним движеньем
Разбить покровы смерти... А, фоза...
Уже фемит! Пора мне... Я в стеклянном
Хочу лежать... и не касаться почвы...
Запомните... товарищи... прощайте...
Мы победили... Боже мой... какое
Сверкание... и жалость... я приду...
Приду еще..." В толпе раздались крики
И всхлипыванье женщин. Нарастало
Подспудное и фозное смятенье.
Вдруг все прорвалось! Дальше я уже
Не помню ничего. Как жив остался,
Я до сих пор не знаю. В этот вечер
На Красной площади немало полегло.
Очнулся я в больнице. Надо мною
Склонялось длинное лицо врача. "Нормально!
Увечий нет. Слегка помяли ногу,
А в остальном -- царапины! Мы скоро
Вас выпишем отсюда". Я привстал
И сразу вздрогнул от сверлящей боли
В ноге. Я посмотрел туда
И замер. Предо мной моя нога лежала --
Отрезанная Марковым, она!
Потерянная, бедная... О чудо!
Она была опять, опять со мной.
Слегка лишь изувеченная в давке,
Но все-таки живая! Ощущал я
Ее как часть себя. Я чувствовал в ней радость
И теплоту несущейся по жилам
Быстротекущей крови. Даже боль
В ее измятых пальцах я встречал
Приветствиями буйного восторга!
Вернул! Он мне вернул ее!
Он обещал, он сделал. Словно счастье,
Как будто молодость он мне отдал обратно,
Он жизнь мне спас, он возвратил мне силы,
Средь холода и мрака мне помог!
Я снова жил, я всасывал ноздрями,
Я хохотал, я пел, дышал и плакал,
И чувствовал, как жабрами, биенье
Великой жизни.
Рассказ мой кончился. Костер давно погас,
И только угли сумрачно мерцали,
Бросая легкий и несмелый отблеск
На темнотой окутанные лица.
Как зачарованные, мне они внимали,
Почти не шевелясь. Лишь вздох глубокий
Из губ раскрытых доносился: "Во, бля!..
Какая штука!.." И они качали
Задумчиво и тихо головами.
Настало долгое молчанье. Наконец
Сергей откашлялся: "Скажи-ка, брат, а где же
Теперь Ильич? Его ты видел
Потом еще?" "Нет, больше никогда
Его я не видал. Ведь я Москву покинул
И вот теперь хожу землей родною.
А Ленин где находится, никто
Сейчас не знает точно. Говорят,
Что с площади тогда исчез он быстро.
Газеты ничего не сообщили.
На Западе шумиха поднялась,
Пустили слух, что будто бы его
В Левадии насильно заточили
И под охраной держат, чтоб избегнуть
Всеобщего народного волненья.
Другие говорят, что он в подполье,
И скоро революция начнется.
Да, слухами все полнится. Толкуют:
Скитается российскими полями.
Недавно слышал от одной старухи,
Живущей на окраине Калуги,
Как ночью постучал в окно ей кто-то.
Она приблизилась и видит: Ленин.
Стоит и смотрит. Думаю, что правда".
Андрюха почему-то оглянулся:
Из тьмы на нас дрожащий плыл туман,
Шуршали травы. Гул какой-то тайный
Стоял в ночи невидимым столпом.
И вдруг шаги послышались. Я встал.
Пальто раскрылось. Красноватый свет
От тлеющих углей упал на древний
Большой железный крест, висящий на груди.
Я, руку приложив к глазам, во тьму вгляделся.
Маячил кто-то. Черный и большой
Стоял за стогом. Тихий смех внезапно
Послышался оттуда и затих.
"Мужик смеялся", -- вздрогнув, молвил Федор.
"Мертвец смеялся", -- тихо произнес я.
"Наверно, Иванов, наш агроном, здесь бродит.
Покоя нет, и все ему смешно..." --
Степан вздохнул. Мы снова помолчали.
"Пока, ребята. Мне пора в дорогу.
Рассвет уж скоро". -- Я взмахнул рукою
И в ночь ушел.
На следующий день, после уроков, мы собрались на занятие нашего
литературного кружка. Просторную классную комнату заливал солнечный свет.
Семен Фадеевич, без пиджака, в одном вязаном пуловере серо-зеленого
пластилинового цвета, сидел за учительским столом, низко склонив голову и
водя карандашом по бумаге. Мы, члены кружка, неторопливо рассаживались по
партам. Митя Зеркальцев вынул из портфеля маленький, аккуратно
поблескивающий, ярко-красный японский магнитофон. Мы снова внимательно
прослушали поэму. Потом завязалась дискуссия. Первым, с небольшим
импровизированным рефератом, выступил Боря Смуглов.
-- Мне кажется, -- начал он, -- что основную проблему, поставленную в
поэме Понизова, можно было бы сформулировать как проблему времени или,
точнее, проблему зазора между эмпирически проживаемым временем и
эсхатологическим временем конца времен. Нет сомнения в том, что поэма
"Видевший Ленина" есть вклад в эсхатологическую литературу. Вся динамика
этой поэмы -- это динамика сталкивающихся потоков времени, причем эти потоки
описываются то в виде пространств, то в виде фигур, возникающих в этих
пространствах. Укажу хотя бы на один пример -- Двухтысячный год. Этот
персонаж появляется как бы внутри облака, сотканного из метафор. Одна
большая Фигура движется в сопровождении толпы микрофигур. Так изображается
отношение между эсхатологическим сроком (2000 год) и предшествующими ему
знамениями. Великан -- птицы. Мертвец -- бабочки. Утопленник -- рыбки. Автор
как бы перебивает себя самого в подборе этих пар -- "Чего уж там! Довольно
много можно сравнений разных подобрать, но разве все это передаст тот
трепет?" Действительно, "трепет" возникает не от нагромождения сравнений, а
в результате странного "положения во времени", в котором оказывается
читатель. Для героя поэмы -- Понизова -- все, о чем он рассказывает, --
прошлое. Но для нас с вами прошлое начинает исчезать по мере чтения текста,
и уже до появления двухтысячного года настает описание будущего. Однако мы
знаем, что герой -- прорицатель. Тем самым мы видим прорицание о будущем в
форме рассказа о прошлом. Возникает образ, двоящийся и троящийся во времени.
-- Мне кажется, что ты недооцениваешь интонационные особенности текста,
Борис, -- поднялся с места Саша Мерзляев. -- То, о чем ты говоришь (рассказ
о будущем в форме рассказа о прошлом), распространенный прием -- взять хотя
бы научно-фантастическую литературу. Дело тут не в этом. Как вы считаете,
Семен Фадеевич?
-- Да, по-моему, ты, Боря, слишком увлекся своей интерпретацией. Хотя
ты сказал много дельного. Саша Мерзляев заговорил, горячо жестикулируя левой
рукой. -- Борис верно заметил энергетическую пульсацию двух смысловых полей
-- исторического и эсхатологического. Однако он оставил без внима-\ния
промежуточную сферу -- сферу психики. Без учета этой промежуточной,
посреднической сферы невозможно правильно понять смысл сюжетных ходов
рассказа. Поэма называется "Видевший Ленина" -- само название указывает на
то, что встречи с Лениным являются кульминационными точками рассказа, не
говоря уж о том, что каждая из них сопровождается интонационным взрывом.
Этих точек, когда герой "видит" Ленина, -- три. Первая -- в лесу, вторая --
во мне, когда герою отрезают ногу, происходящая в избушке бабушки, третья --
на Красной площади, после воскресения Ленина. Я не считаю тот период, когда
герой находился у гроба Ленина в мавзолее. В этот период он видел не самого
Ленина, а только его тело. Рассмотрев "три встречи" (кстати, напрашивается
аналогия с поэмой Вл. Соловьева "Три свидания", где говорится о трех
явлениях Софии, Божественной премудрости), мы увидим, что одна из них имеет
место в прошлом, в истории, другая -- во сне, то есть в области
психического, и наконец третья -- в будущем, в области эсхатологии. Если
учесть, что история определяется в тексте как мифология, а эсхатология --
как пророчество (т. е. тоже мифология), то мы имеем традиционную схему
практики прорицателей. Эта практика имеет свой извод в мифе, она
инспирируется сном, в котором дается откровение и совершается "договор", как
это и происходит в поэме, и затем осуществляется в форме пророчества.
-- Да, все, что сказал Мерзляев, достаточно точно, -- кивнул Борис. --
Однако остается открытым вопрос о суггестии. Где, в каких уголках
срабатывают механизмы суггестии? Я предложил вам решение этого вопроса в
своем рассуждении о времени. Суггестия, эффект возникают там, где положение
потребителя литературы (читателя) становится проблематичным. В данном
случае, как я полагал, ставится под вопрос его "нормальное" существование во
времени. Реципиент затягивается в зазор, в провал "иновремени",
"не-времени". "Время слов" хочет убивать и воскрешать вопреки "Времени
молчания", в котором нет смертей и рождений.
-- Нет, Боря, ты не прав! -- воскликнула Вера Шумейко. -- Точнее, ты
ставишь проблему некорректно. Что такое время? Какая дисциплина ведает
изучением времени? Физика. А что такое физика? Это опосредование
неопосредованного. Физика это риторика без тавтологий. А что такое
литературное произведение? Психология. То есть опосредование
опосредованного. Язык, литературный язык это просто любовь --
тавтологическая любовь к любви, филофилия. Поэтика Понизова построена на
колебании между состояниями истерии и эйфории. Между осязательной
тактильностью отвращения и аудио-визуальной реальностью восхищения.
Этимология слова "восхищение" связано со словом хищение: хищать, похищать.
Восхитить означает "украсть вверх". Восхищенный -- это украденный богами,
украденный небом. Между этими двумя состояниями простирается тоненькая
тропинка "нормальности", на которой и развивается сюжет, однако все
энергоресурсы его развития находятся в экстатических зонах "любовной любви",
в вечнозеленых недрах коллапса. Можно было бы начертить график поэмы. Мы
увидели бы колебания разной степени интенсивности. Так, поэма начинается
нисхождением, довольно плавным, с определенной возвышенности. Мы опускаемся
к уборной, где происходит резкий и краткий скачок вверх при упоминании
космоса. Уборная -- локус "нижнего" мира, клоаки, мира испражнений,
смыкающаяся по своему значению с кладбищем, недаром испражнения соотносятся
в метафорическом ряду с "трупиками" (как испражнения, как трупики "сырые").
Однако именно с этого самого нижнего уровня, характеризующегося словами
"разложение, прение, выгребная яма, могила", и происходит легкое и быстрое
воспарение к верхним пределам. Иначе говоря, истерия в своей крайней форме
переходит в эйфорию. Истерия характеризуется ощущением тесноты, мелкого
копошения и тьмы. Эйфория -- состоянием полета, возможности обозревать как
бы из космоса огромные пространства, присутствием света. Для эйфории
характерна также ступенчатость, иерархичность, ведь она и зафиксирована
догматическими представлениями о небесных иерархиях. Мы можем выделить
уровни "восхищения". Первый уровень -- национальный. Его объект -- Россия.
Ведь разлагаясь, прея, там, внизу, Все испражнения в Россию переходят!
Начинается воспарение над Россией. Следующий уровень...
-- Мне кажется, что твой любимый структурализм, Веруня, доживает
последние дни, -- вмешался комсорг Леша Волков.
-- Ну, знаешь ли! Можно сомневаться в существовании Бога, можно
сомневаться в существовании материи, можно сомневаться в существовании
коллективного бессознательного, но нельзя ставить под сомнение функцию кода
и существование языка! -- вспыхнула Вера.
-- Можно, -- усмехнулся Леша. -- Еще как можно. И язык может быть
фикцией. Я думаю, об этом и написана эта поэма. Она, как и вся современная
литература, является частью процесса десакрализации языка с целью его
преодоления. Этот процесс в русской литературе начат еще Мандельштамом. "Я
слово позабыл, что я хотел сказать..." "Останься пеной, Афродита, и слово в
музыку вернись..." Вопрос в том, что находится "за языком", потому что языка
скоро не будет. Можно сказать: за языком ничего не находится, за языком,
напротив, все теряется. Но это всего лишь игра слов. "За языком" может
находиться Неожиданность, то есть сакральное. Напомню, что все, что
непосредственно относится к Бытию, есть Неожиданность. Пока язык не
преодолен, можно только наблюдать за его кристаллизацией в качестве
испражнения. В этом смысле уборная действительно важный локус.
-- Все сходятся на уборной, -- рассмеялась Иветта Шварцман. -- Во
всяком случае, уборная точно относится к бытию непосредственно, поскольку
является местом осуществления примарных анальных функций.
-- Согласен, -- кивнул Леша. -- Уборная как часть Дома закреплена "за
языком", в бытии. Каждая часть Дома имеет трансцендентный извод -- кухня,
например. Поэтому так волнует историческая судьба уборной, ее приближение к
Дому. Ведь раньше отхожее место было вне сакрального круга, оно было тенью
языка -- причем дикой, пожирающей тенью. -- А что, если за языком -- Ничто?
-- спросил серьезно Сергей Рыков. -- Не есть ли тогда наш прямой долг --
бросить все силы на консервацию языка? Ведь язык, по словам Хайдеггера, это
лоно культуры, то есть источник всего охранного, источник того, что
прикрывает нас от палящих лучей запредельного -- будь то Ничто или Нечто.
Философы утверждают: Ничто нет, оно уничтожает себя. Оно "ничто-жествует",
по словам Хайдеггера. Это было бы слишком просто. -- Сергей угрюмо покачал
головой. -- Находясь в смешанном состоянии, располагаясь в виде "дыр", Ничто
в своем роде действительно "есть" уже только потому, что определяет "края",
"контуры" границ сущего. Мне думается, что если мы имеем дело, например, с
поступком, то он может состоять в отношении к Ничто, если в том месте, где
располагается мотив, мотивация, ничего нет -- там дыра, зияние. А разве мы
не знаем поступков, не имеющих мотивации? Такие поступки, вспучивающиеся как
пузыри пустоты, описаны и в поэме Понизова. Например, убийство агронома
Иванова, совершенное председателем Макарычем. Этот поступок не имеет
адекватной мотивации, он иррационален и чудовищно пахнет Ничто. Саша
Мерзляев дружески хлопнул Сергея по плечу:
-- К счастью для нас, Серый, не существует поступков без мотивации.
Никакой Хайдеггер не проковыряет дыры в этой бетонной стене. Все
мотивировано. Мотив может быть скрыт от всех действующих лиц, но он всегда
есть. И где он, как ты думаешь, коренится? Конечно, в коллективном
бессознательном! Надоело? А ничего не поделаешь, старик. Юнг вечно молод. На
то он и Юнг. На то он и "Темный Патрик". Возьмем убийство агронома.
Присмотримся к нему поподробнее, и мотивы содеянного станут более или менее
ясны в историческом срезе. Итак, ситуация такая: агроном приходит к
председателю и говорит, дословно:
Макарыч, посмотри, совсем, бля, почва
Здесь обессолена. Я -- пас, Макарыч, ты
Теперь решай, как быть.
Далее следует неадекватная ярость председателя и его крик: "Да, я тебе
Решу... решу сейчас!", после чего он убивает агронома топором. Берем ту же
ситуацию в примитивной культуре (а примитивная культура постоянно актуальна
на нижних уровнях нашего бессознательного) -- агроном является заместителем
жреца земледельческого культа, шамана, заботящегося об урожае, о
плодоносности земли. Председатель -- вождь племени. Если жрец приходил к
племени и сообщал, что грядет неурожай, то от него требовалось отвратить это
несчастье. Если же становилось известно, что жрец -- "пас", что исчезла его
магическая сила, что от него отступились помогающие ему духи, то он сам
приносился в жертву. В этом смысле и надо понимать слова "теперь решай, как
быть" и ответ "Я решу... решу сейчас". Председатель действительно решает и
разрешает эту ситуацию. Если почва "обессолена", то есть исчезла ее
волшебная способность плодоносить, то надо искать способы "засолить" ее.
Председатель "засоляет", "солит" землю кровью жреца. Поэтому подчеркнута
живительная сила этой
крови: "...с мощью страшной на всех нас брызнула дымящаяся кровь..."
Эта "мощь" и должна возродить плодоносность земли. Так что, как видишь, этот
поступок не так уж не мотивирован. Наоборот, если следовать архаическим
моделям, и агроном, и председатель поступили так, как должны были поступить.
Этот мотив жертвы и жреца введен в поэму как предшествующий основному мотиву
-- жертвоприношению ноги и посвящению героя в жрецы, шаманы
-- Саша сказал совершенно верно, -- кивнул Гена Шмелев. -- Кроме того,
у этой ситуации может быть еще одно символическое толкование: в качестве
притчи об отношении интеллигенции и власти. Агроном в деревне --
олицетворение интеллигенции, а председатель -- олицетворение власти. Если
принять русскую деревню как символ России, то мы имеем следующую схему:
интеллигенция приходит к власти и говорит, что "почва обессолена", то есть
исчезла "соль земли", "главное", "дух" -- в общем, то, чем живет народ.
Интеллигенция требует, чтобы власть решила эту проблему, и власть решает ее,
принося в жертву саму интеллигенцию и окропляя народ ее кровью ("на всех нас
брызнула дымящаяся кровь"), как бы возвращая "соль" и "дух", повязывая всех
круговой порукой духовности.
-- Метко подмечено, -- кивнул Семен Фадеевич.
В классе тем временем сгустились сумерки.
-- Мне кажется, все же главным действующим лицом поэмы является не
Ленин и не Понизов, и не нога Понизова, и не его целительные руки, -- снова
заговорил Боря Смуглов после некоторой паузы. В пальцах он задумчиво
разминал комочек жевательной резинки. -- Главный герой все-таки Двухтысячный
год. Нам здесь всем, кроме, конечно, Семена Фадеевича, по шестнадцать с
половиной лет. Еще через шестнадцать с половиной лет он наступит --
Двухтысячный. Он застанет нас в роковом для христиан возрасте--в возрасте
тридцати трех лет.
У Времен, у Сроков есть свои лица и свои тела. Мы -- лишь органы этих
тел времени. -- Тебе, кажется, удалось подвести черту в нашем разговоре.
Молодец, Боря. -- Семен Фадеевич неторопливо протирал очки. Затем он надел
их и посмотрел в глубину классной комнаты. Там, за последней партой, сидел
Коля Веслов.
-- А ты, Коля, что молчишь? Каково твое мнение? -- спросил учитель.
Широкоплечий, угловатый Коля усмехнулся и что-то невнятно пробормотал.
-- Что? -- переспросил Семен Фадеевич.
Коля заелозил за партой, снова усмехнулся:
-- А че говорить? -- сказал он громко. -- Делать надо. А то... Сделать
надо что-то...
-- Что же, ты полагаешь, надо сделать?
Коля потер ладонью сросшиеся на переносице брови. Пожал плечами.
Ухмылка сползла с его лица. И лицо его вдруг стало суровым и замкнутым.
1986
Каша с медом,
лед с медом, холодец
(вместо примечания к "Еде")
Мы -- народ изгнанников. Когда-то мы владели землей, которую нам
издревле обещал Господь, -- самой огромной страной, которая существует на
Земле. Мы были хозяевами пустых незаселенных областей, граничащих с вечными
льдами, пустынями, горными цепями и океанами. Нас изгнали и рассеяли по
миру, однако мы сохранили свою веру и священный язык. Широта сердца и
скорость мысли помогли детям нашего народа занять во всех странах достойное
положение,повсеместно прилагая руку к процветанию тех краев, которые оказали
нам гостеприимство. На Родине нашей даже память о нас под запретом, храмы
наши разрушены, язык позабыт. Но мы построили новые храмы по всей земле -- в
каждом иноземном городе сверкают их золотые купола, изнутри же они наполнены
благолепием и благоуханием. Наша религия стала религией изгнанников -- это
вера, называемая словом "ортодоксия", что означает "правильный способ
возносить хвалу". Это способ прямо одобрить все, исходящее от Господа, --
для такого прославления требуется от нас воинская отвага, гибкость умов,
искушенных книгами, и детская простота.
Анальгезиус
Где-то на белом свете,
Там, где всегда мороз,
Трутся об ось медведи,
О земную ось.
Мимо бегут столетья,
Спят подо льдом моря,
Трутся об ось медведи -
Вертится земля.
Песня
Услышать ось земную, ось земную...
О. Мандельштам (Ося)
Моя Марусечка, а жить так хочется!
Лещенко
Ни знакомства с историей или поэзией, ни простой заботы о хорошем слоге
он не обнаруживал никогда... однако речь его не лишена была изящества, и
некоторые его замечания даже запомнились. Чью-то голову, где росли
вперемежку волосы седые и рыжие, он назвал: снег с медом. Гай Светоний
Транквилл.
"Жизнь двенадцати цезарей "(Домициан)
Литературу (так же, как жизнь, так же, как и другие искусства, так же,
как все, располагающееся между кодом и иллюзорностью) часто сравнивают со
сном. Не то чтобы такие сравнения принадлежали к области хорошего вкуса, но
они неизбежны, как неизбежна усталость. В сновидениях, как известно, мы
сталкиваемся с некоторыми границами, которые удается пересечь лишь изредка.
Одна из таких "естественных" границ -- еда. Достаточно часто приходится
видеть во сне еду, но лишь изредка удается попробовать ее. Стоит несколько
дней посидеть на строгой диете, как сновидения приобретают гастрономический
оттенок. Часто имеешь дело с меню, с ассортиментом, с выбором. Однако поесть
во сне почти никогда не удается -- или что-то отвлекает внутри сна, или же
попытка поесть пресекается пробуждением. Это контрастирует с исполнимостью в
сновидениях других желаний -- например, сексуальных. Во сне можно пережить
ощущения полноценного соития, и это вполне даже может закончиться оргазмом.
В сновидении также можно курить, испытывать эффекты алкогольного опьянения и
даже наркотические. Я уж не говорю о таких физиологических актах, как
дефекация и мочеиспускание. Все эти переживания, все эти физиологические
акты сновидение воспроизводит, а обычное поедание пищи -- весьма неохотно.
Эта граница изобразительных возможностей сновидения связана, надо полагать,
с теми "кошмарными" реалиями, которые описываются физикой с помощью
категорий веса, объема, массы и т. д. Еда, проще говоря, слишком тяжела.
Эфемерные духи, фабрикующие сновидения, не в силах переносить с места на
место эти "съедобные тяжести".
Подобным образом дело обстоит и с литературой. Эротические или
порнографические повествования (а иногда и вполне невинные) могут незаметно
довести читателя до оргазма.
Скучный или монотонный текст может усыпить, от него может разболеться
голова. Повествование может заставить расплакаться, рассмеяться, выблевать.
Литература способна соучаствовать в более или менее завершенных
физиологических актах, однако накормить она не в силах. Физический вес
текста является скорее минусом, нежели плюсом, прилагаемым к физическому
весу тела.
Невозможность поесть во сне элегантно описана Кэроллом в "Алисе в
Зазеркалье". Еду (Бараний Бок, Пудинг) только представляют Алисе, их
"знакомят" друг с другом. Алиса, будучи голодна, каждый раз пытается съесть
кусочек "нового знакомого", однако это вызывает бурю негодования и протеста.
Воспитанные люди не отрезают куски от своих знакомых. Еду уносят по приказу
Королевы.
"Унесите Бараний Бок! Унесите Пудинг!" По этому принципу "представления
еде" построены тексты, относящиеся к роману "Еда". Молоко нельзя выпить,
потому что оно чересчур изначально, слишком физиологично, а следовательно,
тошнотворно. Оно (в зависимости от дозы и степени нагрева) может быть или
средством омоложения, или средством казни. Но оно -- не еда. Оно -- один из
секретов тела.
Яйцо нельзя съесть, потому что это фетиш. Оно несъедобно, так как его
преследует слишком громоздкая толпа смыслов, от которых оно вынуждено
"укатываться". "Горячее" нельзя съесть, потому что оно "слишком горячее" --
невозможно разобрать, за паром, за "дымовой завесой", что это вообще
такое...
Супы невозможно съесть, потому что они -- "гадость", как говорят дети.
Ватрушечку нельзя съесть, потому что она -- здание, в котором
размещается "туннель ужасов". Кекс несъедобен, потому что это имитация
кекса, сделанная из земли. Нельзя же съесть скифский курган.
О "бублик" вообще можно сломать зубы, потому что он только
"представляет" себя бубликом, на самом деле же это кусок стальной трубы.
Нечто вроде абстиненции. Наконец, колобок нельзя съесть, потому что сущность
его -- бег, ускользание. К тому же он в конечном счете состоит из говна. Его
уже проглотил кто-то другой. Из этого "меню" съеденными оказываются только
грибы, так как они в данном случае не еда, а яд и наркотик. Итак, еду вроде
бы невозможно съесть во сне, за исключением ситуаций экстремальных.
Сновидение или текст не воспроизводят ординарного поглощения, связанного с
насыщением. Они не заполняют. Они, напротив, воспроизводят пустоту,
отсутствие. В этом их терапевтический эффект -- эффект облегчения. Однако
интоксикация дает сновидению и тексту возможность преодолеть собственные
"естественные границы".
Сновидение может изобразить поедание супа в том случае, если (по сюжету
данного сновидения) суп отравлен. Подобным образом обстоит дело и с
литературой: она не в силах элементарно накормить, однако в силах отравить
или же принести облегчение, обезболить -- она располагает ассортиментом
психофармакологических эффектов: от транквилизирующих до психоделических.
Еда, ее вкус, ее тяжесть -- они протискиваются в повествование или в
сон из глубин собственного отсутствия, из глубин собственной ирреальности,
протискиваются вслед за ядом или наркотиком, вслед за лекарством, чтобы
придать тексту или сну вес -- негативный вес, минус-вес, который обычно
используется для полета. Эти "пустотные яства" -- условия левитации,
инструменты воспарения.
Однако дело не ограничивается воспроизведением психофармакологических
эффектов интоксикоза. Любая экстремальность делает еду изображаемой. Сошлюсь
на два сновидения о поедании человеческих трупов.
В детстве, в возрасте 9-10 лет, я страдал чем-то вроде лунатизма (луна,
впрочем, не играла в этом "лунатизме" никакой роли). В доме на Речном
вокзале, где мы жили, бурлила светская жизнь. Вечером родители укладывали
меня, дожидались, пока я усну, а потом уходили к кому-нибудь из друзей,
живущих в доме. Примерно через час после их ухода я "просыпался" и вставал.
Слово "просыпался" здесь приходится заключить в кавычки -- я находился в
сомнамбулическом состоянии. Нельзя сказать, что это состояние было целиком и
полностью "бессознательным" -- хотя бы потому, что я это состояние некоторым
образом помню и могу описать. Прежде всего следует употребить слово "гул" --
"гул голосов", некая "аудиальная каша". Впечатление было такое, что где-то
рядом, за прикрытой дверью, происходит многолюдное сборище и все там
собравшиеся говорят одновременно. Надо сказать, это было ощущение гнетущее,
даже омерзительное. Этот гул наваливался на меня, и я бродил в нем, как в
лесу. Сознание представляет собой голос. Он может быть расщеплен
диалогически, он даже может разветвляться и создавать сложные полифонии, но
когда он чересчур мультиплицируется, "я" теряется во "внутренней толпе". В
этом состоянии я одевался, выходил из квартиры и, ничего в общемто не
соображая, точно приходил именно туда, где в это время находились мои
родители. Все уже знали, что когда в разгаре веселья звенит дверной звонок
-- это я. Как только я видел других людей и слышал их голоса, я немедленно
возвращался в нормальное состояние. Мне было достаточно одного звука
внешнего голоса, чтобы мой "внутренний голос" смог восстановить свою
утраченную цельность.
Все отмечали,"что в сомнамбулическом состоянии я не просто полностью
одевался, но был неизменно одет с подчеркнутой аккуратностью. Так называемое
"бессознательное" (во всяком случае, данная его версия) не имеет ничего
общего с хаосом, это скорее гипертрофия порядка. Через некоторое время я
самостоятельно изобрел простой прием, избавивший меня от ночных хождений.
Засыпая, я оставлял у изголовья кровати включенный радиоприемник, который
негромко бормотал. Это периферийное струение внешних голосов гарантировало
мне спокойный сон без приступов сомнамбулизма. Здесь играли свою роль,
конечно же, трезвые и хорошо поставленные голоса радиодикторов, а также
равномерное чередование женского и мужского голосов, создававшее своего рода
звуковую мандалу, аудиальный инь -- ян, регулирующий метроном "утрясающего
себя Дао".
Слушал я Би-би-си. После политической передачи "Глядя из Лондона" я
затем неизменно прослушивал литературную программу. В те времена по Би-би-си
каждый вечер читали "Колымские рассказы" Шаламова. Выслушав очередной
"колымский рассказ", я спокойно засыпал. Это кажется странным. Описываемые в
рассказах миры настолько чудовищны, что, казалось бы, должны были навевать
мрачнейшие кошмары. На деле они гарантировали их отсутствие. В этих
леденящих повествованиях запрятан был (для меня) сильнодействующий
транквилизатор. Я засыпал, как бы "глядя из Лондона на Колыму", "из рая в
ад", созерцая миры замерзания и истощения, миры нехватки еды и тепла. Эти
тексты замораживали и согревали одновременно. Они создавали эффект ступора,
оцепенения, который можно было -- как выяснилось -- использовать в качестве
"медикаментозного фантазма" с усыпляющим действием.
Через много лет мне приснился сон, явно навеянный теми детскими
"контрсомнамбулическими" прослушиваниями "Колымских рассказов". Он не был
кошмаром (если иметь в виду эмоциональную окраску), но при пересказе будет
выглядеть как кошмар. Я в лагере, где-то за полярным крутом. Ощущаю сильный
холод и голод. Нас, зэков, сгоняют к какому-то месту, где находится лежбище
мертвых, вмерзших в лед, тел. Видимо, здесь погибла большая группа
заключенных. Их тела смерзлись теперь в один огромный брикет, в нечто,
напоминающее твердый холодец. Пилами мы распиливаем этот "холодец" на
равномерные, одинаковые кубы и, повинуясь приказу начальства, перетаскиваем
их и аккуратно складываем, ставя друг на друга, в каких-то землянках. Почти
падая от изнеможения, я тащу один из таких кубов. Он большой, тяжелый, дико
холодный -- я еле-еле удерживаю его в руках. Однако сильнее всего чувство
голода. Не выдержав, я впиваюсь в угол куба зубами. Там грязный лед, куски
ватника. Без ужаса, почему-то даже без какого-либо чувства омерзения, я
просыпаюсь, ощущая во рту "мыльный" вкус промерзшего мертвого человеческого
мяса.
Другой сон на эту тему мне рассказал Юра Семенов. Ему приснилось, что
он и его приятель Нехорошее заключают пари: кто быстрее съест труп. Юра
съедает труп быстрее, он легко и без помех съедает труп целиком, начиная с
ног, но, дойдя до кепки, останавливается. Кепку он съесть не может -- она
осклизлая, грязная. Поэтому он проигрывает пари. Оба сна изображают событие
омерзительное, но чувство отвращения в них отсутствует. Скорее всего, это
отсутствие отвращения объясняется тем, что сновидение в данном случае
изображает "минус-переживание". Поедание трупа происходит легко, потому что
трупа нет. Здесь возникает возможность вкусить отсутствия -- это порождает
облегчение. Такие сны, как ни странно, представляют собой вентиляционные
отверстия. Они создаются по заказу пульсирующих "жабр души". В европейской
традиции мышления, как известно, большим уважением пользуется "агон" --
форма атонального собеседования, в ходе которого текстуальные фигуры
пытаются воссоздать не столько функции и ритмы здорового тела, озабоченного
собственным Долголетием (как это часто практикуется на Востоке), сколько
спазматическую экстремальность тела страдающего, существующего в пафосе
своего Конца, своего Предела. Теология Предела здесь вообще играет важную
роль. Истина предельна, а умирающий или находящийся в состоянии припадка
радикален. Можно вспомнить Ницше, Арто, Батая и многих других. Можно
вспомнить эпилептоидный "самодонос", экстатическую исповедальность, а также
тонкие и плаксивые голоски регресса, которые иногда (под влиянием
психоанализа) вводил в свои фильмы Хичкок.
Россия, как всегда, оказывается в этом отношении (как и во многих
других отношениях) в традиционной щели между Востоком и Западом. "Агональная
речь" здесь не просто звучит, она, можно сказать, льется рекой. Однако она,
странным образом, каждый раз оказывается речью литературного персонажа,
подставного лица. За этой речью стоят даже целые сонмы литературных
персонажей, "литературные массы", сонмы подставных лиц, ликов, личик,
личинок. Относительно этой квазиэкстатической речи можно сказать словами А.
Монастырского: "Никакой аутентичности, зато сплошной аутизм". Коллективное
тело, в отличие от тела индивидуального, не умирает, а следовательно, агония
для него -- рутина, событие отнюдь не радикальное, не экстремальное,
напротив -- обыденное. Достаточно вспомнить интенсивность речей персонажей
Достоевского -- эта интенсивность достигает таких "высот и глубин", что в
конце концов становится совершенно ясно, что за этими наслаивающимися друг
на друга "пиками", "вспышками", "эксплозиями" располагается Покой, даже
некоторая Инертность.
Агональный дискурс здесь подвергается стихийной демистификации.
Возникает подозрение, что сам по себе он -- лишь сумма
литературно-технических приемов, не имеющих того непосредственного отношения
к мышлению, о котором заявлялось. Возникают подозрения, что за этим
дискурсом стоит история пытки, история дознания истины с помощью источников
боли. Полагают, что истина должна выходить с криком истязуемого или же с
шепотом умирающего. Особым уважением пользуется "внутренняя пытка" -- когда
тело истязует само себя, когда допрашивающий и допрашиваемый -- одно.
Поэтому такое большое внимание уделяется последним словам умирающих. Однако
юридическая дисквалификация сведений, полученных с помощью страдания,
естественным образом ограничивает престиж спазмы. Пытка (даже если это
"пытка совестью") порождает лишь очередную ложь. Предел, как выясняется,
слишком подвижен -- любое резкое движение в его направлении отбрасывает его
на непредсказуемое расстояние. Предел не может быть достигнут никаким, даже
самым катастрофическим, рывком. Никакой агональный дискурс не в силах
приблизиться к нему. Пушинкообразное тельце Предела, эту "пуховую черту",
можно только подманить сериями осторожных, завлекающих, почти невидимых
пассов.
К нему приближаются (то есть его создают) сериями отказов, воздержаний,
регламентации. Эта практика осторожного, кропотливого создания Предела и
есть диета -- современный вариант аскезы. Диета -- это удвоенная этика,
этика второго порядка. В зоне диеты возникает возможность новой идиллии --
то есть то, от чего зависит появление будущего. Возникает сверхлегкое,
предназначенное для полета, тело при здоровом теле. Это и есть "тело" самой
диеты. Считается, что самый распространенный "базовый" элемент обычной диеты
-- каша. Нечто мягкое, бесформенное, но являющееся следствием жестких форм
-- форм злаков и четко расчерченных полей. Нечто бесформенное, но
содействующее удержанию формы: диету держат ведь для того, чтобы "быть в
форме". А "быть в форме" означает хотя бы отчасти контролировать свои
трансформации.
Кашу можно умастить медом. Мед ведь тоже аморфен потому, что является
извлечением, эссенцией жестких структур: структур цветов, пчелиных обществ,
сот. Мед -- это комментарий. Каша же -- это мягкий фундамент дискурса,
позволяющий ему быть плазмодием -- чем-то вроде мыслящего океана,
порождающего двойников, который действует в фильме Тарковского "Солярис". В
нашем "медгерменевтическом" романе "Мифогенная любовь каст" описан сон об
Энизме (сон, привидившийся некогда С. Ануфриеву -- этот же сон описан в
нашем совместном тексте "Закомплексованный ебарь"). Энизма -- это вечный и
не имеющий конца, "поющий" поток живого меда, омывающий "дно всего". Само
слово "энизма", имя этого потока (тоже являющееся продуктом сна) есть
скрещение слов "энигма" и "харизма", скрещение, характерное для онейроидов.
Сокращение "медгерменевтика" (обычно расшифровывающееся как "медицинская
герменевтика") иногда интерпретировалось нами как "медгерменевтики". В
подтеках герменевтического меда, как в янтаре, застревают, консервируются и
становятся сладкими "лучи объяснения". Всякое пояснение, всякое примечание
есть солнце, сбоку пронзающее своим сиянием изначальную тьму текста.
Попробовать это свечение на вкус означает, как правило, ощутить сладость --
сладость понимания. Чем произвольней, необязательнее это понимание, тем оно
слаще. Вот два стихотворения, в которых упоминается Винни Пух, известный
фетишист меда. Первое написано в духе подношений "Аэромонаха Сергия", второе
-- в стиле "подарочной" лирики МГ (оно посвящается С. Ануфриеву и было
написано по случаю его Дня Рождения).
I
"Значит, говоришь, не убивал? --
Вскинулся вдруг следачок с насеста, --
Ждет тебя, пацан, лесоповал
Белый, как сибирская невеста.
Вспомни, блядь, как бледный Саша Блок
Лез в пизду зеленым телескопом,
Как Есенин бился между ног,
Истекая животворным соком.
Как комдив Чапаев на скаку
Разрубал фашистское отродье,
Как Менжинский плакал на ветру --
Не стыдился при честном народе.
Вспомни, поц, Россию наконец --
Как течет арбатским переулком
Тот медовый, гулкий благовест,
Пахнущий рождественскою булкой!
Посмотри: к заутрене спешат
Девушки в каракулевых шубках...
Значит, говоришь, не убивал?!
Не дрочил на вымпелы и кубки?!
И во тьму угрюмых женских бань
Не тащил чугунные киоты,
Чтобы в небо, вспарывая рань,
Уходили юные пилоты?
Под столом не пролезал тайком.
Чтобы старикам понюхать ноги?
Не писал надрезанным соском
На снегу, что все мы недотроги?
И муде не посыпал песком --
Тем песочком, теплым, прибалтийским?
И, прикрыв залупу туеском,
Не ебался с мишкой олимпийским?
Ничего, приедешь в Магадан,
Купишь там отдельную квартиру --
Телевизор, чай, сортир, нарзан --
По ебалу городу и миру!
На, кури. Чего там, не впервой.
Главное, шугайся Чипполино.
Он пахан жестокий и крутой,
Выставит в разы на буратино.
Чисто так, за желтые дела.
Пальцы веером -- и все быки вприсядку.
Фиксы в шорнике. Понтуйся: смык, смола.
А не то придется дуть в трехрядку.
Говори, что знаешь Селяви,
Шо ты в "Космосе" висишь за белым коксом.
И споют плашкеты о любви,
Завафлив твой шпейц соленым боксом.
Говоришь: понятнее не знал.
На спецу зависнешь -- растолкуют.
За дубком не харкай на журнал --
Дед Мороз нехорошо шут кует.
Самый главный в зоне -- Винни Пух.
Закозлит своим слонопотамом --
Если сразу не испустишь дух,
Крикнешь "Брясь!" и станешь Мандельштамом.
Чебурага подойдет в настрой
С корефаном Геной Крокодилом,
И шепнет Мурзилка: "Кумовской!",
Подмахнув абзац корявым шилом.
Ну, а в общем, знаешь, жизнь как жизнь:
Ветер, праздники, разборки по разводу...
Силуэты золоченых клизм
Над Москвой повисли в непогоду.
Выпишут: закатишься в "Пекин",
Будут шмары, лярвы центровые,
"Мерседесы", баксы, кокс, морфин,
Рэйвы, экстези, газеты, чаевые..."
Следователь резко замолчал.
На столе -- цветное фото сына.
В окна кто-то веткой постучал.
Дерево. Наверное, рябина.
II
Средь воинов заоблачного мира
Уступами вновь увлажненных скал
Сбегают к безднам Винни Пуха дети
И Пятачка внучатые дядья.
Родня небес и пухлого покрова
Перинных, бело-спелых облаков
В центрифугальный мир Оценочного Слова
Идут потоками с творимых берегов.
Над Христофором Робином звучат,
Как тень рубиновая лопнувших внучат,
Как бой опаловый, оправленный, граненый,
Самим собой и бездной упоенный,
Святейшие слова: "Се хорошо весьма!"
Со дна поднимется зеленая тесьма
И бисером расшитая закладка --
В сокровищницах пусто, хладно, сладко.
Земля трясется -- значит, Кенга скачет.
И инфантильный тигр, что в форме колеса
(В нем полосу ласкает полоса),
И Крошка Ру в кармане Кенги плачет.
Но Крупп на круп коня закинул свой сапог
(Блестят, дрожат стальные звезды шпор),
И в бурый Рур он скачет, одинок,
К седлу надежно привязав топор.
Вот лес. Тот самый лес. Вот домик в тишине.
Зеленые, задраенные окна.
Топор дугу очертит в вышине --
И щепки полетят. И ставни дрогнут.
Внутри темно. Но внутрь пробьется свет.
И ляжет на кровать янтарным бредом.
Он упадет в тяжелый, мягкий плед --
Там что-то круглое лежит под этим пледом.
И голос Круппа, мучающий слух.
Как голос дьякона, как медный голос сводни,
Вдруг позовет: "Вставайте, Винни Пух!
Вы избраны на прусский трон сегодня.
Курфюрстендам, мой Винни, весь в цветах!
Гвардейцы в касках там пройдут сегодня.
А вы -- курфюрст. Вы -- кайзер. Вы -- монарх.
Их поприветствуйте пушистой лапкой сонной".
Уже бежит советник Пятачок,
Бежит и гранями сверкает.
И лишь Сова -- в дупло, и там -- молчок!
Свой пухлый дар сама в себе ласкает.
Тексты, включенные в разделы "Холод и вещи" и "Еда", по большей части
представляют собой остатки неосуществленного "большого литературного плана".
Первоначально я собирался написать цикл романов под общим названием
"Путешествие крестиков". Вереницу маленьких, белых, слегка закругленных
крестиков на маленьких ножках, весело бегущих проселочной дорогой, я как-то
увидел во сне. Не знаю почему, этот сон был наполнен ощущением счастья.
Собственно, чувство благодарности за эйфорию и заставило меня придумать
"большой литературный план". Ведь не следует забывать, что "эйфория на
дороге не валяется". Кроме желания создать памятник эйфории (который был бы
одновременно громоздким и в то же время приватным -- можно сказать,
"агрессивно приватным", расширяющим эту приватность до "космических"
масштабов, ибо таков основной механизм эйфории), у меня не было других
целей. В остальном это было "одно из бесчисленных проявлений бесцельности",
как говорят девочки-близнецы в "Яйце". Впрочем, можно усомниться в
искренности предшествующего заявления. В те времена (как и сейчас) мне
хотелось не столько создавать литературные произведения, сколько нащупать
канон, располагающийся (как и все каноны) между сном и догмой, между
фантазмом и регламентом, между этикетом галлюцинирования и формальной этикой
понимания, этикой, исподволь ограничивающей "реальность реальности", то есть
делающей "условно созерцаемой" ту несозерцаемую "природу", которая, по
словам Леонардо да Винчи, "полна бесчисленных причин, никогда не попадающих
в границы опыта"1.
Неплохие возможности для удовлетворения исследовательской
любознательности такого рода предоставляет русская литература, некогда
впитавшая в себя функции религии и философии, подавившая отчасти даже
идеологиескую дискуссию, сделав ее (вкупе с сопровождающими эти дискуссии
репрессиями: лагерная и эмигрантская проза, представляющие из себя продукт
внутренних и внешних "исправительных колоний") одним из своих жанров. Быть
литератором означает, во-первых, быть существом, которое когда-нибудь умрет.
Быть литератором также означает, что эта смерть будет, до некоторой степени,
сфальсифицирована. Подготовка этой фальсификации и есть содержание
"литературной техники". Быть литератором означает обустроить собственный
некрополь, приватизированную и технически оснащенную зону общего культа
умерших. Нечто вроде тех продуманных и снабженных всем необходимым
саркофагов, которыми обзаводились древние властители. Этот "саркофаг" должен
не просто быть, он должен действовать -- действовать как машина, как
средство связи, как "спиритический агрегат", связующий умерших и живых сетью
экстатических коммуникаций.
Литература для литератора -- стратегия собственной дематериализации:
такой дематериализации, которая стала бы частично обратимой, приобрела бы
черты амбивалентности. Литературный текст способен находить агентов (среди
живых) для удовлетворения потребностей умершего -- в частности, для прихотей
его сладострастия. Для того, чтобы эта "перевербовка" осуществилась,
литературный текст должен пройти сквозь галлюциноз, сквозь "ремонт
аттракциона". Вот неплохой пример. В книге Теренса Маккены "True
hallutinations" ("Истые галлюцинации" или же -- что звучит более технично с
точки зрения психиатрии -- "Истинные галлюцинации") автор описывает свои
психоделические переживания, вызванные поеданием ДМТ-содержащих растений в
бассейне Амазонки. В книге, посвященной психоделике, есть только один эпизод
сексуального содержания. Маккена описывает, как он и его девушка Ив
удалились в джунгли для совокупления, на время покинув остальных членов
галлюцинирующей экспедиционной группы. Совокупляющиеся находились под
действием ДМТ. Кончая в тело своей девушки, Маккена (как он утверждает)
несколько раз выкрикнул: "За Владимира! За Владимира!" В этот вдвойне
экстатический момент своей жизни (оргазм, помноженный на галлюциноз)
американский адепт психоделической революции вспомнил о Набокове и решил
"пожертвовать" (или, точнее, "посвятить") свой оргазм и свою эякуляцию
покойному писателю. Маккена пишет, что в тот момент он вдруг вспомнил о
Набокове "с его вечно воспаленным, вечно жаждущим воображением" и решил
кончить не "за себя", а "за Владимира". Этот великодушный поступок наглядно
демонстрирует переход эрогенного в галлюциногенное (и обратно),
демонстрирует нам это "сверкающее кольцо". Поступок Маккены, конечно же, был
реакцией на "Лолиту". Как сказал сам Набоков, патетически искажая пафосные
строки Пастернака: "Я весь мир заставил плакать над красотой девочки моей".
"Россия" и "Лолита" -- взаимосвязанные звенья одного эротического мифа,
однако "Лолита" звучит более "перспективно" (настолько, насколько Набоков
"перспективнее" Пастернака) и более гуманно: чтобы перестать, наконец,
пожирать своих детей, Родина-Мать должна перестать их порождать. Из Начала
она должна стать завершением -- стать Внучкой, исчезающей в коридорах
уменьшения, нимфеткой, уносящей за пределы видимости секреты сексуального
возбуждения. Страна и девочка -- ключи к этому сюжету даны "Алисой в Стране
Чудес". Из этой пары возникает "Страна за Пеленой" -- потустороннее, скрытое
девственной плевой. "Лолита", возможно представляет собой один из
горизонтов, на котором осуществился столь чаемый двадцатым веком синкретизм
буддизма и психоанализа (и это, надо полагать, особенно остро ощущалось в
70-е годы, в период "психоделической революции"). В "Лолите" на трансфер и
на крах трансфера поставлены одинаковые "нирванические" метки.
Оргазматический крик Маккены "За Владимира!" является модернизированным
отзвуком возгласов "За Родину! За Сталина!", с которым шли в атаку советские
солдаты. В возгласе Маккены реализуется потенция "владения миром",
содержащаяся в имени "Владимир", а заодно в литературе вообще. Этот
психоделический эпизод напоминает брачный ритуал, известный всем советским
людям: возложение цветов молодоженами у Вечного огня, горящего над могилой
Неизвестного Солдата, у Кремлевской стены. Невеста, одетая в белое и
накрытая полупрозрачной фатой (символ плевы), делает несколько шагов вперед
и кладет цветы перед огнем, совершая легкий поклон или же на мгновение
приседая. Цветы олицетворяют вагину, которую она преподносит в дар
Неизвестному. Жених остается стоять, он как бы добровольно "остается в
стороне". Символическое содержание этих жестов очевидно: жених как бы
отказывается от своего права на дефлорацию, на брачную ночь, обязуясь
совокупиться с невестой не "за себя", а "за Неизвестного". Как говорится,
"за того парня". Жених предоставляет себя в качестве сексуального
инструмента, которым могут воспользоваться умершие. В награду за это
самоотречение умершие (в данном случае -- погибшие воины) должны, согласно
древней логике символического обмена, придать молодоженам неисчерпаемую
сексуальную мощь, свойственную коллективным телам, -- они обязаны наградить
их "вечным огнем", неутолимым "вечно воспаленным, вечно жаждущим"
вагинофаллосом ("лингайони" -- в индуистской традиции), постоянно полыхающим
в центре антропоморфной пятиконечной звезды2. Литература, в отличие от более
архаичных культов, замещает Неизвестного Известным, Анонима -- Именем. Эти
имена -- Пушкина, Крылова, Ершова, Бажова, Ленина, Набокова
-- содержат в себе уже не совсем ту самую коллективную телесность,
которая
стоит за анонимным Тем Парнем. За каждым из этих имен тоже скрывается
"общее тело", но это тело ограничения, нечто вроде "меню", прилагаемое к
идиллическому ЗДОРОВОМУ ТЕЛУ в качестве атрибута.
"Путешествие крестиков" должно было начинаться романом "Ледяной
крестик". Впрочем, под словом "роман" подразумевалось нечто вроде каталога,
включающего в себя тексты разных жанров, на первый взгляд разрозненные.
Некоторые из этих текстов, написанных когда-то для "Ледяного крестика",
включены здесь в раздел "Холод и вещи". Следующий роман я собирался назвать
"Пищевой крестик", однако затем присвоил ему название "Еда". Оба "романа"
написаны по принципу шаткого баланса между конвенциональной "сугубой
литературностью" ("Литература должна быть литературной") и
психопатологическими имитациями (точнее, имитациями психопатологических
имитаций) этой "литературной литературы" ("Литература с элементами
космического базирования"). "Шизофреничность", "параноидальность",
"ипохондричность" выступают тут как суррогаты литературных манер.
Использование синдроматической поэтики наряду с поэтикой традиционной дает
возможность обойтись без стиля, без направления. То есть дает эффект
безвременья, в котором -- как в воздухе -- нуждается каждый канон.
За "Пищевым крестиком" должен был следовать "Мягкий крестик", за
"Мягким крестиком" -- еще вереница каких-то крестиков. Вереница, в идеале,
бесконечная. Впрочем, в какой-то момент это мне надоело и я много лет не
вспоминал о "Путешествии крестиков". Потребность в производстве серий,
канонов, потребность в пустых промежутках между этими "книгами", "томами",
"блоками", "сериями", "периодами", эта потребность (хотя и не безотчетная,
но основанная на почти непроизвольных шизоидных практиках самолечения) была
удовлетворена совместной работой с С. Ануфриевым и Ю. Лейдерманом (а затем с
В. Федоровым) в рамках Инспекции "Медгерменевтика".
Согласно первоначальному плану, роман "Еда" должен был состоять из
четырех частей. Первая часть называлась "Первое" и посвящена была всему
"первичному", "изначальному" -- посвящена была зарождению нового и тем
контрацептивным практикам, которые способны воспрепятствовать этому
зарождению ("Молоко", "Яйцо", "Супы").
Вторая часть называлась, соответственно, "Второе", и состояла из
текстов более раннего периода ("Горячее"). Имелось в виду, что предметом
изображения здесь является "вторичное", и сами эти тексты "вторичны"...
Третья часть называлась "Мучное", и речь здесь шла о различных видах
страдания (по аналогии "мучное -- мучительное"). Рассказы "Ватрушечка",
"Кекс", "Бублик" и "Колобок" соответствуют следующим четырем видам
страдания: ужас, сексуальная неудовлетворенность, боль и, наконец, скука.
Все эти мучения в данных рассказах присутствуют в заблокированном, как бы
"исцеленном" состоянии. Ужас в "Ватрушечке" вытеснен "аттракционом ужаса",
то есть собственной привлекательностью. Сексуальная неудовлетворенность в
"Кексе" ("кекс" оптимальная рифма к слову "секс") исцеляется через
психоделический ритуал, в ходе которого "эрогенные зоны" трансформируются в
галлюциногенные (об этом переходе эрогенного в галлюциногенное мы не раз уже
упоминали).
В одном из таких "галлюциногенных зон" ("Особая Зона в Казахстане")
разворачивается действие "Кекса". Боль в "Бублике" блокируется анестезией,
которая делает рассказчиков вещами. Наконец, в "Колобке" скука устраняется
просто потому, что она скрывает в себе возможности специфических
развлечений. По словам Хайдеггера (к которым не обязательно относиться с
доверием, но они произнесены, а значит, могут существовать, не нуждаясь в
нашем доверии), в состоянии скуки мы "ощущаем сущее-как-целое". Вспоминается
Горбачев, оглаживающий ладонями невидимый Колобок и произносящий "Вот это
вотусе".ВСЕ шарообразное и весело катящееся куда-то (в России считают, что
оно катится "в пизду", то есть движется по свертывающейся внутрь себя
тропинке регресса) представляет собой экстремальное развлечение, хотя и
рождается из глубины скуки (Дед и Баба заскучали без детей: по амбарам
намели, по сусекам наскребли...).
Наконец, последняя часть "Еды" должна была называться "Сладкое" и
состоять из сплошных комментариев и расшифровок предыдущих текстов,
поскольку (как уже было сказано) "сладость" возникает в форме объяснения, в
форме тягучего, мягкого света, щедро льющегося на вещи (мед герменевтики).
Впрочем, ценность всех этих повествований (если вообще придавать им
какую-то ценность) содержится не в том, что они представляют собой
герменевтические аттракционы, ограничивающие свободу интерпретатора
(поскольку вся его работа оказывается как бы "уже сделанной"), а в скрытой
за этими герменевтическими аттракционами утопии. Вот еще один сон,
рассказанный мне недавно Аркадием Насоновым (в самой фамилий которого
присутствует слово "сон"):
Он в Одессе, стоит на маленькой площадке над морем. Справа и слева от
него -- моряки, сигнализирующие флажками. Присмотревшись, он замечает на их
униформах, среди морской символики, маленькие свастики. Это фашисты. Ему
приказывают надеть такую же униформу. Он повинуется.
-- Одессу знаешь? -- спрашивают фашисты.
-- Немного.
-- Ну тогда веди, показывай где тут что.
Аркадий ведет их, почему-то, к Фиме Ярошевскому, писателю с ярко
выраженной еврейской внешностью. Фима открывает дперь. Аркадий отводит его
на кухню и говорит приглушенно: "Понимаете, меня тут фашисты взяли в плен.
Так что я тут с фашистами. Надо бы угостить их чем-то: чай там, печенье,
что-то в этом роде".
Фима на это начинает громко, возбужденно кричать:
-- А как же война, Аркаша? Как же лагеря? Они же сжигали в печах живых
людей! В этот момент один из фашистов, незаметно вошедший в кухню, громко и
цинично отвечает:
-- Что же, нам мертвых, что ли, надо было сжигать?!
Фима оборачивается к фашисту и неожиданно спокойно произносит:
-- Расскажи ему, Аркадий, как все происходит у нас.
Аркадий объясняет фашисту, что у нас, когда человек рождается, он
получает два тела: одно живое, другое -- мертвое. Живое живет, а мертвое в
это время где-то хранится. Когда человек умирает, мертвое тело хоронят, а
живое продолжает жить.
В этот момент появляются папа, мама и бабушка Аркадия. Папа и мама
ведут за руку своих двойников, а бабушка одна. (В реальности папа и мама
Аркадия живы, а бабушка умерла.) Они входят в пространство, напоминающее
специально оборудованную испытательную камеру для какихто научных
экспериментов, занимают в этом пространстве свои, заранее приготовленные,
места. Над головами у "живых тел" -- деревянные дверные ручки (в форме
львиных лапок, как на старых лифтах), над головами "мертвых тел" -- такие
же, но алюминиевые. Аркадий замечает, что над головой бабушки -- алюминиевая
ручка. Он говорит, что это неправильно, ручку надо заменить на деревянную,
так как бабушка -- живая. Ручку быстро меняют.
Повесть "Кумирня мертвеца" я начал писать на даче в Переделкино, в 1983
году. Я был инспирирован одной книгой, выпущенной издательством "Детская
литература". Это была книга венгерского писателя или писательницы, что-то
вроде сказки для детей. Имя автора и название книги я не запомнил. Книга
называлась каким-то венгерским именем, снабженным прозвищем. Что-то вроде
"Арнош-карандашник", или "Ласло-Черный Огонек", или "Иштван-Неузнайка".
Помню только иллюстрации Иры Наховой, довольно неумелые, но психоделические,
сделанные то ли гуашью, то ли цветными мелками. Не то чтобы мне понравилась
эта книга, ничего особенно замечательного в этом венгерском галлюцинозе не
было.
Но почему-то, когда я ее читал, в моей голове обозначился образ
повести, посвященной тому же, чему посвящен сон Аркадия: выяснению отношений
между мертвыми и живыми телами. Живые тела живут, мертвые тела в это время
"хранятся", затем их хоронят, и живые тела продолжат, после этого, жить
вечно. (И будем отныне с тобою мы жить спокойно, приятно и вечно.) Однако,
кроме соприкосновений различных типов и уровней посмертного существования,
"Кумирня мертвеца" содержит в себе скрытый детективный сюжет, призванный
объяснить, откуда все-таки берутся мертвые тела, кто и как их "делает".
Детективная интрига прилежно завуалирована, чтобы сделать комментарий
неизбежным. Роль такого комментария отчасти играет рассказ "Бублик", где
герой, "любящий продолжения", рассказывает историю своей жизни, которая сама
по себе есть "продолжение" истории директора театра, лишившегося "руки и
сердца", а затем и всей сердцевины. Директор театра, сгущенный образ
"бессердечного" злодея, сочетающий в себе черты Карабаса-Барабаса,
убивающего Мальвину и Пьеро телом неродившегося Буратино, маркиза де Сада и
Синей Бороды (насилуя Мальвину, "девочку с голубыми волосами", он овладевает
собственной дочерью, добавляя к списку злодейств неизбежный инцест). Из
"Бублика", из его дыры, проистекают различные сведения, проливающие
дополнительный свет на события, описанные в "Кумирне". Так, выясняется, что
главный герой "Кумирни" -- старик, -- оказывается, был королем. (Его герб,
как говорит Китти, это "капля, разбивающаяся о поверхность воды", то есть
корона.) По всей видимости, он -- один из тех пятнадцати стариков, владеющих
властью, о которой они забыли по причине старости ("пятнадцать стариков на
сундук мертвеца")'. Вольф вменяет себе в обязанность стоять на страже этой
самозабвенной власти -- без -- власти. Пятнадцати старикам соответствует
группа их отпрысков, составляющих компанию Ольберта, -- младшие боги,
"золотоглазые", девчонки и мальчишки, происходящие из "пятнадцати самых
влиятельных семейств". Их именами (Устлер, Сейчи, Тереза, Корин, Журземма и
т. д.) Ольберт называет этапы своего "большого пути". По всей видимости, эти
шалуны и шалопаи (среди которых, впрочем, есть как минимум один интеллектуал
-- психиатр Бимерзон) уже давно (с детства) бороздят трансцендентное (в том
и в другом направлении). Пятнадцать мертвецов на сундук старика...
Отчасти в подражание "Бледному огню" Набокова, "Кумирня" представляет
собою текст в тексте, причем "внутренний текст", по плану, должен был быть с
литературной точки зрения более качественным, чем "внешний". Ведь
"внутренний текст" (произведение под названием "Черная белочка") написан
профессиональным литератором Ольбертом, даже пользующимся уважением в
элитарных кругах, в то время как "внешний", "рамочный" текст непонятно кем
написан -- он выглядит так, как будто переведен с другого языка или является
продуктом деятельности какого-то литературного аппарата, время от времени
выбрасывающего в пустоту очередную порцию изящной словесности. Работу такого
"аппарата" ни в коем случае нельзя ассоциировать, например, с автоматическим
письмом сюрреалистов -- у них речь шла о приеме, имеющем целью
"раскрепостить бессознательное", в данном же случае раскрепощать нечего,
здесь нет никакого "бессознательного", если не иметь в виду ту пустоту,
которая составляет изнанку словесности, но она и так раскрепощена и в
дополнительных высвобождениях скорее всего не нуждается.
"Черная белочка" Ольберта состоит из двух частей -- минималистского
"Утра" (белое) и маньеристической "Ночи" (черное). "Утро", хотя и мо*
Поэтому старик и говорит: "Нам нет делало каких-то там власть имущих". Так
говорит власть имущий, впавший в маразм либертен, чей либертинаж
окончательно освящен сенильностью. жет напомнить авангардистские или
модернистские поэтические тексты (нечто вроде "конкретной поэзии"), на самом
деле является формой поэтического доноса. Пользуясь своей репутацией
элитарного писателя, Ольберт транслирует шифрованное сообщение,
трансформированное с помощью незамысловатого кода: количество слов в каждом
фрагменте (принимаются в расчет только те слова, которые вынесены в название
данного фрагмента -- например, слово "роза" и слово "цвети") означает номер
того места, которое та или иная буква занимает в русском алфавите.
Полностью расшифровав текст "Утра" (что весьма несложно), мы получим
фразу: "УБИЙЦА ЗДЕСЬ ЭТО СТЕКЛО".
Сообщение предназначено для "министра изящной словесности" (он же --
свирепый хиппи по прозвищу Пытарь, соратник Вольфа), который тут же и
расшифровывает его с помощью блокнота и карандаша (призрак старика, проходя
сквозь курительную комнатку, пропахшую марихуаной, замечает колонку цифр,
которую хиппи записывает в свой блокнот). "Убийство" старика, "убийство",
точнее, кража, в результате которой у этого "господина из Дома" было
похищено его "мертвое тело", да еще так похищено, что даже следы этого
"мертвого тела" были плотно заметены в его сознании, -- это изощренное
преступление, если доверять "Бублику", было осуществлено по инициативе
директора театра, но осуществил его, видимо, загадочный скульптор,
работающий по стеклу и сам награжденный прозвищем Стекло, автор всех этих
загромождающих повествование стеклянных фигур -- целых или же разбитых
вдребезги собак, сов, кенгуру, вомбатов, утконосов.... Орудием его
преступления является сама "кумирня" -- молитвенная и убивающая машина,
фетишистский аттракцион, источающий интоксицирующий "сок механизма",
"технический нектар" в котором содержится фармакон, "растворяющий между
жизнью и смертью", -- та самая "царевна-пружинка", раскручивающая сюжет. Эта
машина, естественно, напоминает сразу обо всех литературных машинах и
заводных механизмах -- о кафкианской машине из "Исправительной колонии", о
механизме "Городка в табакерке", об отравляющих машинках Пепперкорна и
Шерлока Холмса, о машине "Офелия" в "Зависти" Олеши, а также о заводной
кукле Суок, у которой была дыра в груди, о железных дровосеках, скитающихся
в поисках своего сердца, о "холодном сердце" Гауфа, о мистике, о мистике
стеклодувных предприятий, о летящей карусели, с помощью которой покидает мир
Мэри Поппинс, о заводной иконе -- тайной игрушке русских ортодоксов, о
часах, об этом "внешнем сердце", чей циферблат, как правило, прикрыт
стеклом. Среди галлюцинаторных щедрот "Ночи" Ольберт (как бы на всякий
случай) еще раз, троекратно и опять же завуалированно, называет имя убийцы
-- ЕГО ИМЯ СТЕКЛО. "...его имя стекло по бортикам ванны, в пену. Его имя
стекло теплыми ручейками по спинам совокупляющихся людей, его имя стекло по
роскошным облачениям священнослужителей..."
Рассказ "Бублик" находится в центре "Еды". Как я уже сказал, из этого
"пустого Центра" проистекает некоторый свет, высвечивающий обстоятельства
"Кумирни". Кроме того, из этой дыры, из этого туннеля, выходит и затем
уходит туда-обратно Колобок. "Бублик" -- как выясняется -- отнюдь не мучное
изделие, он не принадлежит миру страданий (миру мук, перемалываемых
мельницами Сансары), он -- кусок стальной трубы, обработанный шлифующим
агрегатом "свирепого хиппи" (напоминающего сразу обо всех "психоделических
учителях", вроде дона Хуана из книг Карлоса Кастанеды). Но отшлифован он
только затем, чтобы стать своего рода прологом к необозримому, скромному и
бездонному миру литературы, создаваемой для детей. Литературы, которая, в
соответствии со своим призванием, осмелилась ближе всего подойти к той
священной границе, за которой начинается маразм.
Стоило мне написать, что в сновидении поесть не удается, как я стал
сытно и обильно вкушать еду в сновидениях. Сон остается формой целительного
самоиздевательства, которым сознание награждает себя. Можно сказать, что наш
мир стар (с тем же успехом можно сказать, что наш язык стар или наша
культура стара), но не потому что молодость его прошла -- он пока еще не был
молодым. Он стар, потому что живет во времени, обратном времени человеческой
жизни. Он стар, потому что он находится в своем начале -- а начинается он в
глубинах старости. Когда-нибудь, возможно, он еще приобретет молодость, но,
наверное, это будет не скоро. Для этого ему надо пройти сквозь очищающие
фильтры диеты.
Все просто, и от людей, по-видимому, требуется немного. Всего лишь не
причинять боли, не терзать, не гадить и совокупляться друг с другом,
соблюдая некоторую осторожность -- так, чтобы не рождались дети. Для того
чтобы ограничить рождаемость, требуется, чтобы детство стало новой религией
(дорогу к этой религии уже проложили Кэролл и Фрейд). Требуется также
поддерживать экологические программы, чтобы залечить последствия своего
пребывания на Земле. Задача человечества -- деликатное самоустранение, без
применения войн и жестоких приспособлений -- просто меньше и меньше рожать
детей и одновременно "залечивать раны Земли", чтобы к моменту исчезновения
людей планета осталась в превосходном, цветущем состоянии.
По всей видимости, все же следует оказать "нечеловеческому" последнюю
великодушную услугу -- избавить "нечеловеческое" от людей. В этом
великодушном исчезновении и будет состоять высшее проявление подлинной
человечности. Останется Земля, покрытая лесами с их восстановленной
девственностью, океаны, горы, впадины, снега, пустыни, острова, ледники,
озера и прочее. И только духи будут бесшумно и весело носиться над водами.
УНЕСИТЕ КАШУ! УНЕСИТЕ МЁД! УНЕСИТЕ ЛЁД! УНЕСИТЕ ХОЛОДЕЦ!
1997
III
Мой путь
к Белоснежному Дому
Мой путь к Белоснежному Дому
Инструкция по пользованию Биноклем и Моноклем
Философствующая группа и музей философии
Голос из китайского ресторана
День рождения Гитлера
А юноши нет, и не будет уж вечно...
Жуковский. "Кубок"
Сумрак леса обступил малыша. Послышался снотворный шум дождя.
Заблестели из темноты мокрые качающиеся листья, успокаивающе запахло хвоей.
Весенняя, пожухшая тропинка обозначилась еле-еле в зеленовато-коричневой
тьме. Он побежал по ней. Ноги слегка увязали в чавкающей влажной земле.
Внезапно лес кончился. Он выбежал на край оврага, остановился. Очертания
пейзажа почти исчезали за плотной, колышущейся пеленой дождя. Его матроска
пропиталась влагой и из белой превратилась в серую, как бы для того, чтобы
растворить ребенка в набухающем ландшафте. "Ну, хватит!" -- прошептал он и
взглянул вверх. Струи дождя со страшной силой ударялись в мокрую глинистую
почву, так что над краем обрыва стоял как бы темный ореол из вздымающихся
земляных брызг. Казалось, сама земля отвечает робким недалеким дождем,
происходящим снизу вверх, на чудовищный небесный натиск.
"Хватит!" -- произнес он уже более решительно и поднял к небу худое
мальчишеское личико, по которому стремительно струилась вода. Дождь стал
слабее, реже. В длинных темных лужах показались тяжело вздувающиеся и
оседающие обратно пузыри. Внезапно в сером отягощенном небе открылась
сверкающая прореха. Хлынул солнечный свет. Он хлынул широким исступленным
потоком, прямо в глаза, такой яркий и слепящий, что Адольф проснулся. С
легким стоном повернулся в постели и прикрыл ладонью лицо. Солнечный луч
пересекал комнату, пробиваясь между занавесками. Занавески -- белые в
крупную красную клетку, до краев наполнены были светом и чуть-чуть дрожали.
На стеклах блестели капли прошедшего дождя. Комната уже была вся насыщена
утренними звуками: слышалось кряхтение деда -- дед с долгим сиплым вздохом
опускался в кресло, и кресло сипело под ним, издавая затаенный осыпающийся
гул, он раскуривал трубочку, чмокал, потом затягивался -- к аромату недавно
зацветших гераней примешался запах его табака, а к нему еще запахи
готовящейся еды, доносящиеся из кухни. Эти сладкие запахи напомнили Адольфу,
что сегодня день его Рождения. Впрочем, он помнил об этом даже во сне. И
сейчас, оглядывая утреннюю комнату, он убеждался, что этот день
действительно наступил. Сон развеялся, и дедушка обращает на него через
комнату поздравляющий взгляд своих мутноватых глаз, этих глаз цвета кофе,
когда-то крепкого и горького, а теперь обильно разбавленного старческим
молоком. Легко было догадаться, что все в доме уже встали, что мать возится
в кухне и наверное уже поставила в духовку праздничный пирог что бабушка
читает ей вслух Апокалипсис, сидя в кухонной качалке (слышалось мерное
поскрипывание и голос бабушки, сливающийся в одну длинную неразборчивую
фразу), что фениксы, орлы и ящерицы, вышитые на ширме, не изменили за ночь
своих поз, что над кровлей дома царствует ослепительное синее небо, а ветер
с горных отрогов приносит незамысловатые звуки волынок и милую горскую
песенку, исполняемую гортанными голосами свободолюбивых девушек.
Он вынул ключи и торопливо открыл дверь. Перед тем как скользнуть в
глубину квартиры, не удержался и воровато оглянулся -- квартира была чужая,
и он не был здесь несколько лет. С верхней площадки донесся чей-то живой
говорок. Георгий расслышал матерные слова -- этим словам он теперь внимал с
изумлением, чувствуя, что сам он навеки утратил право произносить их.
Коридор и кухня пахли нежилым холодом. Холодильник стоял распахнут и пуст.
"Какой же он все-таки белый внутри", -- подумал Гоша. Не снимая пальто,
быстро прошел в комнату -- в ту самую комнату. Здесь все для него было более
знакомым, чем в собственном дому. В жизни ему не встречалась комната более
тоскливая и в то же время уютная. Бесконечные полуразобранные телевизоры и
радиоприемники теснились на полу и на шкафах. Всюду валялись книги, пустые
стаканы, коробочки изпод лекарств, салфетки, старые рубашки, чьи-то рисунки,
сделанные с натуры красной сепией. Когда-то здесь жил близкий друг Гоши.
Когда-то здесь собиралась их небольшая компания. Когда-то на этой
продавленной тахте Гоша занимался любовью с Ликой. С Ликой много раз и еще
один раз с Габи, студенткой из ГДР. Да, были девушки, были друзья, была
компания -- "секта", как они тогда говорили в шутку. Все это было... А
теперь? Теперь в этой комнате он собирался добровольно расстаться с жизнью.
Он всегда представлял себе эту комнату, когда у него возникала мысль о
суициде, -- казалось, что здесь смерть уже началась, и самоубийство станет
тут лишь безболезненной формальностью. "Это -- такое же дело, как и любое
другое. Делать его надо спокойно, рассудительно, толково, на трезвую
голову", -- так однажды сказал друг Георгия Артем. Георгию запомнились эти
слова. Причины лишить себя жизни у Гоши были. Точнее, не было причин
откладывать этот поступок. Георгий вынул из кармана заветный пузырек,
поставил перед собой на стол. Все просто. Один глоток -- далее холод, а
потом отдых. Гоша посмотрел в окно. Это было единственное известное ему
окно, выходившее на общественный туалет: белое строение, чья архитектура
несколько напоминала вход в китайский сад. Зданьице туалета отчетливо
виднелось сквозь веточки, покрытые уже зелеными почками. Без труда можно
было прочесть четкие черные буквы "М" и "Ж", которыми были помечены входы.
"Для мертвых и для живых" -- прочел Георгий. Он всегда входил там, где было
помечено "М", но пугался и выходил обратно -- теперь ему предстояло уйти
туда навсегда. "Умирать надо, глядя на сортир, -- подумал Гоша, -- чтобы
почувствовать, как становишься говном". Он перевел взгляд на полку с
лекарствами. "Настойка женьшеня" было написано на одной из зеленых
коробочек. "Нестойкая женщина!" -- громко сказал Гоша и потянулся к
заветному пузырьку с ядом. Сомнений у него никаких не было. Потом,
рассказывая изредка об этом происшествии близким друзьям за водкой или же
любовницам, лежа с ними в постели, Гоша говорил, что случайно задел локтем
большую стопку книг, старых газет, журналов, каких-то папок с бумагами.
Стопка якобы неуклюже покачнулась и рухнула, рассыпавшись по комнате с
неизбежным для таких случаев вздыманием фонтанов пыли. И вот якобы прямо к
ногам Георгия скользнула фотография, видимо, вырезанная из какого-то
журнала, -- стадион, тесно заполненный бесчисленными людьми, чьи руки
взметнулись вверх в едином порыве.
И на трибуне -- небольшая фигурка выступающего Гитлера. Рассказывая,
Гоша, конечно, помнил, что все было не совсем так. То, что он описывал как
фотографию, на самом деле было галлюцинацией. Никакой стопки книг он локтем
не задевал. Просто в момент, когда его пальцы коснулись заветного пузырька,
он вдруг увидел это -- четкое черно-белое фотографическое изображение
стадиона, массы, приветствующие вождя жестом "Хайль", и, наконец, сам Гитлер
в светлом галифе, в рубашке с какими-то лямками или портупеями, в галстуке.
Видение длилось долю мгновения. Само по себе оно было скучным и
необъяснимым: какое-то заезженное историческое фото, банальное и всем
известное до боли. Но почему-то с души Георгия как будто сбросили чугунную
крышку. Новыми, посвежевшими глазами он обвел комнату, изумленно посмотрел
на свою протянутую руку, застывшую над пузырьком.
-- Блядь, что же я делаю! -- подумал он и встал. Взяв со стола пузырек,
он вышел из квартиры, запер за собой дверь. На улице была весна. Среди
полосок грязного нерастаявшего снега пробивалась первая трава. В неожиданно
теплых сумерках возбужденно орали птицы и дети. Георгий чуть было не
покачнулся от мощной волны счастья, накрывшей его, что называется, с
головой. Жизнь! Вокруг него была жизнь -- сладкая и свежая, как арбузное
варенье. Он побежал в сторону шоссе, где носились забрызганные грязью
автомашины -- казалось, каждая машина визжит от счастья. Сразу же
остановилось гакси. Желтый цвет дверцы напомнил ему о лимонных дольках.
"Наша доля не доля, а Долька", -- подумал он, с трудом сдерживая смех. Что
же все-таки произошло? Он никогда особенно не интересовался ни Гитлером, ни
фашизмом.
Да Гитлер и фашизм тут были явно ни при чем. В видении было одно место
-- один фрагмент -- вроде бы складка на рубашке Гитлера, то ли на рукаве, то
ли на боку над ремнем. В этом месте было что-то такое... Если попытаться
определить точно, была в этом месте какая-то особая, необычная глупость --
какой-то брызжущий неземной идиотизм, действующий как пучок холодной воды из
шланга, пущенный в лицо. "Да меня просто рассмешили! -- догадался Георгий.
-- Это мой собственный инстинкт самосохранения рассмешил меня". Сидя в
такси, он решил составить запись о происшедшем в виде небольшого рассказа
или эссе, воспользовавшись несколькими незамысловатыми иносказаниями,
которые на радостях показались ему чудесными. Дома он сразу направился к
письменному столу выбрал белоснежный лист бумаги, взял перо и баночку туши и
аккуратно вывел заголовок:
Подумав несколько минут, он написал первую фразу:
"Как герой фильма, как Мистер Икс в маске, поспевающий всегда в
последний момент, чтобы спасти других героев (составной частью которых он
подспудно является), всегда неожиданно проявляет себя инстинкт
самосохранения. И никогда нельзя предугадать, какую личину он выберет,
поскольку он выбирает их на ощупь, без умысла, но безошибочно. Неужели этот
тщеславный трюкач никогда не ошибается? Надо полагать, о Боги, что он
старается не допускать ошибок, ибо в противном случае он серьезно рискует
остаться без зрителей, которые могли бы по достоинству оценить его
мастерство".
1987
Мой путь к Белоснежному Дому
Мне суждено было жить среди людей и стать президентом Соединенных
Штатов Америки. Наверное, следуя общепринятой логике, вы подумаете, что так
оно и сталось. Однако не все, что суждено, сбывается. Случаются и ошибки. Их
можно называть роковыми или странными в высшей степени -- что-то вроде
соскочившей в решающий момент каретки, перевалившейся на одно деление больше
или меньше металлической рамочки на эластичном термометре. Так случилось со
мной. Именно случилось. Несмотря на совершенно ясное предназначение, я
родился в другом мире, не среди людей, и в этом мире и провожу свою жизнь.
Так перещелкнулось. Конечно, теперь можно сказать, что я, мы, наши
Контактные Линзы находятся совсем недалеко от людей, за перегородочкой,
прямо у них за спинами. Но все-таки это совсем другой мир, другие существа,
другой тип существования, и в периоды детств и отрочеств я никогда не
подозреваю о том, что Наше так близко стелится к Вашему, проходит иногда
прямо по Задворкам Вашего, по самым Обочинкам -- незаметное и тонкое для
вас, во много кокетливых триллионов эфемернее паутинки для вас, а для нас
неизбежное и огромное. Мой мир, конечно же, может показаться "сторонним
наблюдателям" (такие, как это ни странно, есть -- о них речь впереди)
несравненно более великолепным, чем так называемая "земная жизнь", однако,
во-первых, "поросенку тоже казалось, прежде чем в рай попал", кажимости
наивны в повадках, а во-вторых, предназначение есть предназначение: я же
сказал, что мне суждено, на роду было написано родиться в мире людей и стать
президентом Соединенных Штатов -- я постоянно ощущал себя в своем мире
чужим: залетным носовым платочком, что ли?
Но сшибку, сделанную не мной, не было можно исправить. Скорее даже не
ошибку, а технологическую странность. И вот эта книга в руках у вас -- плод
героических усилий, исповедь нечеловека, повесть о том, как я, заведенный
неведомым ключиком, пролагал себе дорогу сквозь баснословные пространства
нашего края (букву "к" в последнем слове, читатель, вы можете
интерпретировать как сокращение от слов "китч", "кулисы", "кокетство",
"карликовый", "куцый" или просто выбросить ее из восприятия), стараясь всеми
силами, насколько это было возможно, имитировать карьеру президента США,
приблизиться к тому месту, которое в нашем мире называется БЕЛОСНЕЖНЫМ ДОМОМ
и которое я, повинуясь идиотской аналогии и пружинке предназначения, счел
местным адекватом резиденции главы вашингтонской администрации. Повторяю: я
чувствую себя идиотом, более того, я -- идиот, но я ничего не мог поделать с
собой, с этой пружинкой, видимо, заранее стилизованной в протестантском
духе, с этим сюжетом, с этой подготовленностью, пришедшей из предрождения, в
соответствии с которой я должен был стать упрямым янки, честолюбивым и
честным, заранее готовым на полностью откровенное описание жизни своей в
мемуарах. Теперь я знаю в общих чертах, КАК я должен был писать их перед
смертью в доме с ветром, возле зарешеченного огня, увертываясь от
впечатлений предсмертной болезни с помощью анестезирующих средств, -- ничто
из этого смешного плана не сбылось, но я видел почти все через КОСОЙ ЭКРАН в
"Коридоре Четвертого Заплыва". Простите за этот жаргон, целиком относящийся
к нашему миру, я обещаю, что все объясню, насколько это будет в моих силах,
-- бессмысленный героизм этого перевода, который я сейчас предпринимаю, вам
никогда не оценить, мой читатель.
Читатель, читатель! Не превращу повествование в гирлянду ласковых
упреков, но вам также никогда не оценить, насколько я честен. Эта честность
должна была стать честностью главы великого государства, хотя мой стиль и не
похож на стиль американца и, тем более, президента, но ведь припомните, что
я никогда не был человеком и не жил в вашем мире, не ел масла (было бы
меньшим краснобайством признаться, что я никогда ничего не ел), не знал
разделения на мужчин и женщин, на взрослых и детей, на одушевленные и
неодушевленные предметы, а также никогда не мог вполне оценить различие
между одиночеством и общением, между тишиной и шумом. Видите, как я обделен,
я никогда не ведал этих состояний в том смысле, какой вы вкладываете в их
называние. Я не знаю тишины и одиночества. Лишиться хоть на долю секунды
некоторых шумов, у которых есть имена и даже привычки, а также некоторых
вполне определенных музыкальных произведений -- для меня значит не быть. А
одиночество недоступно мне потому, что и так в мире, где я существую, кроме
меня никого нет. О, могут начаться недоразумения! Может быть, мне следовало
бы говорить "мы", а не "я", но это могло бы испугать вас, читатель, умеющий
общаться и быть одиноким. Не бойтесь, мы никогда не соприкоснемся с вами за
рамками этого текста. И вообще вам нечего бояться. Эта исповедь переведена в
ваш мир посредством достаточно сложной технологии, ценой поистине
неимоверных, хотя и забавных усилий, и только благодаря дурацкой
запрограммированности на эти "мемуары перед смертью". Мне не писать их
веснушчатой рукой старика в домике с ветром, мне не обладать тем рукавом,
той рукой, тем манжетом, той авторучкой, тем стилем. Мне не будет возможно
назвать их так просто, как они должны были называться -- "Мой путь к Белому
Дому". В нашем мире нет белых домов, есть только один Белоснежный Дом, а в
нем то священное место, которое я переименовал в Овальный Кабинет и
благодаря невероятным техническим возможностям коего вы, читатель, держите в
поле своего внимания данную повесть. А как оно раньше называлось, это
свяшенное место, переименованное мною в Овальный Кабинет? Об этом я расскажу
вам после, для перевода прежнего названия этого места нам потребуется
несколько страниц, но вы не пожалеете, дружок. Теперь вы, надеюсь, оценили
всю отдаленность наших ситуаций, всю трудность моей задачи, всю
маниакальность моего подвига, всю мою обделенность. Правда, есть и плюсы в
мою пользу. Вы никогда не сможете увидеть меня, а я вижу, именно вижу вас
всякий раз, когда вы общаетесь с этим текстом. Что-что, а мои созерцательные
возможности далеко превосходят ваши. Извините, но по сравнению со мной вы
чуть-чуть слепец. Впрочем, видеть, естественно, не означает правильно
понимать. И все-таки, при всем при этом, эта книга предназначена главным
образом для американцев. С моей стороны соблюдение хорошего вкуса не более
чем вежливость, и все-таки я бы пошел на сенсационность, на пошлость, и
назвал бы свою повесть как-нибудь вроде "ПОТЕРЯННЫЙ ПРЕЗИДЕНТ", если бы не
предназначение. То предназначение, которое и лишило тебя, мой несбывшийся
народ, одного из великих мужей и глав администрации, лишило посредством
происшествия, которое я с колоссальной долей неуверенности именую "ошибкой",
"случайностью", лишило возможно только для того, чтобы великодушно
поиздеваться надо мной и столь же великодушно развлечь вас, мой заиндевевший
читатель.
Дом перевернутых чучел, там, где я появился на свет
Да, я не уверен, называя причину моего попадания "не в тот мир"
"ошибкой" и "случайностью", но других названий у меня нет. Дитя этой
"ошибки", я родился в мир, ставший мне родным, единственным и огромным, в
месте, называемом ДОМОМ ПЕРЕВЕРНУТЫХ ЧУЧЕЛ. Ранее я запнулся на фразе, что в
нашем мире, кроме меня, никого нет. И сразу залепетал о возможных
недоразумениях! Надо сразу сказать (и это будет интересно американцам с
экономической точки зрения), что наш мир -- частный, в том смысле, что он
принадлежит целиком и полностью конкретным особам. Их двое, и в жаргоне их
чаще всего называют (конечно же, с долей юмора) ХОЗЯЕВАМИ АТТРАКЦИОНА. Хотя
я и не противник подобной фамильярности, все же буду впредь предпочитать по
отношению к ним местоимения Он и Она, оговорившись, что в это написание с
больших букв я не вкладываю ни капли сакрализации, столь распространенной у
вас, в земной юдоли. Они не боги, а всего лишь рачительные собственники
нашего мира и соавторы его усовершенствований. Также хочу предупредить о
том, что вряд ли выбранные мною местоимения указывают на то, что они
действительно обладают полом. И все же их образы свидетельствуют, что
когда-то, прежде чем приобрести наш мир, они немало времени провели за
спинами у людей. Вы не поверите, но эти владельцы нашего мира сами редко
навещают его, хотя их участие, их вежливость, их предупредительность не
поддаются описанию -- такой вежливости и такта, такой доброты в вашем мире
почти не сыскать. Чтобы дать хоть какое-то представление об их характере,
следует прежде всего произнести одно слово: ЗАСТЕНЧИВОСТЬ. И не просто
произнести, а осознать это слово как определенное пространство: ЗА СТЕНАМИ
ТЕНИ, если вы позволите, или ЗА ТЕНЬЮ СТЕН, как вам больше понравится. И
теперь, если вы представили это ментальное пространство пустым изнутри,
наполните его благожелательностью столь глубокой, на какую только способно
ваше воображение. Вернувшись мысленно к ЗАСТЕНЧИВОСТИ, вы без труда поймете,
что БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ в данном случае неразрывно связана с нежеланием
вмешиваться в чужие дела, привлекать к себе какое бы то ни было внимание,
связано со скромной сосредоточенностью и сдержанностью, с которыми они
относятся к своей собственности -- нашему миру. Я видел их всего лишь
несколько раз в своей жизни, долгое время до меня долетали лишь слухи и
обрывки слухов о них (мир наш в большой степени питается слухами,
порождаемыми шелестом и вздохами ПАРТЕРА, вечно восхищенного или смущенного,
а также перешептываниями в ЛОЖАХ и на БАЛКОНЧИКАХ), этим слухам и эху слухов
я не придавал особого значения. В период первого детства я вообще не думал о
них, затем стал думать, как о далеких богах, обитающих где-то не здесь.
После первой встречи с ними я стал придерживаться расплывчатого мнения, что
эти боги не столь уж далеки и что это невероятная удача, что они играют в
нашем мире роль некоего обслуживающего персонала. Тогда я не смог бы
догадаться, что они -- собственники нашего мира. Всякий раз, когда я видел
их, они напоминали обликом двух людей, словно бы по-настоящему выпрыгнувших
из земной юдоли, мужчину и женщину возраста около пятидесяти лет,
одинакового роста. Одеты они всегда были в темно-синее. Американскому
туристу-любителю Европы я позволю себе напомнить пожилых стюарда и
стюардессу из самолета швейцарской авиакомпании: такого типа одежду носят Он
и Она, но при этом не возникает мысли, что это что-то вроде униформы. Волосы
у обоих седые, аккуратно причесанные, у Него довольно коротко подстриженные,
у Нее -- напоминают букли. От жителей земного мира их отличает то, что черты
лиц невозможно рассмотреть, хотя они не закрыты и не отсутствуют. Нельзя
сказать также, что их лица пребывают в постоянной изменчивости. Сейчас,
когда я уже не считаю их богами и уверен, что почти ничего не знаю о них, я
допускаю даже, что они могут быть настоящими людьми, каким-то образом
занявшими столь странное положение. Правда, ничего такого уж прямо
катастрофически странного я здесь не усматриваю. Вообще гносеологическое
напряжение и огромное количество вопрошаний, с ним связанных, -- это атрибут
вашего мира, читатель. У нас в моде беспечность, и никто особенно не
повторяет так задумчиво фрагменты философских дискуссий, как это делают в
юдоли, разве только Шумы -- Шумы делают это постоянно, но к ним разве
применимо обозначение "кто-то"?
Возвращаясь к моей биографии, следует сказать, что место моего рождения
-- ДОМ ПЕРЕВЕРНУТЫХ ЧУЧЕЛ -- это одна из усадеб, оборудованных по Его и Ее
распоряжению, как я полагаю, специально для моего появления на свет. Кстати,
хочу предупредить вас, чтобы вы, если только у вас хватит сил на услугу, не
считали их супругами, -- хотя бы потому, что однажды при мне и в их
отсутствие их величал таким образом пресловутый Большой Треск -- особо
комичная в своей амбициозности конгломерация Символических Шумов,
продвигающаяся иногда по центральным балюстрадам в Кабинетах Второго и
Третьего Заплывов. Он назвал их буквально "Благороднейшей Супружеской Парой,
раскачивающей Имение Аттракционов в Чаше Беспочвенного Совершенствования" --
как хохотали и потешались потом над этим провальным китаизмом мои
подлокотнички, эти берсерки юного смеха.
Когда я родился, был такой страшный напор, что меня моментально
превратило в створчатый поезд. С человеческой точки зрения я тогда был
тусклым, как бы пыльным, но сам для себя переполнялся радостью и быстротой
-- даже не рассмотрел место, где появился на свет. Только потом, в период
воспоминаний, вернулся сюда, рассмотрел все подробно, изучил каждую мелочь,
и теперь никогда уже не забыть мне эти потоки зеленой тины, свисающие с
голов вечно живых и вечно улыбающихся оленей, растворяющихся в стене. Не
забыть этих набитых шариками льда лам, этих черных белочек; половина
условного тельца каждой положена на черный мрамор, другая половина на белый,
чтобы обыграть русскоязычный оксюморон "черная белочка". Я нашел там пять
совершенно запылившихся (в нашем мире много пыли) синих конусов, украшенных
на остриях бантами из золотых лент. Это были такие милые, такие трогательные
подарки к рождению от Хозяев Аттракциона, смущенных лордов этих бесконечных
усадеб. А тот, торопливый новичок жизни, даже не удосужился заметить их
тогда, промчался мимо. Все новорожденные -- это такие возбужденные,
восторженные поезда, не знающие расписаний и не замечающие станций. Я и был
"все новорожденные", недаром впоследствии я всегда сладко хохотал от подобия
щекотки всякий раз, когда на глаза мне попадалась линза с застывшей копией
картины "Избиение младенцев", размещенная в моем "Овальном Кабинете".
Несостоявшийся американец, я всегда влюблялся с первого взгляда в плоды
европейской культуры. Из Европы к нам прислали столько железных дровосеков,
на конях и пешком, чтобы они щекотали пиками россыпи моих юных трупиков. А
среди подарков был маленький американский флажок на золотой игле. Это очень
жалко, что я не смог иметь содержимое синих конусов чуть раньше: возможно,
моя судьба в медитациях развернулась бы немного иначе, особенно мой флажок
на золотой игле, чья ткань была тверденькая... Я, знаете, такую нежность
испытываю к тем подаркам, ТАКУЮ нежность!
Бинокль и Монокль I*
Тем же представителям первой команды, у кого и сейчас дела в полном
порядке, можно, не опасаясь подвохов, на время оставить работу и отправиться
в отпуск. Отдых будет великолепным. Перед вами буквально разверзнется море
любви.
Из гороскопа
Юрген фон Кранах, молодой офицер СС, летел в самолете над Россией.
Большие пространства, новые территории, недавно присоединенные к рейху,
расстилались внизу, под крылом самолета. Поля, леса. Новый Свет. Европейская
Америка. Загадочный Остмарк. Юргену было двадцать девять лет. Он родился в
Восточной Пруссии, в поместье отца. В детстве ему приходилось жить и в
Санкт-Петербурге, в доме деда, который был генералом русской службы, и в
горах Швейцарии, где мать его лечила астму. Но возвращались неизменно в
"родовое гнездо". Он рос мечтательным, был способен к языкам, читал все
подряд: русские и французские романы, немецкие стихи, английские детективы.
В 16 лет он сбежал из "родового гнезда" -- сначала в Марбурп вроде бы
учиться философии. Буршеская жизнь и лекции -- все это пришлось ему по душе,
но городок был мал, и молодому человеку стало душновато. Как-то, находясь
под воздействием хорошего белого вина, не попрощавшись с квартирной
хозяйкой, он укатил в Берлин. Он привык скрывать свой возраст, всегда
прибавлял несколько лет, когда его об этом спрашивали. Берлин он полюбил
сразу и страстно, так же, как позднее Париж. Вскоре услужливо подкатило и
наследство. Он был, в общем, красавчик, не испытывал нужды в деньгах и жил
весело. Чтобы казаться немного старше, носил монокль (хотя видел отлично) и
тонкие, холеные усики. Это соответствовало его облику хлыща, светского
бездельника. У него было все -- любовницы, верховая езда, коллекция стеков,
друзья. Нередко ему задавали вопрос, не является ли он потомком великого
художника? Нет, он не был родственником великого художника. Белые, немного
искривленные тела и курносые лица девушек, изображенные на темном, почти
черном, фоне,казались ему непривлекательными, даже отталкивающими. Он любил
румяные, живые девичьи лица, темные, горящие весельем женские глаза, вечно
улыбающиеся губы. Он любил француженок, а иногда -- испанок. Ему нравилась
живопись Ренуара, и он считал, что художники немцы, его соотечественники,
все эти Либерманы и Штуки, все это, мягко говоря, оставляет желать и вообще
попахивает мертвечиной. Итак, он не был чересчур патриотом. И, как
берлинское небо в мае, сладострастно и весело струились над ним двадцатые
годы. Но быстро промелькнул их остаток, этот усыпанный блестящей сольцой
хвостик, и нагрянули тридцатые. Заранее не хотелось идти в армию, а война
была на носу. К тому же подтаивали деньги, даже не на что было купить новые
перчатки. Юрген вступил в нацистскую партию и вроде бы, под влиянием друзей
и родных, решил взяться наконец-то за ум и сделать карьеру в СС.
Сначала ему не нравилось, было скучно, и шаловливая мыслишка "А не
сбежать ли в Америку?" иногда посещала его. Он был, конечно, романтик, и
грезились ему какие-то безграничные просторы, безлюдные новые земли,
одиночество, красный загар и девушки-индианки, пахнущие костром... Подальше,
подальше от унылых казенных коридоров, от отчетов, от сейфов, от печатей, от
аромата канцелярской штемпельной краски!
Но, постепенно, он увлекся; как говорят в Советском Союзе, "втянулся в
работу".
Он обнаружил, что его новая деятельность (а он работал в системе
контрразведки) связана с игрой ума, с аналитическими способностями, с
концентрацией внимания. Это ему понравилось. Мир интеллекта, почти позабытый
со времен Марбурга, снова развернулся перед ним, сверкая своими трубчатыми
огнями, как полярное сияние. Его мозг, как выяснилось, не ослабел за годы
праздности и волокитства. Та же превосходная память, все та же самая
проницательность и смелость сопоставлений -- весь этот набор, которым он
иногда приятно поражал профессоров. Но теперь он имел дело уже не с
отвлеченными философскими конструкциями, а с реальными людьми и
обстоятельствами.
И все указывало на то, что его способности весьма успешно развиваются
на этом практическом поприще. -- Да, да, Юрген, -- то ли с легкой грустью,
то ли со смущенной радостью говорил он себе. -- Вам, милый мой, несомненно
идет роль канцелярского сыщика. Чтобы развлечь себя, он изучал
криминалистику, практиковался в языках, в тибетской медицине -- во всем, что
казалось ему связанным с его работой. Ему не очень нравился оккультизм,
столь популярный среди его коллег, он предпочитал театр: со временем,
реагируя на рутину службы, он стал теат-\романом. С театром связаны были и
его любовные приключения, но теперь он уже не был так беспечен, как в
юности.
Подобно многим людям, успешным в любви, он больше ценил карьеру, для
которой необходимо было обладать хотя бы внешним подобием моральной чистоты
и безупречности. Имея "связи, порочащие его ", он умело скрывал их, что
приправляло жизнь веселым привкусом риска.
Желая "окунуться с головой в русский язык", он взял с собой в Россию
второй том "Войны и мира" -- неплохое берлинское издание в переплете
песочного цвета. К тому же во втором томе затронута была тема русских
партизанских отрядов -- эта тема его, с недавних пор, интересовала с
профессиональной точки зрения.
Русские ему вообще нравились. Он помнил помпезный военный дух
дедовского дома. Если бы не большевики, он, как и его предки, мог бы
сражаться сейчас на стороне русских -- но, к несчастью, в России воцарился
необразованный коммунизм. В Берлине у него была связь с одной женщиной, ее
губы всегда пахли табаком и ликером. Она была русская, из полубогемной
среды. "Moj forforovij malchik" -- говорила она Юргену. Двое офицеров
встречали Юргена на военном аэродроме под Витебском. Одному из них
предстояло стать его помощником.
Его реальное звание и принадлежность к СС здесь не следовало особенно
афишировать, он был офицером, якобы прикомандированным к Управлению Военной
Почты, прибывшим в Россию для усовершенствования почтового сообщения. На
самом деле ему предстояло изучить на месте вопрос о нескольких партизанских
группах, доставивших в последнее время некоторые неприятности тылам
вермахта. В первую очередь руководство хотело знать, находятся ли эти группы
в ведении московского НКВД или же действуют самостоятельно. Короткий список,
полученный им в Берлине, состоял всего из четырех пунктов, причем все они
были закодированы в "почтовом" духе. Последний пункт был подчеркнут. Этот
пункт четвертый -- "мягкие бандероли" - означал группу Яснова. Именно на нее
и должно было быть направлено основное внимание Кранаха.
Управление Военной Почты, куда командировали Кранаха, в это время
размещалось в Могилеве. Название города неприятно поразило Юргена, да и сам
город производил тягостное впечатление своей военной расхристанностью.
Впрочем, ему отвели для жизни отдельный домик, довольно опрятный. В Берлине
у него было две униформы -- черная и оливковая. Он предпочитал оливковую,
считая черную немного смешной. В Россию он приехал в простенькой серой
униформе и в такой же шинели с черным воротником. Шинель и униформа были
специально подобраны немного поношенными. Он называл себя теперь
"почтальонским майором", внутренне усмехаясь над наивностью своего
начальства, придумавшего этот маскарад. Мышиная шинель с коротковатыми
рукавами странно контрастировала с его походкой, с его стеком, с его
моноклем. Монокль, впрочем, с самого начала службы вызывал нарекания.
-- Юрген, вы же не армейский генерал, -- сказали ему. -- В нашем
ведомстве работают скромные люди.
В ответ он сбрил свои изящные усики, но с моноклем не разлучился -- так
хранят лепесток, упавший на страничку неоконченного письма в последний день
молодости.
Большую часть времени он теперь проводил в Управлении полевой полиции и
в специальном отделе СС по борьбе с партизанскими формированиями --
просматривал кипы бумаг, делал выписки, внимательно читал стенограммы
допросов. Сам допросил несколько человек. Но этого было недостаточно --
чертовски недостаточно! Везде в делах, посвященных пленным партизанам, он с
раздражением наталкивался на краткие пометки "Повешен", "Расстрелян по
приказанию такого-то" и тому подобное. Как-то раз он даже устроил скандал в
полицейском управлении, стучал стеком по столу, выкрикивая: "Расстрелян!
Повешен! Расстрелян! Повешен! Все нити оборваны! Как прикажете с этим
работать?!" Отчасти он воображал себя в эти минуты Шерлоком Холмсом,
распекающим тупиц из Скотленд-Ярда, которые неуклюже затоптали все хрупкие
следы истины -- хрупкие, как испарина на стекле парника. "Скотлендярдовские"
смотрели на него устало и равнодушно. Да и гнев его был неискренен. Он
понимал, что их работа ужасна, что психологические нагрузки чудовищны.
Многие в полевой полиции тяжело пили. Им приходилось совершать слишком много
жестокостей по отношению к людям безоружным. Один коллега -- крепкий,
голубоглазый Гюнтер Хениг -- жаловался, что ежедневно ему приходится
расстреливать от пяти до тридцати человек, включая стариков, женщин и детей.
Это давалось ему нелегко -- от него постоянно пахло водкой. Фон Кранах
посоветовал ему пить липовый отвар и научил йоговским дыхательным
упражнениям. Сам он после начала войны не выпил ни капли алкоголя, бросил
курить, каждое утро обливался холодной водой.
Он распорядился, чтобы все пленные партизаны немедленно доставлялись к
нему на допрос. Он требовал, чтобы к ним не притрагивались заплечных дел
мастера, которых он обзывал агентами НКВД. Он также приказал доставить ему
дела всех бывших партизан, находящихся в лагерях для военнопленных.
Каждый вечер он сидел над картой, отмечая на ней места тех или иных
партизанских акций, крупных и мелких диверсий. Остро отточенные цветные
карандаши были разложены перед ним: он соединял разноцветными линиями точки
на карте, высчитывая предполагаемые маршруты, места стоянок, лесные убежища,
деревни, "подкармливающие" бандитов. Он работал напряженно и эффективно. За
две недели он отослал в Берлин три рапорта с подробными выкладками
относительно нескольких партизанских отрядов. Два, по его мнению, не
представляли собой серьезной опасности, это была "крестьянская
самодеятельность". Третий, как свидетельствовали специалисты, работавшие на
радиоперехвате, руководился из Москвы -- его следовало ликвидировать в
кратчайшие сроки. Но пункт четвертый -- подчеркнутый жирной чернильной
чертой в берлинском списке -- пункт четвертый оставался непроясненным.
-- Мягкие бандероли, -- задумчиво повторял Кранах, постукивая желтым
карандашом по стакану с липовым отваром. -- Мягкие бандероли. Гибкие,
извивающиеся бандероли. Верткая бандерилья. Мягкая банда.
На его рабочем столе громоздилось все больше папок, отмеченных желтым
кружком -- дела, предположительно или наверняка связанные с отрядом Яснова.
Сопоставляя известные ему факты, узнавая некий общий стиль,
объединяющий различные диверсии, Кранах задумывался все глубже. Этим отрядом
командовал или гений, или сумасшедший. Действия его были непредсказуемы.
Отряд то исчезал куда-то и бездействовал месяиами, то перемещался по
оккупированной территории с фантастической скоростью, причем иногда
казалось, что в этих многокилометровых перемещениях нет никакого смысла.
Акции, предпринимаемые этим отрядом, приносили войскам немалый вред и
довольно существенно дестабилизировали обстановку на этом участке немецкого
тыла. В командовании отрядом явно участвовали профессионалы. Но интуиция и
некоторые логические соображения подсказывали фон Кранаху, что у этого
отряда нет постоянной связи с Центром в Москве. Возможно, "мягкие бандероли"
объединяли русских патриотов, профессиональных военных, не желавших
подчиняться сталинскому руководству, ушедших в леса, чтобы вести
собственную, безумно дерзкую и независимую "маленькую войну". Кранах был
прежде всего романтиком: он чувствовал себя влюбленным. Влюбленным в "мягкую
банду", заочно влюбленным в ее загадочного командира. Его романтическое
воображение рисовало ему то старого царского генерала, закаленного в боях и
опытного, схоронившегося в глуши все годы большевистских репрессий, а сейчас
вышедшего из подполья с потрепанным императорским штандартом в руках. То
представлялся ему бывший белогвардейский поручик, бесшабашный атаман,
которому сам черт не брат и который за Mutter-Russland готов на все. А
иногда -- отчаянный комбриг Красной Армии, порвавший с конопатым тираном и
ушедший с верными людьми в леса.
Пока Кранах трудился, анализировал и мечтал, партизаны не сидели сложа
руки. Здание Управления полевой полиции в Могилеве несколько раз пытались
поджечь, правда, не очень удачно. А через несколько дней погибла целая
группа из оперативного отдела СС. Вместе с ними не вернулся с задания Понтер
Хениг, которого в городе называли просто Зверем. Зверь был в упор расстрелян
из автомата в одном из могилевских переулков, а на его теле найдена была
записка: "Так следует поступать с диким зверем, вырвавшимся из своей
железной клетки". Эта записка теперь лежала на столе Кранаха -- листок
простой бумаги, почерк красивый, четкий, прилежный. Подобным образом пишут
девочки-отличницы. И что за "интеллигентный" стиль, нелепый в данном случае
-- "Так следует поступать..."!
Кранах вышел из своего кабинета, который он, по негласному соглашению,
занимал в здании полицейского Управления, прошелся по коридору, где всегда
пахло школьной мастикой. Управление размещалось в здании бывшей гимназии. В
частности, Кранах занимал химический кабинет. Его окружали реторты, тигли,
шкафы с пыльной химической посудой. Прямо из его рабочего стола торчали
металлические краны, предназначенные для проведения химических опытов.
Кранах называл Управление Скотленд- Ярдом, остальные служащие называли его
просто Школой. В Школе был свой юмор. Хенигу, которого в городе прозвали
Зверем, здесь дали кличку Анатом. Ему был отведен кабинет анатомии, откуда
нередко доносились крики. Теперь там было тихо -- Зверь-Анатом, носивший
сладкое имя Мед, более не существовал. Держа в зубах желтый карандаш, как
другие держат незакуренную сигарету, Кранах зашел в кабинет анатомии. На
покоробившихся от школьной сырости наглядных пособиях люди без кожи
поблескивали своими розоватыми мускулами, щеголяли красными артериями и
холодными голубыми венами. Комната еще не знала, что хозяин убит. В глубине
класса стояла походная койка, застеленная тщательно, посолдатски (Зверь
часто ночевал в Школе). На одной из парт были аккуратно размещены его вещи:
дешевый серебряный портсигар, принадлежности для бритья, зеркальце, зубная
щетка, круглая коробочка с зубным порошком. Внутри парты, завернутые в
чистое полотенце, лежали две непочатые фляги со шнапсом. На шкафчике стояла
фотография жены и детей Понтера: нежное и честное женское лицо, ситцевое
платье, светлые детские головки, как капустные кочанчики... Рядом с
фотографией стоял недопитый стакан с остывшим липовым чаем. Это тронуло
Кранаха -- Понтер послушался его совета, такого, в общем-то, бессмысленного
совета.
Кранах вынул фотографию молодой женщины с детьми из рамки и положил в
карман мундира. Он не знал, что в Школе его самого сначала называли Юнкером,
Моноклем, Стекляшкой, а после того, как он обжился в химическом кабинете, за
ним окончательно утвердилось прозвище Химик. Вскоре он отправился в Витебск,
чтооы лично допросить нескольких человек, находящихся в тамошнем лагере для
военнопленных. Он тщательно готовился к допросам, долго выбирал помещение.
Наконец остановился на маленькой светлой комнатке во флигеле одного бывшего
помещичьего дома. Окно без решетки выходило в заснеженный сад. Печурка
шуршала своими остывающими угольками. Письменного стола не было -- только
небольшое ореховое бюро прошлого века. Он продумал и собственный внешний
вид: мышиная униформа была сослана в шкаф, монокль спрятав в ящике бюро.
Вместо этого он облачился в найденный где-то старый свитер грубой вязки, с
кожаными заплатами на локтях. Горло обмотал шарфом, решив, что будет
говорить с партизанами тихо, изображая простуженного. Ссутулившись,
нахохлившись, сидел он в углу дивана, когда вводили очередного героя. Он был
как больной взъерошенный попугай, забившийся в темный угол клетки.
Потом появлялся ординарец, держа поднос с чашками и фарфоровыми
чайниками.
-- Черный чай или, может быть, липовый цвет? -- Кранах жестом предлагал
пленному выбрать между двумя чайничками. Говорил он с подчеркнутым немецким
акцентом, чтобы они, не дай Бог, не подумали, что он русский, предатель.
Все эти сценические усилия (страсть к театру давала о себе знать) не
пропали даром.
-- Допрос это как обольщение девушки, -- сказал Юрген одному
гестаповцу. -- Важна каждая деталь. Одна погрешность -- и сердца уже никогда
не забьются в унисон.
-- Когда я бью человека, наши сердце всегда бьются в унисон, -- сострил
гестаповец.
-- Фраза, может быть, и хороша, да только много ли вы добились? --
заметил на это Кранах.
Сам он был своими результатами доволен. Он многое разузнал. Но главное
-- главное был один пленный...
Его ввели в комнату с ореховым бюро, и Кранах сразу ощутил дрожь
ищейки, которая взяла след.
-- Чай или липовый цвет? -- спросил он с заученной любезностью,
указывая пленному на кресло.
-- Все у вас тут липовое, -- вдруг громко и грубо ответил заключенный.
На
лице у него.как у прочих, были синяки и ссадины, он был, как и все,
грязен и зарос щетиной. Но, в отличие от других, лицо под щетиной у него
было жирное и странно лоснилось, а глаза живо блестели, а не убито и свято
лучились.
Охрана удалилась, оставив их наедине.
-- Не скрою, здесь есть кое-что от театральной сцены, -- признался
Кранах, обводя рукой комнатушку. -- Но ведь и вы -- актер, хорошо знающий
свою роль.
-- Я не актер. Я врач, -- был угрюмый ответ.
Таких быстрых и ценных признаний Кранах еще не слышал в этом флигеле. У
него была интуиция -- и он мгновенно поверил.
-- Вы -- врач, -- задумчиво и тихо проговорил он. -- Ваше призвание --
смягчать страдания. А вокруг нас -- море страданий, море жестокости, которая
не дает вздохнуть... Кажется, людей кто-то подменил. Или что-то подменило.
Как говорил Платон Каратаев... Вы, конечно, читали "Войну и мир" Толстого?
-- Платон Каратаев был мудак, -- грубо сказал заключенный. -- Толстой
тоже был мудак. Вы знаете, что такое "мудак"? Кранах кивнул.
-- Вот. А что касается людей, то никаких людей нет и никогда не было --
это мы все в лесу твердо выучили. Кранах с трудом удержался, чтобы не
заерзать на месте цт возбуждения -- его собеседник раскрывал все свои карты.
"Мы все в лесу". Эта фраза стоила недешево.
-- Вы лечили партизан? -- спросил он.
-- Лечил, -- все так же мрачно сказал врач. -- Один лечит, другой
калечит.
-- Было много работы? -- осторожно спросил Кранах.
-- Хотите спросить, много ли в отряде было бойцов?
-- Было? -- переспросил Кранах.
-- Нет больше отряда-то. Всех ваши поубивали, -- с этими словами врач
нагло развалился в кресле и попросил закурить. Он, видимо, собирался быть
дерзким. А может быть, он и в самом деле был груб и дерзок.
-- Позвольте вам не поверить, -- мягко сказал Кранах, подавая
собеседнику коробочку папирос и спички. -- По моим сведениям, отряд, к
которому вы принадлежали, продолжает действовать. Хотите выпить? У меня есть
неплохой коньяк. Он достал заранее приготовленную импозантную бутылку.
-- Налейте, если от доброго сердца, -- ответил пленный. Он выпил рюмку
довольно равнодушно и теперь дымил папиросой.
Кранах помолчал, как бы давая врачу понаслаждаться. Тот сам прервал
паузу.
-- Зря вы меня ублажаете, -- сказал он. -- Я вам ни хуя не скажу.
Можете меня побыстрее расстрелять или там что хотите. Я из тех, кому жизнь
не мила. А боли я не чувствую. Психогенная анестезия -- знаете такой термин?
Отключаюсь -- и все. Не верите? Прикажите позвать пытаря.
-- Я вам верю, -- сказал Кранах (хотя на этот раз не слишком поверил).
-- Вы этому научились или это врожденное?
-- Научился. Всему можно научиться, если есть хороший учитель. --
Пленный выпустил колечко.
-- А кто был вашим учителем? -- участливо осведомился Кранах.
-- Старик Арзамасов был такой. Гениальный врач, единственный в своем
роде. Его ваши повесили в одной деревне. Я сам видел, как он болтался в
петле.
-- Да, мы много вам сделали плохого, -- задумчиво сказал Кранах. -- Но
вам -- не только мы. Вас унижали и до войны. Вы же интеллигентный человек и
понимаете, конечно, что Сталин и его компания не лучше нас.
-- Не такой уж я интеллигентный, как вам кажется, -- был ответ.
-- Мы с вами уже довольно долго беседуем, а до сих пор не представились
друг другу. Моя фамилия -- фон Кранах.
-- Кранах. Амур на черном фоне. -- Заключенный угрюмо ухмыльнулся.
-- Видите, вы все-таки интеллигентный. Ваш тип юмора выдает вас.
Позвольте узнать ваше имя?
-- Коконов моя фамилия. Алексей Терентьевич.
-- Так вот, Алексей Терентьевич, что я хочу вам сказать -- и поверьте
мне, без всякого актерства. Вы, допустим, не страшитесь смерти и боли.
Однако в жизни есть вещи, которые мы боимся потерять. Есть боль утраты, от
которой психогенная анестезия нас не сможет защитить. Жизнь только тогда
перестает быть "жизнью вообще", до которой никому нет дела, и становится
"нашей жизнью", когда сердце поймано на крючок, как рыбка рыбаком. Коконов
впервые за весь разговор взглянул на Кранаха.
-- Что вы этим хотите сказать? -- спросил он.
Кранах почувствовал, что пробный выстрел был неплох.
-- Некоторые мысли бывает трудно выразить на чужом языке. Мы все
смеемся над детскими сказками, где появляется фея, исполняющая желания. Но
смеемся только потому, чтобы скрыть нашу боль -- боль неисполненных желаний.
-- Я вас не понимаю, -- сказал Коконов. -- Вы что, предлагаете мне
услуги вашего полкового борделя? Неужели он так хорош?
-- Вы меня наверное понимаете лучше, чем я сам себя, -- ответил Кранах.
-- Впрочем, все просто. Мне нужна ваша помощь. В свою очередь, я хотел бы
помочь вам. Отнеситесь к этому с юмором. Русский черный юмор это вторая
религия. Я, в данном случае, это нечто вроде сказочной феи, исполняющей
желания.
-- В лагере, где я нахожусь, люди мрут как мухи от голода и болезней.
Многочисленные феи в немецких униформах старательно приближают их к смерти.
Так что ваш брат немец тоже пошутить не дурак.
-- Вам больше не надо будет возвращаться в лагерь, -- промолвил Кранах,
вынимая из ящика бюро остро отточенный желтый карандаш. -- И вообще, многое
должно измениться. Эти изменения неизбежны. Руководство в Берлине должно
понять, что Россия не может стать набором оккупированных территорий. Нам,
немцам, никогда не бывать хозяевами России, а если бы это и было возможно,
то это не принесло бы нам никакой пользы. Немцы и так достаточно развращены.
Господство, основанное на насилии, привело бы к молниеносной деградации.
Немцы, как нация, исчезли бы с лица земли, сгнив под ногами собственных
рабов, как это произошло с римлянами. Мы должны переоценить свою роль в
отношении России. Для нас это вопрос жизни и смерти. Мы должны осознавать
себя не поработителями, а освободителями России от коммунистической
диктатуры. Мы должны уничтожить большевизм, стереть тиранов и уйти. Но для
этого немецкой армии недостаточно, хотя это самая сильная армия мира на
сегодняшний день. России нужна свобода, но прежде всего России нужна армия.
Новая русская армия, которая сражалась бы плечом к плечу с нами, немцами,
против большевиков, против коминтерновских банд, против всесильного НКВД.
Сейчас немцы не считают вас за людей, морят в лагерях. Этим они обрекают
себя на гибель. Вы видите только одну сторону спектакля. Я наблюдаю обе. Я
вижу спивающихся гестаповцев, я вижу растерянность и тупость, неумение
разумно воспользоваться победами и достойно переносить поражения. Я наблюдаю
великое падение немецкого духа. Поэтому когда я обращаюсь к вам за помощью,
я думаю прежде всего о немцах, о судьбе Германии. Только сражаясь вместе
против общего врага, наши народы смогут обрести достоинство. Мой дед, немец
до мозга костей, был русским генералом. Он готов был умереть за русского
царя.
Сейчас многое зависит от нас -- от вас и от меня. В Берлине уже
рассматривают проект создания свободной русской армии. Мы можем спасти
миллионы жизней, упразднить лагеря, предотвратить величайшие ошибки и
преступления. Мы хотим привлечь всех подлинных патриотов России -- и тех,
кто находится в эмиграции, и тех, кто скрывается в подполье, и тех, кто
предпочел судьбу вольных стрелков в зеленых русских лесах. В ваших силах
способствовать моей встрече с командиром партизанского отряда, к которому вы
принадлежали. Я согласен на все -- отправиться в лес, один, без оружия. Я
тоже не боюсь смерти. Кстати, как его зовут?
-- Кого? -- тупо переспросил Коконов.
-- Вашего командира.
Коконов на этот вопрос не ответил. Его жирные пальцы перебирали бахрому
кресла. Кранах чувствовал, что его пылкая речь произвела некоторое
впечатление. Он пожалел, что перебил себя вопросом об имени командира.
Сделав усталое лицо, он налил полчашки липового отвара и стал отпивать
мелкими глотками.
-- Вы что, больны? -- вдруг отрывисто спросил Коконов.
-- Нет. Был немного простужен. Но сейчас это почти прошло...
Коконов вдруг осклабился и резко придвинул свое лоснящееся лицо к лицу
Кранаха. Глаза его блеснули.
-- Вы предлагаете мне что-то вроде договора. Но я -- врач. Единственная
возможность договориться с врачом -- это стать его пациентом.
Кранах от неожиданности даже слегка отшатнулся. Теперь настала его
очередь удивиться.
-- Я не совсем вас понимаю, -- сказал он, невольно повторив недавнюю
фразу своего собеседника.
-- Я соглашусь на сотрудничество с единственным условием -- я буду
лечить вас. Впрочем, мы будем лечиться вместе.
-- От чего же мы будем лечиться? -- спросил Кранах.
-- Когда вылечимся, узнаем, -- лихо ответил Коконов.
-- О каком, собственно, лечении идет речь? Нельзя ли поконкретнее?
-- Можно поконкретнее. Ваши коллеги на допросах применяют медицинские
препараты. Я беру эту роль на себя: я сам буду себя допрашивать. Вы же
будете моим ассистентом. Поэтому прикажите немедленно принести два шприца и
две ампулы с раствором первитина. Я сделаю инъекции вам и себе. После этого
я расскажу вам немало интересного. Ну что, по рукам? Ловите свой шанс. Да
или нет? Несколько минут Кранах сидел неподвижно, размышляя. Предложение
было безумным, и, согласившись, он бы подписался в своем безумии. Но он не
привык отступать, и безрассудство было у него в крови. Он был не менее
бесшабашным, в конце концов, чем эти баснословные варвары. Кранах вызвал
ординарца и распорядился. Приказание было выполнено довольно быстро: военный
врач находился тут же, в здании, как и положено было по инструкции.
Металлический стерилизатор с двумя шприцами, заботливо обернутый
марлей, тонкие ампулы с первитином, помеченные значками имперского
управления полевой медицины, -- все это сразу придало комнатке вид
врачебного кабинета. Коконов, входя в привычную роль врача, тщательно мыл
руки в углу, что-то напевая себе под нос.
Он начал с себя -- ловко стянул левую руку повыше локтя свернутым
полотенцем и, придерживая узел зубами, правой рукой ввел в вену
раствор. Затем откинулся в кресле, неторопливо, чинно закурил, видимо
наслаждаясь действием наркотика. Посидев минут пять, повернул лицо к
Кранаху.
-- Ну что ж, батенька, пожалуйте ручку.
Коконов изменился теперь -- лицо посветлело, взгляд стал
профессионально-ласковым и уверенным. Кранах действительно вдруг
почувствовал себя пациентом. Он заколебался, но Коконов смотрел на него
властно спокойно. В правой руке он осторожно, на отлете, держал полный шприц
Кранах стащил через голову свитер, стал медленно заворачивать рукав белой
рубашки.
-- Я могу рассчитывать на ваше слово врача, что после инъекции вы
честно расскажете мне всевозможные детали относительно того партизанского
отряда, в котором вы были? -- спросил он несколько беспомощно.
-- Расскажу, расскажу. Куда ж я денусь? Раз обещал, значит, расскажу,
--уютно ответил врач и ввел иглу.
Кранах успел подумать, что жизнь его в этот момент передана им во
власть неприятеля, а, может быть, и сумасшедшего. Но уже в следующее
мгновение волна цветочного аромата захлестнула его. Это был аромат горной
фиалки. Зажимая место укола кусочком ваты, смоченной в коньяке, Кранах лег
на диван. Ему казалось, что он стремительно несется куда-то. Благоухание
пошло на убыль, но зато внутри словно бы распахнулось окно... Окно, огромное
белое окно, откуда хлынул чистый горный воздух. Пришло время Большого
Вздоха. Он не знал раньше, что в жизни есть такое. Он не подозревал, что
может быть так хорошо, легко и просто.
Это было совсем не похоже на опьянение. Это была трезвость, абсолютная
высшая трезвость, готовность отдать себе отчет во всем. Разум словно встал
из могилы, вытянувшись в струнку, как рядовой, увидевший генерала, и,
отдавая честь, шагнул вперед, преданно глядя в белизну Окна. Юрген закрыл
глаза. Легкость. Тело стало совсем детским, портативным, складывающимся как
легкая сухая линейка. На высветленной плоскости он быстро превращался в
букву -- сначала это был замысловатый родовой вензель, но избыточные завитки
втягивались в тело основной буквы, росчерки подтягивались к центру,
сворачивались. Вскоре это была строгая четкая буква К -- начальная буква его
фамилии. Но вот две боковые косые черточки сложились, втянулись обратно в
основной столбик буквы, и Кранах стал линией, точнее, он стал отрезком, и он
становился все тоньше -- его края таяли, как края обсосанного леденца,
слизываемые белизной, только в центре отрезка еще теплилось черное. Он
сокращался до точки. И он стал точкой -- одинокой точкой на бескрайней и
неопределенной поверхности.
Чтобы окончательно не исчезнуть, он открыл глаза и приподнялся. Комната
казалась чище и реальнее. Привкус бутафории исчез. Белизна снега лилась в
окно, будто молоко из швейцарского кувшинчика. Дощатый пол тщательно и
любовно поддерживал предметы. Мебель стояла, осторожно расставив ноги, как
жеребята. Печка еще хранила в себе тепло. Стены по-зимнему похрустывали.
Коконов пушистым дедушкой сидел в кресле, попивая чай из чашки с золотым
ободком. В перерывах между глотками он тихо и монотонно напевал песенку,
наверное заимствованную из какого-то антинемецкого раешника:
У фрау Линден день рожденья.
Она гостей к себе зовет,
И вот варенье и печенье
Она поставила на стол.
И от гостей своих желанных
Она ждала подарков славных,
И гости вечером пришли
И, как один, ей принесли:
Бумажки, склянки, тряпки,
Осколки, ремешки,
Объедки, банки, гвоздики
И рваные мешки.
Очистки, шкурки, ящики,
И скорлупу и хрящики,
Короче, всякое старье.
Которому пора в у-тиль-сырье!
В боях ни разу не был ранен
Один немецкий генерал,
Но вдруг кусочек русской бомбы
Ему полчерепа сорвал.
И вот об этой страшной вести
Трубили все газеты вместе.
Вот хоронить его пришли
И в голове его нашли:
Бумажки, склянки, тряпки.
Осколки, ремешки.
Объедки, банки, гвоздики
И рваные мешки.
Очистки, шкурки, ящики,
И скорлупу и хрящики,
Короче, всякое старье,
Которому пора в у-тиль-сырье!
Кранах встал, подошел к окну, чтобы посмотреть в сад. Он двигался
осторожно, словно боясь расплескать полную крынку. Красота заснеженных
деревьев тронула его. И эта ограда -- чугунная, витая... Нежные, зимние
сквозняки сочились сквозь старую раму. Дружелюбные, игривые. Он захватил с
собой к окну чашку с липовым чаем. Отпил немного. Любимый с детства вкус
словно бы открылся ему заново. Ему хотелось бы обмакнуть в этот чай кусочек
печенья -- того, незабвенного, имеющего вид ракушки, из которой, как
жемчужина-на-пружинке, родилась Венера на картине Ботичелли. Он так любил
это новорожденное бледное лицо и золотые волосы, на которые, как на горячий
чай, дуют ангелы.
Она родилась из ракушки, как память, точнее как подсказка. Если бы
картина Ботичелли изображала море как театральную сиену, то раковина
оказалась бы на месте суфлерской будки. Эти загадочные кабинки, которые он
столько раз видел в театре, часто имеют такую же форму. Любовь это шепот
Суфлера, Подсказчика, отливающийся в форму женского тела
всегда новорожденного и зрелого одновременно.
Ракушка, зонтик, цветок -- это расходящиеся от центра, плотно
сомкнутые, закругленные лепестки... В детстве болезненная старая тетушка,
похожая лицом на мраморного льва, говорила что-то об аромате лип и пении
морских раковин, о жемчуге, который нужно класть за щеку, чтобы всегда быть
здоровым и жить вечно. Увлеченный воспоминаниями, Кранах не сразу заметил,
что за его спиной Коконов уже давно о чем-то толкует. Это врач-самоучка
рассказывал о том, о чем Кранаху так страстно хотелось услышать -- о
партизанском от-
ряде Яснова.
Есть распространенное выражение "усталые, но довольные". Кранах
вернулся в Могилев измученным, но ликующим. В руках у него была папка,
набитая листками грубой сероватой бумаги, напоминающей оберточную. Все
листки были исписаны желтым карандашом -- почерк Кранаха, обычно четкий и
ровный, на этот раз был сбивчи- вым, летящим, как почерк Пушкина. Строчки
порой наезжали друг на друга, немецкие слова путались с русскими, кое-где
запись шла значками, переходя в схемки, неумелые наброски карт и т. п. Все
это была запись разговора с Коконовым, который продолжался двенадцать часов
подряд. Коконов говорил охотно, красноречиво, подробно, с обширными
"лирическими отступлениями". Кранах, вынув из ящика монокль и вставив его в
глаз (зачем? Зрение у него было отличное. Но недаром говорят: привычка --
вторая натура), скрипел карандашом, еле поспевая конспектировать рассказ
врача.
В конце концов, изможденные, они подружились. Кранах смотрел на
Коконова и думал: этот человек предает своих друзей-героев, даже не требуя
для себя особых выгод, не выговаривая поблажек. Предает капризно, по
прихоти, отдавшись на волю химическому ветерку, пахнущему фиалкой. Коконов
был экзотичен, как древний монстр, как языческий бог.
Кранах полюбил его не за то, что тот многое рассказал. Он полюбил его
за то, что этот рассказ не принес разочарования. Он знал теперь имя
человека, которого много раз пытался представить себе, -- Ефрем Яснов,
человек с лицом, покрытым густым загаром, со светлыми серыми глазами, в
выгоревшей гимнастерке без знаков воинского различия. Было одно неожиданное
и поразительное обстоятельство, которое чуть было не разрушило хрупкую
постройку кранаховских грез, -- этот человек был евреем. В первый момент,
узнав об этом. Кранах испугался -- ему показалось, что очарование всего
этого дела сейчас рассеется (он, отчасти, разделял национальные предрассудки
своих коллег), но уже в следующее мгновение антисемитизм сдуло с него, как
пылинку с рукава. Он понял, что так -- гораздо величественнее. Он вспомнил
Бен Гура, он вспомнил о знойном Боге пустынь, который был Богом Ревности и
Мести. "Народ пастухов, воинов и царей", -- повторял он про себя с
восхищением случайно услышанную где-то фразу. -- Любовь их горька, как соль
высохшего моря. Их ненависть убивает, как яд древних змей. Этот народ --
ртуть и платина в тиглях алхимиков, его невозможно уничтожить, он
возрождается, чтобы отомстить. Каждый, поднявший руку на страшных любимчиков
Бога, будет найден Мстителями и окликнут по имени".
Кранах настолько углубился в экзальтацию, что ему даже захотелось
поскорее стать преследуемым Мстителями, скрывающимся от их бесстрастного
гнева где-нибудь в Патагонии. Он воображал себе усталый голос Бога-Убийцы:
"Юрген, Юрген, ты был с теми, кто истязал Меня?"
Ефрем Яснов, говоривший на подчеркнуто правильном русском языке с
петербургским призвуком, был сыном башмачника. Его настоящее имя -- Фроим
Кляр. С тринадцати лет -- красноармеец. С детства -- в лесах. В двадцатые
годы руководил ликвидацией лесных банд в этих местах. Теперь -- командир
партизанского отряда. Коммунист с 1924 года. Кранах распорядился, чтобы
Коконова перевели из лагеря в другое место, чтобы его хорошо кормили,
следили за его здоровьем и, тщательно охраняя, выказывали бы при этом
всяческое уважение. Кранах, что называется, "взял шефство" над
врачом-самоучкой.
Теперь он снова сидел в своем химическом кабинете, над кучей листков.
Портрет Менделеева смотрел на него со стены. Точно таким же портретом Дунаев
разбил кощеево яйцо. По всей России, везде, где преподавали химию, висели
эти портреты мудрого бородача, создавшего
великолепную таблицу химических элементов. Эта таблица, слегка
покоробившаяся от школьной сырости, висела тут же, под портретом.
Желтый карандаш за один день превратился из длинного и стройного в
смехотворный огрызок. И этим огрызком Кранах задумчиво постукивал по
заветной папке. Он хотел сесть и с ходу, легко и четко, написать рапорт в
Берлин, но сил -- сил уже не было. Действие наркотика-стимулятора,
растянувшееся более чем на двое суток, сходило на нет, и усталость
наваливалась на голову пуховой периной.
Не было сил даже вызвать машину, чтобы отвезли на квартиру. Кранах
постелил на лавку, исцарапанную детскими перочинными ножами, шинель, лег на
нее, уткнувшись лицом в жесткий рукав, и заснул. Возле самого его лица
тянулась по древесной поверхности неумело вырезанная надпись: "Катя сосет
хуй".
Сначала ему приснилась Таня Ворн, его берлинская приятельница из
полубогемной среды. Затем приснилась другая девушка, Агнесс, которой он
как-то подарил живую бабочку в крошечной бамбуковой клетке. Они выпустили
эту бабочку в саду и долго потом, смеясь, пытались узнать ее среди других
бабочек.
Затем он вдруг увидел совершенно незнакомого человека, который
внимательно рассматривал полевой бинокль. Видимо, бинокль был слегка
попорчен -- незнакомец постукивал по нему, как железнодорожники постукивают
молоточками по колесам поезда.
-- СЛЕГКА НЕИСПРАВЕН, -- наконец произнес незнакомец по-русски голосом
картонного великана и повернул лицо в сторону Кранаха. Лицо было
обыкновенное, невыразительное, но Кранах вздрогнул и проснулся.
На следующий день он получил письмо от начальства. Письмо носило
поощрительный характер -- его благодарили за предыдущие рапорты. По случаю
такой благосклонности высших сил к своей персоне он решил дать себе
небольшой отдых. Гулял один в лесу (что было строго запрещено), причем с
щегольской тростью и с моноклем в глазу, хотя и в гражданском платье. В
пустом зимнем лесу было хорошо, как может быть хорошо только в
пустом зимнем лесу. От избытка подростковой дерзости Кранах всю дорогу
громко насвистывал немецкие и французские легкомысленные куплеты. Вечером
читал "Войну и мир" -- ту сцену, где Пьер знакомится в поезде с пожилым
масоном. С книгой в руках уснул.
Каково же было его удивление, когда во сне снова предстал перед ним
человек, заботливо ковыряющийся в бинокле. Следующие дни прошли в суете. В
город прибывали свежие воинские части, и была масса хлопот, связанных с
организацией их безопасности на новых квартирах.
А рапорт в Берлин все оставался ненаписанным. Кранах просмотрел свои
записи -- они были беспорядочны. Их, скорее, можно было бы отослать не в
управление контрразведки, а в какой-нибудь литературный журнал, из числа
тех, что в 20-е годы издавались в Берлине.
Кто бы рискнул усмотреть деловую исповедь партизана, например, в
следующем фрагменте:
-- Вам нравится живопись вашего однофамильца?
-- Не очень. Мрачноватые черные фоны. Я люблю цвет. Женские тела
прекрасны на фоне моря и садов.
-- А я люблю (сказал тогда Коконов значительно) черные фоны. И я люблю,
чтобы изображенное на черном фоне тоже было черным. Чтобы они сливались. И
только "сердце на крючке" вам тогда подскажет, где фон, а где свой человек.
Но среди этого словесного мусора рассыпано было немало ценной информации.
Одно было странно -- какой-то человек поселился в сновидениях Юргена.
Этот человек жил в роскошном доме с верандами и башенками (на крышах лежали
сугробы). У него было простое лицо и голос персонажа из голливудского
фильма. Он произносил какие-то фразы по-русски, но во сне внимание Кранаха
почему-то не могло ухватить смысл сказанного. Юрген запомнил один сон, в
котором он видел этого незнакомого человека ходящим по кухне своего
деревянного дворца. Человек переходил от шкафа к шкафу, открывал их и что-то
везде искал, без всякого волнения, методично и неторопливо. Наконец,
остановившись возле одного из шкафов, он достал баночку ежевичного варенья
и, закрыв дверцу, направился на веранду с узорными морозными стеклами, за
которыми вплотную стояла громадная Стужа.
Точка внимания Кранаха последовала за ним на веранду, но там увязла в
каких-то шторках, складках... Он не уловил дальнейшего и вернулся восвояси,
в постель своего маленького домика в Могилеве.
Юрген совершенно не знал, как понять эти странные и скучные сны,
реальные и призрачные одновременно, спутать которые было невозможно с иными
снами. Он было подумал, что это -- побочное действие первитина, но со
временем, когда такие сны стали повторяться каждую ночь, он отбросил эту
мысль из-за ее фантастичности.
Как-то раз он в подобном сне оказался в прихожей дома среди снегов и
там увидел себя в зеркале -- подтянутого, со стеком, моноклем и в полной
эсэсовской униформе. Из-за спины вышел человек с биноклем. Кранах обернулся
и встретился с этим человеком лицом к лицу. Все было до отвращения реальным,
как в обычной жизни.
-- Ну что ж, раз пожаловали, то не откажите в милости чайку испить,
господин фашист!-- едко улыбаясь, произнес незнакомец и сделал приглашающий
жест в сторону веранды. После секундного колебания Юрген проследовал за ним
и сел в плетеное кресло за стол, где было накрыто к чаепитию.
-- Чем обязан таким гостеприимством? -- осведомился он тоном вежливого
гостя, уловив в словах незнакомца плохо скрываемую угрозу.
-- Чем? Да просто все, -- и человек издевательски усмехнулся. -- Я
через тебя ПЕРЕЩЕЛКНУСЫ Прямо сейчас!
В этот момент скрипнула верандная форточка, и луч из окна, отразившись
в монокле, ослепил незнакомца солнечным зайчиком.
-- Ах ты хуесосина ебучая! -- заорал человек, вскочил с места,
опрокинув стакан с чаем, и, сорвав с себя бинокль, с размаху ударил им
Кранаха по лицу. Удар был силен, и Юрген потерял сознание. Последнее, что он
успел увидеть в этом сне, была восковая фигурка обнаженной девушки, тающая
на фоне непроглядного мрака. Затем мрак покрыл все.
Кранах проснулся с ощущением боли в правом глазу. Он вскочил, включил
свет. Разбитый монокль валялся на полу, возле кровати. Перед сном он оставил
его на письменном столе. Кранах взглянул в зеркало -- глаз был красный и
слезился, а под глазом видна была ровная свежая царапина в форме четкой
дуги, как будто проведенной циркулем.
-- Стигмат, -- подумал Юрген.
Он был один в бревенчатой горнице. За крошечным окошком темнела
кромешная ночь. Печка успела остыть. Кранах отворил дверь в сени, где спали
в разных углах ординарец Хайнц, два парня из охраны и русская бабка,
которая, собственно, была тут хозяйкой. В сенях было тепло, надышано, люди
сопели и тихо лопотали во сне.
Он хотел было разбудить кого-нибудь из них, сказать, чтобы затопили
печку и сделали чаю, но ему стало неудобно будить спящих.
Впрочем, старуха сама проснулась и, приподняв голову, прошамкала из
своего угла:
-- Что, барин, не спится?
-- Да страшный сон приснился, мамаша, -- ответил Кранах.
-- А ты, голубчик барин, не греши, да и ложись, лицом оборотясь
кокрасному углу, чтоб лампада в глаза светила. Свята икона тебя от
обстояниев-то и оборонит.
-- Спасибо, мамаша, спите и не беспокойтесь, -- сказал Кранах и прикрыл
за собой дверь.
Он снова улегся и быстро заснул. Ему приснилось совещание у начальства
в Берлине, где один сотрудник из их отдела, человек обычно тихий и
незаметный, вдруг разразился речью. Оказалось, что он уже давно обдумывал
одну крупномасштабную провокацию против русских и вот теперь решился
предложить этот план начальству на рассмотрение.
-- Как известно, главной святыней Советского Союза является мумия
Ленина, -- начал этот человек, глядя в бумаги. -- Этот объект почитается
русскими настолько истово, что в мирное время у входа в мавзолей Ленина
каждый день выстраивалась очередь в несколько километров. Советские язычники
убеждены, что мумия придает им силы, магическим образом способствует успеху
в делах. Сейчас, ввиду побед вермахта на Восточном фронте, мумия
эвакуирована в глубины Сибири. В рамках борьбы с психологическим потенциалом
противника следовало бы нанести удар по этому фетишу. Удар по мумии
спровоцировал бы у русских состояние массового истерического приступа.
Однако мумия находится далеко в Сибири и тщательно охраняется. Поэтому мое
предложение сводится к следующему: мумию следует фальсифицировать. Мы уже
подобрали в лагерях несколько заключенных, -- докладчик оторвался от бумаг,
-- которые действительно похожи на Ленина, и параметры их тел совпадают. Они
действительно похожи, очень-очень похожи, -- повторил он (и в голосе
мелькнуло что-то детское). -- Загримировав и мумифицировав кого-либо из этих
претендентов, мы сможем затем распространить среди советской армии и
населения различные фальшивки, легенды и провокационные документы,
свидетельствующие, что мумия Ленина нами выкрадена. Даже если процент
уверовавших будет невелик, кривотолки приведут к нестроениям и нервозности.
Затем эту компанию можно будет обострить серией унижений, которым мы
подвергнем псевдомумию. Представьте себе кино-фотодокументы, запечатлевшие
публичную порку мумии, переодевания ее в различные унизительные костюмы. Ее
можно возить в оперетту, подвешивать в вольерах зоологического сада. В
женском белье она может подвергаться массовому изнасилованию в казармах
вермахта, ее можно класть в нужник. Ее можно умащать навозом, обвязывать
пучками свежей травы, выпасать на ней гусят и утят. Нетрудно представить
себе, насколько нервирующими будут сообщения об этих издевательствах для
советских людей. Но это не предел... -- Личико сотрудника разрумянилось,
глаза его возбужденно блестели. -- После серии шокирующих издева тельств над
цельным телом мумии она может быть расчленена. Некоторые части --
предплечье, голова, ступни -- могут быть сброшены с самолетов в расположения
советских войск, причем на этих телесных частях могут быть вытатуированы
угрозы и деморализующие обещания. Представьте себе все отчаяние этих
фанатиков! Чтобы унять слухи и сплетни, успокоить воинство и возродить веру,
советское правительство вынуждено будет транспортировать подлинную мумию
Ленина обратно в Россию, чтобы показать ее народу и развеять легенды. Тут в
силу должен вступить второй этап моего плана: похищение реальной мумии
Ленина, спланированное, подготовленное и осуществленное нашими лучшими
специалистами. Кранаху было противно слушать воспаленный бред этого
извращенца, однако шеф промолвил: "Довольно интересно" и с задумчивым видом
сомкнул кончики пальцев. Затем шеф достал из ящика стола толстую книгу в
переплете песочного цвета. По формату и дизайну книга походила на роскошно
изданный каталог выставки. Шеф показал книгу присутствующим. Название,
напечатанное на обложке крупными темно-красными буквами, гласило:
"Самомумификация".
Шеф увлеченно листал глянцевитые страницы, время от времени
демонстрируя собравшимся ту или иную иллюстрацию: фотографии пустынников,
гравюра, изображающая аскета, препарирующего собственную руку, струйка
янтарной смолы, стекающая по коре дерева (цветное фото), мешочек, влажный от
смолы, подвешенный к верхушке ели, саркофаги в будуарах знатных дам XVIII
века, веснушчатый директор одной лаборатории в Нью-Джерси, личинки
насекомых, растения и животные в состоянии анабиоза, чьи-то крошечные
перчатки, могилы, окруженные экзотическими зарослями. На последней странице,
сделанной из толстого пергамента, было вытеснено красными готическими
буквами:
ОТЧАЯНИЕ -- пухлотополиное, жирнособолиное.
МИАЗМ курский, МАРАЗМ симбирский, РАЗУМ барский.
Кранах запомнил эти слова.
К нему быстро подошел (как говорят, "откуда ни возьмись") тот самый
человек из предыдущих сновидений. Кранах успел прозвать его "голливудским
генералом".
-- Хочешь посмотреть, кто вас держит? -- крикнул он.
Кранах не успел ответить -- "голливудский генерал" опять ударил его с
размаху биноклем по глазам. От боли Кранах пошатнулся, полились слезы.
Бинокль прилип к глазам, как если бы он был снабжен присосками. Повернут он
был на "удаление". Сквозь слезы Кранах увидел, как свернулась в шарик
комната для совещаний, как удалились и исказились фигурки людей. Шеф с
книгой в руках и остальные сотрудники -- все в черных униформах, в белых
рубашках, в аккуратных галстуках с черно-красными круглыми значками НСДП --
все они казались теперь насекомообразными и незначительными. Юргену
вспомнился крик Алисы, которым она истребила Страну Чудес: "Да вы
всего-навсего колода карт!" Вдруг нечто белое заслонило собой картинку. Это
была чья-то непропеченная мордочка с крохотными точечными глазками --
добрая, мутная, мягкая. В чертах явно присутствовало что-то эмбриональное.
-- Зародыш, -- подумал Кранах. -- Кто-то должен родиться в мире.
Кто-то, имеющий огромное значение. И он уже в мире, но пока что не покинул
материнского чрева.
Утром он, по пояс голый, в одних галифе, вышел на крыльцо и обтерся
свежим снегом. После этого бабка подала ему завтрак: гречневую кашу с
молоком, кофе, галеты. За завтраком он обдумал свои сновиденческие
приключения и сделал выводы. К моменту, когда он с удовольствием доедал
остатки каши, план действий был вполне готов. После завтрака он поехал в
военный госпиталь, где у него был знакомый врач -- симпатичный молодой
меланхолик по фамилии Хаманн. Он пожаловался Хаманну на головные боли,
попросил лекарств. Хаманн тяжело переносил пребывание в России.
-- Здесь все надо уничтожить, -- сказал Хаманн, с тоской глядя в окно.
-- Здесь все пропитано заразой. Даже если истребить патологическое
население, эти места будут нести на себе печать заразы еще много столетий.
-- Вы смотрите на вещи слишком мрачно, -- бодро возразил Кранах. -- Мы,
немцы, склонны обманывать себя. Мы не понимаем русских -- в этом источник
наших военных проблем. А русские, на самом деле, тщеславны. Если бы умели
льстить им, побеждая (а это возможно), то наши войска давно уже были бы в
Москве. Кранах покинул Хаманна, имея в кармане френча врачебное предписание,
несколько рецептов для полевой аптеки и два пузырька с лекарствами. Из
госпиталя он поехал в центр специальной телефонной связи и оттуда позвонил в
Берлин, своему начальнику. Поблагодарив за теплое письмо, сказал, что
имеется интересный материал, о чем ему хотелось бы доложить лично. Мимоходом
он упомянул о кое-каких проблемах с головной болью и мигренями и деликатно
намекнул об отпуске в Альпах, о чем речь шла и раньше.
Через несколько дней он уже был в Берлине. Он сделал интересный доклад
на основе сообщений, полученных от Коконова, но о многом умолчал. Сказал,
что дело требует дальнейшей разработки, что действовать он в данном случае
рекомендует осторожно. особенно тщательно следует продумать роль, которуб во
всем этом деле мог бы сыграть Коконов, который, в общем, готов к
содрудничеству.
В светлом дорожном пальто, в мягкой шляпе, с элегантной тростью и
небольшим саквояжем Кранах стоял на одной берлинской площади, рядом с
вокзалом. В одну из его рыжих замшевых перчаток вложены были билеты - ему
предстояло провести две недели в Альпах ( он собирался снять комнатушку в
высокогорном отеле и совершить серию скромных, любительских восхождений), а
затем отправиться с любопытным поручением в Италию.
Ему очень хотелось заехать к Тане, его русской приятельнице, но он
воздержался, зная, что в ведомстве, к которому он теперь принадлежал,
распространено соглядатайство. Побродив бесцельно по улицам (до поезда
оставалось несколько часов), он купил букет нераспустившихся роз, бутылку
белого сладкого вина и коробку пирожных-ракушек. Все это он послал на
Ораниенгассе, 7, фрау Тане Ворн, приложив также записку более или менее
интимного содержания, написанную по-французски. На квадратном кусочке синего
картона остатком желтого карандаша было написано следующее
О рожденная, как подсказка, из ракушки!
Если какой-нибудь живописец, по примеру моего знаменитого однофамильца,
вдруг пожелает изобразить тебя на черном фоне, я возражу: глупости! Это так
же нелепо, как изображать солнце в полумраке, подсвеченное снизу свечой.
Избегай, мое морское солнце, живописцев -- ты знаешь, как они скупы. В
зеленом шервудском лесу далеко от тебя живет человек, похожий на
голливудского героя. Он немного маг и вторгается в чужие сны. Его фамилия --
Яснов. Помню, как, разогрев себя шампанским, ты спорила о психоанализе. Как
это было глупо -- спорить со мной, который всегда со всем согласен. Конечно,
конечно же, Яснов это не что иное, как "Я снов", то есть наш собственный
двойник, проступающий из глубины сна, из глубины забвения. Я больше не ношу
монокль. Он разбился, а новый я покупать не хочу. Думаю купить телескоп,
этот зрячий знак благородной мужественности, смущающий звездные небеса.
Твой фарфоровый мальчик.
P. S. Привет твоей служанке Психее, она была так мила по утрам. Привет
косолапому Лорду, я надеюсь, он прибавил новую складку к своей коллекции
затылочных жиров. Привет белому шраму на твоем запястье, с которым я часто
беседовал, пока ты спала.
Комментарий
Текст "Бинокль и Монокль" представляет собой, как видно, описание
столкновения двух типов зрения -- "монокулярного"
(параноидно-циклопического) и "бинокулярного", шизофренического.
И хотя эти квазидиагностические характеристики могут быть вменены
конкретным персонажам повествования, "воплощены" они не в их фантомных
телах, а в телах их "атрибутов". Носителями "идей" здесь становятся, строго
говоря, не образы людей, а образы предметов -- бинокля и монокля.
Антропоморфные персонажи рассказа становятся "носителями идей" в буквальном
смысле -- они носят эти "идеи" на своем теле в качестве декоративных
протезов, материальных приспособлений оптического свойства. Будучи столь
грубым иллюстративным образом опредмечены, эти "идеи" определяют поведение
персонажей, но практически не задевают их психоэмоциональную окраску.
Эти "идеи" -- это "идеи зрения". Зрение, таким образом,
психологизируется и депсихологизируется одновременно. Диагноз, формирующий
оптическую специфику, существует не как психическая реальность, а как
техническая возможность. "Параноидность" и "шизофреничность" представлены в
виде технических усовершенствований (в данном случае зрения), они
инструментальны. Поединок, описанный в тексте, это поединок не людей и не
идей, а инструментов. Впрочем, исход поединка решают "побочные" предметные
характеристики этих инструментов, не имеющие прямого отношения к их
оптическому предназначению: тяжелый полевой бинокль (похожий на танк) легко
уничтожает хрупкий, декоративный монокль. Сама по себе дуэль предметов
напоминает сюжетную схему рассказа Борхеса "Поединок", где два ножа, имеющие
собственную историю вражды, используют человеческие тела как орудия для
очередного столкновения. Однако если борхесовские ножи-убийцы были просто
магическими аккумуляторами мифогенной агрессивности, то "бинокль" и
"монокль" -- это овеществленные идеи платоновского типа, чье столкновение
имеет не столько агрессивный, сколько дидактический смысл. В ходе
столкновения, которое происходит во сне, одна идея зрения "убивает" другую,
однако персонажный носитель этой "разбиваемой" идеи буквально отделывается
легкой символической царапиной. Характер его психозрения при этом никак не
меняется. Правда, он отказывается покупать новый монокль, но (как мы узнаем
из финальной записки) он, хотя и в шутку, мечтает о технической
реорганизации своего монозрения. Он желает укрепить "параноид", купить
вместо монокля телескоп. Кранах совершенно адекватно реагирует на "поединок
идей", на соударение оптических "точек зрения": он регистрирует, что
решающим в этом поединке являются предметные характеристики, "вес" идей.
"Точки зрения", не учитывающие друг друга, катастрофическим образом
соприкасаются, и в этом всегда присутствует нечто от употребления предметов
не по назначению -- как говорится, "колоть орехи телевизором". Кранах
реагирует как человек военный: при возможном следующем столкновении телескоп
окажется более весомым и "бронированным", чем бинокль.
Монокль для Кранаха -- знак легкого фрондерства, знак оппозиции не по
отношению к русским, а по отношению к бюрократической организации, в которую
он включен. Такую же роль, по его представлениям, должен играть и телескоп.
В стиле своего параноидно-импрессионистического острословия Кранах
сравнивает телескоп со зрячим фаллосом, смущающим звездные небеса своим
нескромным подглядыванием. "Звездные небеса" это черный эсэсовский мундир,
усыпанный мерцающими констелляциями знаков отличия. Мундир, который Кранах
недолюбливает, усматривая в черноте нечто постыдное, "траурную мерзость",
как мог бы выразиться Томас Манн. Кранах испытывает постоянный страх
темноты, неприязнь к черному. Будучи "фон Кранахом", он подвержен фобии
изначального мрака, то есть он боится трансформироваться в "фон Кранаха",
слиться с черным фоном своего квазипредка, великого живописца, этого
Большого Отчима, от родства с которым ему приходится постоянно
открещиваться. Именно по причине этой боязни слиться с фоном, из которого он
происходит, Кранах не может позволить себе носить черную одежду.
Поскольку главными героями рассказа являются оптические приспособления,
сам рассказ поневоле центрирован на проблематике отражения-поглощения света.
Кранах отождествляет себя со светом (а следовательно, и с цветом) и поэтому
больше всего боится быть поглощенным черной неотражающей поверхностью.
Кранах -- это люксус-персонаж, свет, преобразованный в победоносную
светскость. Для светского человека разница между победой и поражением
стирается, поскольку и в той и в другой ситуации он имеет равные возможности
продемонстрировать свой блеск, свою отточенность.
Человеку светскому противостоит человек советский. Всего одна лишняя
буква, но "свет" сразу превращается в "сову", в этот тотем никтолопии и
ночной умудренности, в "совет", данный в темноте. "Совет" -- это советский
минет: резонерское отсасывание, стыдливо подернутое мраком. Кранах
сталкивается с "советским магом" Дунаевым (которого он ошибочно принимает за
Яснова) только во сне, наяву же его советским партнером становится Коконов,
"врач-самоучка".
Коконов -- это персонаж, пребывающий в зоне непроницаемого мрака, где
все "сливается с темным фоном". Это зона абсолютного камуфляжа, абсолютной
прикрытости. В одной из предыдущих глав романа "Мифогенная любовь каст"
описывается свидание Коконова с его возлюбленной -- девушкой из Черных
деревень, где "все, как уголь, черное -- и деревья, и небо, и земля, и скот,
и птицы, и дома, и люди в них". Шаман Холеный говорит о Коконове: "Да какой
он врач! У него один взгляд -- в сторону черных". Сама фамилия Коконов
указывает на пренатальную тьму, на упакованность, напоминающую одновременно
об эмбрионе и о мумии.
Именно Коконов, а не Дунаев, является антиподом и антагонистом Кранаха
в данном тексте. Бытие Кранаха это бытие сигнала, который желает быть
замечен и включен в перекличку с другими сигналами (Кранах издевается над
камуфляжем, дерзко ведет себя в русском лесу и т. п.). Он полагает, что за
Коконовым стоит отряд Яснова, бегущий сигнал героической ясности, подобный
самому Кранаху -- романтику, выстраивающему жизнь как цепочку ярких
переживаний и свето-цветовых эффектов. Однако за Коконовым стоит то, о чем
Кранах не знает, -- Черные деревни, область, где все сигналы гаснут, где
всякий свет поглощается без остатка, место, предоставляющее уникальную
абсолютную гарантию безнаказанности и безопасности для всех "беглых" и
"дезертиров".
Дунаев своим ударом скорее спасает Кранаха от дальнейшего продвижения в
опасном для того направлении, что соответствует учению колдуна Холеного о
том, что победа над врагом должна быть целительной для врага -- "ты их этим
как бы лечишь и в их собственные исконные игры возвращаешь" . После удара
биноклем Кранах действительно как будто возвращается в свою "исконную игру",
в пеструю канву импрессионистического романа.
Тема лечащего и поучающего удара может напомнить нам и о практике
дзенских "побудок", и о многочисленных других дидактиках. Так, например,
Карлос Кастанеда описывает удар дона Хуана:
"...Итак, чтобы заставить мою точку сборки сдвинуться в более
подходящее для непосредственного восприятия энергии положение, дон Хуан
хлопнул меня по спине между лопаток с такой силой, что у меня перехватило
дыхание. Мне показалось, что я либо провалился в обморок, либо заснул. Вдруг
я обнаружил, что смотрю или что мне снится, будто я смотрю на что-то
буквально неописуемое. Это нечто распространялось во все стороны бесконечно.
Оно было образовано чем-то, что напоминало световые струны, но не было
похоже ни на что, когда-либо мной виденное или даже воображаемое. Когда я
вновь обрел дыхание, а может быть, проснулся, дон Хуан, выжидательно
посмотрев на меня, спросил:
-- Что ты видел?
Я совершенно искренне ответил:
-- Твой удар заставил меня увидеть звезды, дон Хуан.
Услышав это, дон Хуан согнулся пополам от смеха" (К. Кастанеда.
"Искусство сновидения").
В данном случае мы наблюдаем "удар-психоделизатор", противоположный
дзенскому удару по своему эффекту. В тексте "Бинокля и монокля" Дунаев
наносит Кранаху классический "пробуждающий удар" в дзен-ском духе (после
удара Кранах немедленно просыпается), как бы стряхивая с него "прелесть",
навеянную "психоделизирующим уколом" Коконова.
"Укол" и "удар" то ли противопоставляются, то ли дополняют друг друга
как контрастные стадии некоего "лечения" или некоего "педагогического
курса".
Впрочем, удар наносится биноклем -- атрибутом шизофренического зрения.
Содержащаяся в структуре этого объекта раздвоенность определяет удвоение
самого удара. Вскоре после "пробуждающего удара", уничтожившего монокль,
Кранах снова засыпает, и во сне Дунаев повторяет удар -- на этот раз, чтобы
продемонстрировать Кранаху лицо эмбриона, непроявленное личико будущего.
Этим видением Дунаев отвлекает его от онейрических разговоров о мумии и о
"самомумификации". Мумия и эмбрион являются рамочными фигурами всего этого
повествования.
Чтобы полностью понять всю шизофреническую связку означиваний, в
контексте которой мумия и эмбрион как бы борются за место в герметичной
выемке кокона, необходимо знать, что Дунаев в это время находится в
Мумми-Доле, в заснеженной долине за полярным крутом, где обитают
мумми-тролли, существа, порожденные воображением шведской писательницы Туве
Янссон, которая создала целый эпос из жизни этих созданий. Свои тексты она
снабдила собственными виртуозно выполненными иллюстрациями. Мумми-тролли
изображаются в виде самостоятельных эмбриончиков, как бы изъятых из времени,
существующих в вечном струении сменяющих друг друга приключений. Несмотря на
свой зародышевый облик, они обладают сознанием детей в возрасте где-то от
десяти до четырнадцати лет (детям этого возраста и адресовано, главным
образом, повествование Туве Янссон).
Поскольку эти зародыши не растут и не разлагаются, следует считать их
своего рода мумиями. Тем более что на весь зимний период (а в полярном
регионе, где они обитают, этот период занимает большую часть года) они
погружаются в анабиотический сон. Готовясь к спячке, они поглощают огромное
количество хвойных игл. Смолистые вещества, содержащиеся в хвое, по всей
видимости, консервируют их крошечные, пухло-субтильные тельца -- они, так
сказать, "осмоляют" себя изнутри, производя "самомумификацию".
Сознание этих существ, в общем, чрезвычайно напоминает сознание Кранаха
-- мумифицированные эмбриончики живут в эйфорических ошметках всей
романтической и приключенческой литературы, которая когда-либо существовала.
Они общаются с волшебниками, ищут клады, ожидают катастрофического
столкновения Земли с кометой, играют в индейцев... Короче говоря, они
воспроизводят игровую повседневность детей предподросткового возраста.
Среди множества захватывающих эпизодов этого эпоса особое внимание
привлекает один эпизод: на "таинственном острове" мумми-тролли сталкиваются
с хаттифнатами. Хаттифнаты это как бы эмбрионы предыдущей стадии развития:
они еще более субтильны и нежны, чем мумми-тролли, они не разговаривают и
общаются посредством телепатических вибраций. Они -- вечные странники.
Мифологии у них нет, зато есть религия -- они поклоняются барометру (то есть
даосской "заводной иконе" атмосферных колебаний). Хемуль, существо из лагеря
мумми-троллей (из рода "Хемулей, которые всегда носят юбку"), увлекающееся
собиранием коллекций, вытесняет хаттифнатов с острова посредством
раскачивания священного столба с укрепленным на нем барометром. Хаттифнаты
не выдерживают беспокойных вибраций и уплывают на своих крошечных лодках без
весел и парусов.
В заключительной сцене этого эпизода Мумми-Тролль No 1, главный герой
этого пренатального эпоса, мечтательным взглядом провожает вереницу
хаттифнатских лодчонок, исчезающую в морской безграничности. Он романтически
завидует своим врагам и конкурентам хаттифнатам, поскольку они остановлены в
вечности на стадии, более близкой к моменту зачатия, на стадии меньшей
оформленности и большей (почти абсолютной) свободы. Ничто не может
воспрепятствовать их "странствию в беспредельном".
Эта мечтательность напоминает Кранаха, который "влюбляется" в своих
врагов, фантазируя их при помощи всевозможных романтических стереотипов. Его
мечтательность граничит с мазохизмом, как, впрочем, и его бесстрашие. Во
время допроса в Витебске он отказывается от активной роли, передавая ее
Коконову, а сам принимает на себя роль "пациента", претерпевающего. Думая о
евреях, он проявляет готовность стать жертвой романтических "мстителей". В
принципе он легко расстается со своими атрибутами. При передаче
аристократической приставки "фон" его противнику Дунаеву мы получим имя "фон
Дунаев" -- имя Ванды фон Дунаев, героини знаменитого романа Леопольда фон
Захер-Мазоха "Венера в мехах", воплощающей в себе мазохистический
сексуальный идеал "бичующей богини".
Читателю нетрудно будет обратить внимание на многочисленные и довольно
прозрачные намеки и аллитерации, связывающие фон Кранаха с Прустом. В сцене
первитинового "прихода" (которая претендует быть чем-то вроде кульминации)
Кранах почти полностью воспроизводит прославленное описание воспоминания
забытого из "В сторону Свана". Герой Пруста вспоминает забытый дом тетушки
Леонии в Комбре, где ему приходилось бывать в детстве, съев кусочек
пирожного, имеющего форму ракушки, смоченного в липовом чае. Вкус и форма
пирожного в сочетании с вкусом липового чая -- все это образует, как сказали
бы мы, "парамен", включающий в себя ряд впечатлений прошлого. Этот эпизод из
"Свана" -- один из великолепных и часто цитируемых примеров
импрессионистической "литературы памяти".
"На приходе" Кранах думает о картине Боттичелли "Рождение Венеры" (что
так же, как и другие "живописные" упоминания, ассоциируется с Прустом --
Одетта нравится Свану потому, что она напоминает одну из дочерей Иофора,
изображенную Боттичелли), эксплозия памяти отождествляется им с рождением
любви -- и то и другое рождается из "подсказки", имеющей форму ракушки
(стилеобразующий элемент таких последовавших вслед за Ренессансом периодов,
как барокко и рококо). Присутствие Коконова, этой черной дыры, поглощающей
все импрессионистические блики и световые пятна, грубо ограничивают эйфорию
Кранаха (на что сам Кранах, впрочем, не обращает внимания). Вкус липы, якобы
спровоцировавший воспоминания Кранаха, выдает их "липовый", неподлинный
характер -- во-первых, потому, что инспирированы они на самом деле вовсе не
липовым чаем, а гораздо более сильнодействующим первитином. А во-вторых,
потому, что эти воспоминания -- ложные, чужие, это воспоминания Пруста, а
вовсе не фон Кранаха, да и Прустом они, может быть, подделаны. Мы
сталкиваемся здесь в очередной раз с ложью как с центральной проблемой.
Будучи врачом, Коконов считает, что пациент всегда лжет самому себе, однако
врачу он солгать не в силах -- именно характер его лжи позволит врачу
поставить верный диагноз. Будучи вторичными, уже использованными,
экзальтации фон Кранаха "переводятся" Коконовым в списки и перечисления
всяческого мусора -- "объедки, банки, хрящики и рваные мешки...", которые
подарили на День Рожденья некоей фрау Линден (Линден -- липа) и которые
затем странным образом оказались в голове немецкого генерала.
"Параноидность" отождествляется в данном тексте с "импрессионизмом",
поскольку она всегда представляет собой конфигурацию впечатлений, тогда как
"шизоидность" является конфигурацией технических приемов и методологий. Наше
внутреннее зрение, воспроизводящее эффекты памяти и эффекты воображения,
циклопично. "Параноидный монокль" -- как один из вариантов одноглазости --
представляет собой экстериориза-цию имагинативного зрения. Это -- бликующее
зрение, оно не только принимает, но и посылает сигналы. Будучи, таким
образом, технизировано, оно вторгается в зону шизофренических компетенций,
что и обусловливает его столкновение с "шизо-зрением", которое претендует на
контроль за всеми сигналами.
Удар Дунаева является спонтанной реакцией на слепящий блик, на
"солнечный зайчик", который монокль Кранаха посылает ему в глаза. Впрочем,
мы уже сказали, что этот удар не уничтожающий, а скорее спасительный.
Расщепляющий шизо-удар спасает "внутреннее зрение". Шизофрения
"подхватывает" паранойю в тот момент, когда она уже зависает на грани
падения в бездну девальвации, в мир всяческих хрящиков, рваных мешков, маний
преследования и величия -- тех проблем, которые Юнг называл "инфляцией".
В финале рассказа Кранах совершает ошибку, которая, впрочем, ничего не
меняет. Он считает, что человек, являвшийся ему во сне, был Яснов ("Я
снов"), тогда как на самом деле это был Дунаев ("Du Naiv" -- сокращенный
вариант немецкой фразы "Du bist Naiv" -- "Ты наивен", если пользоваться
приемами анализа, которые применяет сам Кранах). Вряд ли это несовпадение
смутило бы самого Кранаха -- его "бликующее зрение" смогло бы придать этой
ошибке вдохновляющий и восхитительный оттенок.
Специфика нашей "художественной деятельности" такова, что нам постоянно
приходится вторгаться в судьбу реальных вещей (столов, стульев, фонарей,
веревок и т. п.), насильственно превращая их в элементы того или иного
"инсталляционного" нарратива. По всей видимости, именно этот комплекс вины
перед вещами, порабощенными текстом, породил этот комментарий, который был
бы излишним, если бы рассказ "Бинокль и монокль" был написан писателем,
привыкшим иметь дело только со специфической предметностью текста -- с
предметностью книги, бумаги, кассеты и так далее. Мы по инерции воспринимаем
"бинокль" и "монокль" как независимые материальные объекты, вовлечение коих
в зону текста не может быть осуществлено без серии "юридических" пояснений.
Если говорить об эмоциональных реакциях, то присутствие такого "объекта" в
тексте порождает у нас, с одной стороны, нечто вроде галлюциногенного
эффекта (довольно приятного), но, с другой стороны, и невероятное утомление.
Нетрудно догадаться, каким количеством манипуляций этот объект потребует
окружить себя -- привязать, оставить, подвесить, купить, принести, положить,
поднять, примерить, перевернуть, взвесить, раскачать, натереть, вынуть,
вставить, пояснить, осветить, охладить, согреть, кинуть, исправить, забыть.
Бинокль и Монокль II
Тихо, на спасенной ладье, в гавань вплывает старик.
3. Фрейд. "Толкование сновидений"
Семен Фадеевич Юрков вошел в класс со своим неизменным потрепанным
портфелем. Ученики -- а в классе находились те из них, что были членами
"Лит. кружка", -- радостно заголосили, приветствуя старого педагога,
которому принято было симпатизировать.
Юрков поставил портфель на учительский стол, щелкнул замком. И извлек
из глубины портфеля два предмета -- один простой, другой несколько более
сложный и тяжеловесный -- круглую вогнутую стекляшку и тяжелый полевой
бинокль времен Великой Отечественной войны, в черном кирзовом футляре. Эти
предметы он торжественно поместил в центр своего учительского стола, на
всеобщее обозрение. Затем он подошел к школьной доске, взял кусочек мела и
размашисто написал крупными, четкими, округлыми буквами (он любил эффектно
начинать свои уроки):
Девчонки, не бойтесь секса --
Хуй во рту слаще кекса!
Класс зашумел. Девчонки, которых было большинство, залились румянцем и
захихикали. Мальчишки загоготали. Юрков поднял плоскую, белую ладонь,
призывая к тишине, и начал говорить:
-- Это рифмованное изречение я сегодня утром увидел нацарапанным на
стене своего подъезда, среди других многочисленных сграфитти. Поскольку я
направлялся сюда, к вам, и, конечно, внутренне готовился к нашему с вами
разговору, я решился самонадеянно переместить этот афоризм с того места,
которое отвела ему наша культура, -- украсть ее из подъезда, где, как в
пещере Платона, вечно царит полумрак, снять с мягких штукатурных
поверхностей анонимного дискурса, которые столь податливы, столь готовы к
тому, чтобы покрыться всевозможными татуировками. Я решился украсть эту
мудрость и переместить ее в место, для нее непригодное -- на черную доску,
занимающую положение "царских врат" в нашей с вами часовне знания.
Осуществив этот перенос, я осуществил своего рода инструментальную инверсию:
то, что предназначено культурой к выцарапыванию на меловой мягкой
поверхности с помощью ножа, теперь написано мягким мелом на твердой черной
доске, с которой все написанное вскоре стирается. Знания легко приходят и
легко уходят, уступая место другим знаниям -- новейшим, усовершенствованным.
Но фольклорные "понимания" желают быть врезаны в кожу вещей. У них нет
истории, поэтому они въедаются в поверхность предметов. Как видите, я хочу
еще раз обратить ваше внимание на материальность означающих, чьим означаемым
является контекст как таковой. Все вы, я полагаю, прочли текст "Бинокля и
монокля", о чем я просил вас накануне, поскольку сегодня -- как вы помните
-- мы собирались побеседовать об этом тексте Ануфриева и Пепперштейна.
Основным содержанием этого текста как раз и является описание простейшей
инструментальной инверсии, вроде той, которую я только что вам попытался
продемонстрировать -- инверсии, которая становится возможной благодаря
грубой материальности означающих. Конечно же, мы не только побеседуем об
этом, но и поработаем с компьютерными программами, созданными нашими
гениями-аниматорами -- Таней и Герой.
Юрков сделал вежливый полупоклон в сторону парты, за которой сидели
Гера Соков по прозвищу Ну Погоди и Таня Ластова по прозвищу Лапочка.
-- Компьютерная анимация делает видимыми те тавтологии, которые
составляют основу любой семантизации. Сам по себе смысл не может быть
формой, хотя нередко и является нам в "форме смысла", зато идеальной формой
является тавтологическое высказывание, например: "смысл -- это смысл".
Сказать "смысл это смысл" -- почти то же самое, что назвать компьютер его
тайным именем. Тайное имя компьютера, самое тайное и самое явное из его
имен, не есть "сезам", оно ничего не открывает, оно, наоборот, все
закрывает. Это имя -- Отключается, точно так же как тайное имя человека --
Смертен. Изречение, которое я написал на доске, представляет собой, как
видите, своего рода народную рекламу фелляции, восхваляющую вкусовые
качества пениса. Кстати, рифма "секс -- кекс" использовалась Ануфриевым и
Пепперштейном в лирике 80-х годов. Вот, например, четверостишие из цикла
"Гитлер":
Дедушка пишет о детском сексе.
Среди банок с халвой, с принадлежностями врача.
Хорошо, когда детство в Альпах, марля на кексе,
Прозрачное небо, прозрачная моча.
В одном из центральных "переходных" эпизодов "Бинокля и монокля" Кранах
засыпает на школьной скамье, на которой -- прямо возле его спящего лица --
высечено "Катя сосет хуй". Эта сцена напоминает кинозаставку, так называемый
"шарик", уводящий изображение во тьму слепого кадра. В старых фильмах такие
угасания расчленяют действие на "главы". Заснув, Кранах впервые видит во сне
Дунаева, который, перед тем как нанести ему удар биноклем, называет его
"хуесосом". В своем автокомментарии авторы говорят о мазохизме фон Кранаха.
Из чего можно вывести и вменяемый ему в инвективном ключе пассивный
гомосексуализм. Мы видим, что здесь царствует тюремно-криминальная риторика,
впрочем, официально легитимированная в русско-советском контексте --
достаточно вспомнить Хрущева, обзывавшего художников-модернистов
"пидорасами". В автокомментарии говорится о поучающем, "педагогическом"
ударе. Само по себе это еще не упраздняет агрессивные, садистические
мотивации удара, пусть даже его содержание -- поучение. Вспомним такие
выражения, как "проучить", "преподнести урок" -- выражения, в которых акт
агрессии и акт передачи знания тождественны друг другу. Цитата из
Каста-неды, приводимая авторами, вполне иллюстрирует разрыв между научением
и агрессивностью, предлагающей себя в качестве "энергии научения". Удар,
наносимый доном Хуаном, должен быть нанесен по "точке сборки", которая
находится вне тела, в ауре "светящегося яйца". И тем не менее дон Хуан
наносит брутальный удар прямо по спине ученика. Это "педагогическая
комедия", состоящая из пинков и размазанных по лицам духовных тортов,
разыгрывается как бы двумя ключевыми "оперными" героями европейской культуры
-- "доном Хуаном" и "доном Карлосом", заброшенными в экзотику мексиканской
деревни, в L'exotisme colonial психоделической апологетики.
Следовательская деятельность Кранаха (за исключением допроса в
Витебске) разворачивается в педагогических пространствах -- Управление
полевой полиции, где он работает, размешается в бывшей гимназии. Разделы
школьного знания распространятся затем на работу "учителей"-гестаповцев,
"наследующих" школе. Заплечных дел мастера называют "Анатом" и помещают его
в кабинет анатомии. Кранах, занимающий кабинет химии, заключен в рамки
таблицы Менделеева, само имя которого говорит о том, что его таблица суть
мандала. Многократно отмечалось, что портрет Менделеева играет одну из
ключевых ролей в романе Ануфриева и Пепперштейна "Мифогенная любовь каст" --
это изображение одного из богоподобных бородачей, одного из
"дедов-рекреаторов мира". Как пишут и сами авторы в многочисленных
автокомментариях, портрет Менделеева отсылает к иконописному канону "Ветхий
Деньми" или же "Ты еси иерей по чину Мельхиседекову" -- этот канон был
запрещен Стоглавым собором, а затем лично Петром Первым, поскольку он, в
скрытой форме, нарушал табу на изображения Бога-Отца. В одном из эпизодов
"Мифогенной любви" Дунаев пользуется портретом Менделеева -- этой чтимой и
запретной иконой -- как оружием, разбивая углом портрета кощеево яйцо.
Единственный из проведенных Кранахом допросов, на котором мы, как читатели,
присутствуем, осуществляется в контексте химической (наркотической)
инспирации. Кстати, мне хотелось бы обратить ваше внимание на то, что
кабинет, в котором мы с вами сейчас находимся -- кабинет литературы и
русского языка, -- в силу всевластного совпадения действительно находится
между кабинетами анатомии и химии.
В классе радостно засмеялись этому остроумному наблюдению. Ученики
слушали Юркова внимательно -- он был опытным педагогом и лектором, умел, что
называется, "держать" аудиторию.
-- Да, друзья, изволите видеть: мы зажаты между анатомией и химией
между Хенигом и Кранахом. Впрочем, не хочу, чтобы это прозвучало
депрессивно. Язык, литература -- это переход от механического содержания тел
к их биохимической анимации. Сейчас мы прослушаем небольшой до. клад,
который нам Танечка любезно подготовила. Танюша сообщит нам кое-какие факты
относительно написания "Бинокля и монокля", в чем ей поможет ее друг --
компьютер. Не рекомендую вам обращаться к услугам карманных диктофонов.
Лучше конспектировать по старинке, в тетрадях. Посему раскройте тетради,
поставьте сегодняшнее число и записывайте то, что сочтете нужным, -- мне
будет интересно потом взглянуть на ваши записи, если вы, конечно, не будете
возражать.
Юрков подошел к доске и написал под словами "слаще кекса" дату:
2.08.2008.
-- Август, -- промолвил он задумчиво. -- Начинается август. Когда-то он
был месяцем каникул. Помните, ребята, как у Заболоцкого:
Железный Август в длинных сапогах
Стоял в лугах с большой тарелкой дичи,
И выстрелы гремели на лугах,
И в воздухе переплетались тушки птичьи...
Таня Лапочка, тринадцатилетняя красотка, лучшая ученица класса, встала
из-за парты и положила на край учительского стола листки с компьютерной
распечаткой своего доклада. Затем она села на вращающийся фортепьянный
табурет, на котором -- по традиции -- восседали "докладчики", и, изящно
закинув ногу на ногу, закурила тонкую, как спичка, ярко-зеленую сигарету с
антиастматическим наполнителем, состоящим из белены и перуанской марихуаны.
Юрков вежливо подвинул к ней хрустальную пепельницу.
-- Текст "Бинокль и монокль" был написан Ануфриевым и Пепперш-тейном
как глава тридцать восьмая для второй части романа "Мифогенная любовь каст",
-- начала Лапочка, трогательным жестом поправляя длинные гладкие волосы
цвета акациевого меда и стряхивая пепел в пепельницу. -- Однако, будучи в
Мюнхене в июне -- июле 1995 года, авторы получили от философа Игоря Смирнова
предложение предоставить текст для возможной публикации в Берлине.
Таня нажала на клавишу компьютера, и на экранчике появилась несколько
нечеткая, цветная фотография: зал мюнхенской пивной -- той самой, которую
когда-то особенно любили Гитлер и его партийные товарищи, -- спина
официанта, несущего огромные кружки с пивом, так называемые "массы", и за
деревянным столом небольшая, разгоряченная пивом компания. Лапочка нажала на
увеличение, и красные, возбужденные лица сидящих за столом надвинулись,
выплыли из глубины экранчи-ка, став еще более расплывчатыми. Используя маус
в качестве указки, Лапочка стала называть имена этих любителей пива.
-- Слева направо сидят: Сергей Ануфриев, Мария Чуйкова, московские
писатели Лев Рубинштейн и Владимир Сорокин, чьи тексты мы тщательно изучали
на предыдущих занятиях, затем Виктория Самойлова и Павел Пепперштейн, а
напротив -- Игорь Смирнов и Рената Деринг-Смирнова. Через некоторое время
после этой встречи в пивной, находясь в Цюрихе, Ануфриев и Пепперштейн
решили послать Смирнову рукопись только что законченной главы 38-й "Бинокль
и Монокль", снабдив ее дискурсивным комментарием. Так и случилось, что эта
глава, помимо ее существования в контексте романа "Мифогенная любовь каст",
приобрела статус отдельного рассказа.
Текст рассказа был написан в тетради, купленной 25 ноября 1994 года в
холодный пасмурный день, в Милане, в маленьком писчебумажном магазине возле
церкви Санта-Мария Делла Грация, где находящаяся там фреска Леонардо "Тайная
вечеря" была в это время закрыта на реставрацию. На переплете тетради вы
можете видеть репродукции гравюр с видами старинных парусников.
Лапочка снова тронула клавишу, и на экранчике компьютера возникло фото
закрытой тетради -- желтоватого цвета, с темно-зеленым корешком.
-- Текст был начат 22 мая 1995 года во время возвращения Пепперштей-на
из Парижа в Москву через Кельн. Начало, вплоть до фразы "но постепенно он
увлекся, втянулся в работу", было написано Пашей в самолете "Кельн --
Москва". Текст писался в состоянии легкого алкогольного опьянения -- перед
полетом Паша выпил в баре аэропорта два стакана пива, а во время обеда в
самолете -- три стакана белого вина.
На экранчике возникло фойе кельнского аэропорта, затем салон самоета
российской авиакомпании.
-- Вскоре к работе над текстом подключился Сережа Ануфриев. Следующий
фрагмент написан 1 июня 1995 года в Одессе, на пляже имени Чкалова, в левой
его части, граничащей с так называемым "йоговским пляжем". На этих пляжах,
как вы можете видеть на снимке, отдыхала в основном молодежь, причем девушки
загорали, как было принято говорить тогда, "без верха", topless.
Компьютер продемонстрировал классу мутный, пляжный снимок -- на первом
плане было голое девическое плечо, отражающее солнечный свет.
-- Следующий фрагмент, -- продолжала Лапочка, -- написан Сережей и
Пашей 13 июля 1995 года в поезде Кельн -- Мюнхен. Затем работа над рассказом
продолжалась уже в Цюрихе, где Ануфриев, Чуйкова, Самойлова и Пепперштейн
гостили у их подруги Клаудии Йоллес в так называемом "доме ветра" на площади
Штюссихоффштатт, в пяти минутах ходьбы от улицы Шпигельгассе, где жил Ленин
накануне Февральской революции 1917 года и где также находилось когда-то
кабаре "Вольтер", излюбленное местечко дадаистов, подписавших в этом кабаре
свой манифест. В этот период, несмотря на летнюю жару, благополучие и
курортный образ жизни, оба автора страдали от различных физических
недомоганий -- Сережа мучился зубной болью (в результате были удалены два
зуба под новокаиновой анестезией), Паша был болен гриппом и к тому же
страдал от участившихя астматических приступов. Болезнь, в сочетании с
комфортом, способствовала творческой активности. Комментарий был написан в
первых числах августа 95 года, во время отдыха в Альпах, в местечке Венген в
высокогорной части кантона Берн, в шале семьи Йоллес. Лето 95 года было
жарким, и, как вы можете убедиться, взглянув на снимок, гора Юнгфрау, эта
величественная и прекрасная девственница, великолепный вид на которую
открывается с веранды упомянутого шале, была полуобнажена, почти лишившись
плотности своих вечных снежных покрытий, своих бесчисленных сверкающих
плев...
Лапочка перешла к графологической экспертизе текста. На экране
компьютера замелькали увеличенные кусочки фраз, образцы почерков -- ровный,
округлый почерк Ануфриева, разъезжающийся, неразборчивый почерк
Пепперштейна... Юрков перестал слушать ее.
"Молодец девочка, она, как всегда, хорошо подготовилась, -- думал он.
-- Пусть они приучаются к аккуратности, к дотошности. Без дотошности нет ни
истории литературы, ни самой литературы".
Хотя все эти бесчисленные факты были и не слишком интересны, несмотря
даже на то, что Лапочка пыталась оживить доклад пикантными деталями, вроде
замечаний о степени обнаженности девушек на пляже Чкалова и степени
обнаженности горы Юнгфрау жарким летом 95 года. Эти эрогенные замечания
действовали на слушателей безотказно, прежде всего потому, что сама Лапочка
была полуобнаженной, если не сказать совсем обнаженной -- прозрачные платья,
вошедшие в моду в этом сезоне, делали летнюю атмосферу еще более накаленной.
Лето было, конечно же, гораздо более жарким, чем в 1995 году. Лапочка была
слишком хороша собой в своем бесцветном и прозрачном платьице, под которым
вообще ничего не было, кроме ее тринадцатилетнего тела, покрытого ровным
загаром. В классной комнате мог бы быть ад, но кондиционер превращал ее в
подобие рая. За огромным окном из цельного стекла на флагштоке болтались три
флага -- российский бело-сине-красный, флаг Москвы и флаг префектуры
Северо-Западного округа: тибетская Калачакра-мандала на фоне синего силуэта
химкинского водохранилища. Рабочие в оранжевых комбинезонах возились на
стройплощадке -- там возводились коттеджики для учителей. Они выглядели как
в сказке: башенки, черепичные крыши, винтовые лесенки. На башенках
укреплялись жестяные эмблемы различных школьных дисциплин: математики,
физики, химии, физкультуры... Семен Фадеевич нашел взглядом почти
достроенный коттеджик с жестяной книгой на шпиле. Этот домик предназначался
для него. Когда отделочные работы будут закончены, он со своим немудреным
холостяцким скарбом, с множеством книг, переберется сюда из распадающейся
"хрущобы" -- сюда, поближе к школе. И, даст Бог, проведет в этом игрушечном
скворечнике счастливую, деятельную старость. Конечно, эта новейшая
фамильярность, пришедшая из Америки, несколько смущала его -- "Сережка",
"Пашка"... Он отчасти все еще принадлежал к старой школе, для приверженцев
которой литературные персонажи были более реальны, чем авторы. "Сережка" и
"Пашка", разъезжавшие со своими девушками по заграницам и курортам и только
и думавшие, как бы урвать от жизни лишнюю чашку пива или лишний стаканчик
йогурта, казалось, не имели никакого отношения к судьбам фон Кранаха,
Дунаева, Яснова, Коконова... Семена Фадеевича интересовали только эти судьбы
-- подлинные судьбы, не имеющие конца, огромные и строгие -- а отнюдь не
глупые приключения Сережки с Пашкой. Точно так же ожиревший Тургенев,
сидевший на своих немецких водах, не имел никакого отношения к судьбам Аси и
Нехлюдова. Конечно, в глубине души Семен Фадеевич понимал, что правда за
Лапочкой и за современной американской школой, но его не интересовали 90-е
годы, его интересовали сороковые -- время войны, Великой Войны, время,
которое он смутно помнил в детстве. Эвакуация, недоедание, бедность, голос
радиодиктора Левитана, поезда, какие-то кульки, лужи, глина... Великая
Отечественная Война. ВОВ. Надо будет указать ребятам на связь между этой
аббревиатурой и именем главного героя "Мифогенной любви каст" Дунаева --
Володя, Вова. Это имя самой войны, превращающееся в призыв: "Вов! А, Вов!"
Он снова взглянул на Таню. Она продолжала говорить, орудуя маусом, с
помощью которого она демонстрировала классу специфику тех или иных
графизмов: завитки Ануфриева, микроскопические зачеркивания Пепперштейна.
Иногда она отбрасывала назад волосы изящным движением кисти. Эти маленькие
острые соски... Другие девчонки тоже были прекрасны. Лена Брюнова по
прозвищу Абба и Соня Шумейко по прозвищу Вторая Фея сидели вообще голые, в
одних набедренных повязках на индейский лад, с пестрыми перьями в волосах.
Семен Фадеевич засунул руку в карман и незаметно дотронулся до своего
члена сквозь ткань подкладки. Ему уже исполнилось семьдесят четыре, но
только последний год он стал испытывать некоторые проблемы с эрекцией. До
этого он не задумывался о том, что это придет -- старость, бессилие.
Раньше ему казалось, что жизнь не обделила его любовными приключениями.
Он был высок ростом, хорош собой, умен, остроумен. Летом его скульптурное
лицо покрывалось бронзоватым загаром. Ему всегда говорили, что он похож на
Пастернака. Он действительно был очень похож на Пастернака, особенно если
несколько "славянизировать" еврейские черты поэта. Однако его сексуальная
жизнь никогда (даже мысленно) не была связана со школой: школа всегда была
важнее, священнее. Ничто не любил он так искренне, как долгие и горячие
детские прения о литературе. Ученицы часто влюблялись в него, но он всегда,
с виртуозным тактом и теплотой, переводил их детские страсти на сверкающие
рельсы любви к словесности. Письма Татьяны! Он мог бы стать коллекционером
подобных писем. Но из деликатности он уничтожал их. Сам он не испытывал
тогда искушений -- целомудрие казалось ему таким естественным! И вот теперь,
когда старость приблизилась столь внезапно и, казалось бы, следует навсегда
расстаться с фантазиями определенного свойства, именно теперь его стало
томить желание. Тела девочек, как назло, освободились от уродливых школьных
униформ, да и литературоведческий дискурс мучительно сексуализировался.
Считается, что вербализации ослабляют tension. Роковая ошибка Фрейда!
Только проговаривание и создает желание, а отнюдь не умолчания.
Он вдруг понял, сколько упустил! Выебать, выебать бы всех этих
маленьких девочек, этих девчонок-тинейджеров, так, чтобы они постанывали и
сладко кричали, как кричали матери их, зачиная этих существ...
Он оглянулся на написанное им на доске. Неизвестно еще, кто больше
боится секса -- девчонки или старики. Конечно, старики. Вот он участвует в
рекламе секса, и так чудовищно бескорыстен в этом деле! Они будут ебаться
друг с другом, эти девчонки и мальчишки, а также их родители, но не с ним,
не с ним...
Наверное, он не побоялся бы скандала и выебал бы какую-нибудь из этих
девчонок (кто в наше время боится скандалов?). Ей бы это было приятно, даже
лестно. Они все любят его. Они знают: он готов ради них на все. Если бы
вдруг нагрянули фашисты, он пошел бы со своим классом на смерть, как Януш
Корчак. К тому же русская девочка в этом возрасте, как никто другой, жаждет
истины. Она может отдаться в благодарность за одну мудрую и точную фразу
учителя.
Он окинул взглядом классную комнату, в которой проработал несколько
десятилетий. Еще недавно здесь были другие окна -- тоже большие, но узкие, с
решетками в виде лучей восходящего (а, может быть, заходящего) солнца.
Вместо них пробили во время реконструкции одно большое окно.
Убрали не только решетки, но и рамы -- сделали одно сплошное,
пуленепробиваемое стекло. Когда-то в глубине класса стоял небольшой бюстик
Ленина -- прямо под портретом Пушкина. Теперь под этим портретом видна
небольшая черная статуэтка каслинского литья, изображающая Чаадаева на балу:
в гусарском мундире, со скрещенными на груди руками, он прислонился к белой
алебастровой колонне, словно символ отстраненности, неучастия и надменности.
Когда-то это была средняя общеобразовательная школа номер 159. Теперь --
Государственный лицей Северо-Западного округа. Все изменилось. Все
изменилось к лучшему. Но... Он вспомнил ядовито-печальные строки Гейне:
Жалко только, что сухотка
Моего спинного мозга
Скоро вынудит покинуть
Прогрессивный этот мир.
Юрков был здоров, но он ощущал старость, точнее, переход к старости. Он
испытывал язвящую климактерическую печаль. -- Самое страшное это когда уже
нельзя будет онанировать, -- подумалось ему. Это, наверное, похоже на
стальные наручники. Климакс, старение. Русская литература всегда
пренебрегала этими темами. Старость не была проблемой, потому что она
означала не слабость, а наоборот, силу и власть. О стариках не заботились --
их боялись. Так принято на Востоке. Эта едкая печаль стареющего интеллигента
возможна только в обществе, где создан культ молодости. Писатели-американцы
-- вот кто любил описывать эту печаль, смешанную с раздражением.
-- Слова "старость" и "страсть" состоят из одних и тех же букв, --
сказал Семен Фадеевич себе. -- Все зависит, как всегда, от мелочи. Пара букв
переброшена из одной части слова в другую, и вот уже все накренилось,
разъехалось...
Таня Лапочка закончила свой доклад. Учитель поблагодарил ее за отличную
работу и пригласил всех пройти в кабинет интерактивной анимации, где группа
ребят под руководство Ну Погоди приготовила развлечение для остальных.
В полутемном кабинете освещены были только три экрана различной формы.
Один светился зеленым и представлял собой поверхность большого стола,
стилизованного под бильярдный. Справа от "бильярда" находился квадратный
розоватый экран. Напротив -- лимонный, прямоугольный, слегка вогнутый. Ну
Погоди и его "ассистенты" -- киберпанк Ревизоров по кличке Сенди и Оля
Флоренская по кличке Дыня -- раздали всем громоздкие виртуальные очки. Затем
молчаливый пухлый гений Ну Погоди удалился за ширму, где был установлен
компьютер-оператор. Сенди врубил энергичный дарк-сайд в компьютерной
аранжировке.
-- Завязывай рэйв, Ревизор, -- сказал кто-то из ребят со смехом.
-- Отхлынь, щелочь, -- надменно ответил прыщеватый Сенди, перекатывая
за щекой шарик ароматизированного насвая. С видом штурмана, вращающего
штурвал, он стал осторожно перемещать серебряные движки синтезатора.
Дарк-сайд плавно перешел в возвышенный и холодный эмпти-эйдж, затем в
поэтичный амбиент, наполненный полыми и ускользающими звуками подводного
мира, страстным пением китов и игривыми верещаниями дельфинов, затем
зазвучали унылые голоса якутских и тувинских шаманов, словно бы придавленных
тысячетонными мраморными плитами. Крики полинезийцев, обработанные в духе
лондонского этно-транса, незаметно перетекли в веселые мелодии диско, и
вдруг, совершенно неожиданно, прорезался и зазвучал в полную свою силу мотив
"Вставай, страна огромная!"
Ребята зааплодировали. Однако аплодисменты мгновенно оборвались,
перекрытые следующим эффектом: в центре розового экрана обозначился
интерактивный облик эсэсовца. Виден был только торс, медленно вращающийся,
поворачивающийся к зрителям неотвратимо, как башня танка. Торс увенчивала
небольшая головка в фуражке. Монокль в правом глазу испускал острый
"диснеевский" блик через равномерные промежутки времени. Эсэсовец был в
черной униформе, которая представляла из себя кусок темного звездного неба с
созвездием Плеяд. На околыше фуражки сохранен был маленький череп --
крошечная адамова головка, похожая на обсосанный леденец. Торс отделился от
экрана и повис в пространстве, медленно вращаясь, посреди комнаты. Сенди
включил эмпти-эйджевский хит "Ich liebe disch, RussLand!", сквозь хоралы
которого проступала электронная версия "Войны священной".
Анимация была, конечно, примитивная. Особенно плохо проработано было
лицо: черты Кранаха настолько оказались слабы, что постоянно исчезали.
"Пора поговорить с директором о новой технике, -- подумал Юрков. На
этих допотопных машинах ребята не могут развернуться".
В центре лимонного экрана возник образ Дунаева. Его лицо было колла ным
способом заимствовано из старого голливудского фильма "Бен Гур" собственно,
это и было лицо самого Бен Гура, однако глаз видно не было, поскольку прямо
из них вырастал бинокль.
Начался поединок. Он разворачивался как бы в небесах (появились
довольно плохо сделанные облака) над "бильярдным столом", на котором
происходила высадка союзников в Нормандии. Высадка союзников была старой
анимационной работой Ну Погоди, которую он все время усовершенствовал. Это
была действительно отличная анимация знаменитых хроникальных кадров.
Трехмерные солдаты союзников бежали по воде и падали в воду, реяли белые
пузыри парашютов, вздымались взрывы: можно было разглядеть каждый камень,
выброшенный взрывной волной в воздух... Непонятно, правда, было, почему Ну
Погоди вставил этот эпизод в данном случае. Поскольку "Высадку союзников"
все видели уже много раз, на "бильярд" вообще никто не смотрел: все внимание
было сосредоточено на поединке Кранаха и Дунаева.
Кранах стал посылать моноклем белые молнии, стараясь задеть
чувствительные стекла вражеского бинокля. Дунаев ловко уворачивался, он был
довольно мобилен. При этом он постепенно увеличивал размеры бинокля,
надвигаясь на Кранаха двумя тяжелыми, вытаращенными трубами. В тех случаях,
когда Кранаху все-таки удавалось задеть Дунаева молнией, тот весь
передергивался, его амебообразное тело содрогалось, становилось более вялым
и бледным в оттенках, а трубы резко сокращались в размерах, словно два
фаллоса, растерявших свое возбуждение в результате испуга. Зато Дунаев
обладал способностями к быстрой регенерации -- оправившись от удара, он
стремительно бил Кранаха трубами, причем заветной целью его ударов был,
конечно же, монокль. Иногда он попадал по черепу на фуражке Кранаха, и в те
секунды череп издавал краткий Крик, скорее напоминающий птичий крик
ликования, нежели крик боли или скорби. Не сразу Юрков понял, что это
растянутое на птичий манер слово "пизда". Прежде чем умолкнуть, череп
открывал аккуратный ротик и забавно щелкал зубками.
Чаще всего Дунаев таранил своими трубами торс эсэсовца -- кусок ночного
неба, свернутый наподобие рулона. После каждого сильного удара от этого
торса отщеплялся кусочек -- черная тростинка или кляксочка -- и этот
кусочек, словно кусочек сажи, словно черная снежинка, танцуя и кружась,
опускался на поле боя, где все бежали и падали смазанные фигурки союзников.
Постепенно берег Нормандии покрывался этим черным снегом, и все хуже было
видно солдат, взрывы, каски, тени... Если падала звезда, из тела Кранаха
вниз, в нормандский хаос, то сверху, на специальном экранчике, имевшем вид
извивающегося в небе картуша, зажигались слова One Wish, что, видимо, должно
было означать, что зрители могут загадывать желания. Однако желания
загадывали не только зрители -- загадывал желание и Дунаев. Поэтому падение
звезды было особо опасно для Кранаха, ибо у интерактивного Дунаева всегда
оказывалось только одно желание -- нанести новый мощный удар по врагу, после
чего эсэсовец, как правило, терял значительный фрагмент своего тела. Кранах
таял быстро, на глазах становясь отчетливой, черной буквой К. Юркова
порадовало внимание, с которым ребята изучили план первитиновых галлюцинаций
фон Кранаха. Дунаев ударил по К, отбил обе короткие черточки. Они упали как
крылья черной стрекозы. Осталась лишь одна вертикальная черточка, увенчанная
условной эсэсовской фуражкой и снабженная моноклем. Похоже было на могильный
столбик, затерянный среди снегов, на котором висит фуражка убитого фашиста,
-- такие столбики изображались на советских карикатурах и плакатах времен
войн. Бессмертные шедевры Кук-рыниксов, Моора, Дени, Бор. Ефимова! Дунаев,
однако, вскоре сбил фуражку -- она упала и растаяла в темнеющем ландшафте
Нормандии. На прощанье череп четырехкратно прокричал "Пиииииззззда!"
Однако и для Дунаева поединок не проходил безболезненно. Молнии,
посылаемые ловким и коварным моноклем Кранаха, все чаще врезались в его
аморфное тело, делая его все более бледным, рыхлым, неповоротливым,
бесцветным. Наконец после целой серии трассирующих молний, стилизованных под
сверкающие залпы зенитных орудий, Дунаев атонально сжался и растаял. Его
исчезновение сопровождалось звуком, напоминающим водянистый глоток, с каким
старый унитаз поглощает очередную порцию испражнений. Дунаева словно бы
спустили в невидимую канализацию.
Напоследок он все-таки ударил еще раз по врагу -- последняя черточка
Кранаха стала точкой, затем стала меньше точки, ушла в растры боковых
экранчиков, затерялась, истаяла.
Бинокль и монокль остались в "небе" одни, без своих носителей, как и
полагалось по программе, заданной комментарием Ануфриева и Пеп-перштейна.
Поединок продолжался. Тактика противников, однако, изменилась: борьба стала
более отвлеченной, рафинированной, более соответствующей оптическому
предназначению этих предметов. Исчезли тупые удары, молнии, толчки. Движения
дуэлянтов сделались плавными, парящими, напоминающими танец. Вращаясь по
своим переплетающимся орбитам, они становились то больше, то меньше, и их
боевое искусство сводилось теперь к стремлению показать своего противника
сквозь себя, сквозь собственную оптику. То разрастался монокль, занимая
своим простым стеклянистым телом все небо сражения. Он как бы брал все в
круглую рамку, и сквозь него зрители видели бинокль в обликах
унизитель-ных.смешных, нелепых и монструозных: то как две слипшиеся сладкие
палочки (заимствованные с непристойной рекламы Twix), то как грязного
двухголового льва, то в виде обоссанного двугорбого верблюда... Изображения
были нарочито карикатурные, лоснящиеся, усеянные мелкими, оскорбительными
деталями.
Но когда упрощенный космос поворачивался к зрителям другой стороной,
они имели возможность созерцать монокль сквозь две трубы бинокля. Это были,
собственно, уже два кружочка, похожие на две луны, робко нарисованные тушью
-- ничтожные, ненужные...
Юрков догадывался, что произойдет дальше. Предметы постепенно
сблизятся, приступят к совокуплению, к соитию. Монокль встроится в одну из
труб бинокля в качестве дополнительной линзы. Он будет съеден, утратит свою
самостоятельность. Но, с другой стороны, станет оптическим диверсантом,
навеки испортив бинокль собой. В конце концов "зрение" бинокля окончательно
утратит фокус, сделается уже не раздвоенным, а расстроенным зрением --
плывущим, дробящимся, салатообразным, быть может, фасеточным, как зрение мух
или пчел.
Семен Фадеевич смотрел на все это не очень внимательно. Его всегда
раздражало качество изображения, характерное для компьютерной анимации, где
вещи сотканы словно из наслоений цветного студня. В них есть что-то мыльное.
Бестелесная слизь... Оранжевая слякоть -- как сказал Пастернак. К тому же
его по-прежнему мучили две страсти, плохо согласующиеся друг с другом, --
ностальгия и похоть. Он вспоминал давние занятия литературного кружка, без
всей этой технологии, но зато какие были тогда горячие, бесконечные споры о
литературе! Бесконечные, увлеченные, иногда наивные, но... Что-то в них было
такое, что заставляло вспоминать их снова и снова. Ему вспомнилась горячая
дискуссия о поэме "Видевший Ленина". Когда это было? Где-то в начале
восьмидесятых. Какой был увлекательный спор об образе Двухтысячного Года, о
лицах и телах времен! Вот этот год уже позади. И во многом ребята тогда были
правы. Их предчувствия... Где теперь те дети? Давно стали взрослыми. Один
расстрелян. Есаулов -- так, кажется, его звали. Он убил нескольких учителей
во время учительского собрания. Говорят, он хотел стать поэтом, но у него не
было дара, и отчаяние толкнуло его на этот поступок. Жестокий поступок,
бессмысленное преступление, но... В глубине души Юрков считал, что эта
трагедия расчистила дорогу новым, лучшим педагогам. Как ни странно, после
этого злодеяния в школе повеяло свежим ветерком.
В темноте он стоял слишком близко к двум девочкам -- Тане Лапочке и ее
подружке по прозвищу Красавица-Скромница. Они были похожи друг на друга,
почти как близнецы. Он чувствовал тепло их тел, запах легких детских духов.
Недавно, в ярко освещенном классе, он подумал, что эрекция, возможно, уже
никогда не навестит его. Вздорная мысль! Здесь, в темноте, эрекция была тут
как тут.
Проще всего было бы, конечно, просто прижаться к ним, как делали в
таких случаях всегда, во все времена. Это можно было сделать незаметно для
остальных, а девчонки удивились бы, но вида бы не подали. Но его
останавливало, что не только он, но и они слишком хорошо знали "Лолиту",
слишком много обсуждали семантику подобных ситуаций на предыдущих занятиях.
Отличница Лапочка даже написала остроумный реферат "ГУМ-берт: голодные духи
в раю". Ей удалось взять интервью у нескольких профессиональных извращенцев
(так называемых "прижимал"), "работавших" в аркадах и на мостиках ГУМа. Ему,
восхищавшемуся этим рефератом, было стыдно самому повторять подвиги
подопытных Лапочки.
Конечно, этот стыд был просто глупостью -- он это понимал, но
преодолеть эту глупость, эту робость был не в силах. Он решил, что пришла
пора отдохнуть.
Тронув Лапочку за гладкое горячее плечо, он прошептал в ее круглое
нежное ухо, украшенное сережкой в виде крошечной серебряной свастики:
-- Танечка, я устал. Пойду отдохну у себя. Ты остаешься за старшего.
Лапочка полуповернула к нему красивое лицо, кивнула (успокаивающе и
дружески, и в то же время почтительно), улыбнулась одними уголками губ. В ее
глазах, как в маленьких зеркалах, отражались цветные фрагменты анимационных
глупостей. Живой ее глаз отражал совокупление двух фиктивных оптических
приспособлений, двух гаджетов. Простое поглощалось более сложным.
"У себя" означало особую, почти приватную комнатку. Теперь каждый
учитель имел такую в здании школы. Семен Фадеевич зашторил окно, выходящее
на школьный двор. Нам столике стоял поднос с остывшим обедом, принесенным
кем-то из учениц из школьной столовой. Стремясь, что называется, "быть в
форме", Семен Фадеевич последние годы экспериментировал с различными
диетами, причем довольно успешно. Диеты, сменяя друг друга, как сны,
порождали легкость и энтузиазм.
Уже три месяца Юрков ел только белое: белый творог, белки яиц, белую
репу и редьку, сметану, пил молоко, кефир, ел яблоки "белый налив" без
кожуры, ел белую брынзу, белый рис, белую лапшу, белоснежную рыбу, ел белые
лепешки, пастилу, мякоть кокоса... В школьной столовой ему готовили особо.
Пожилой учитель взглянул на еду. Легкий голод-то он ощущал, но у
пожилого были другие планы.
Он подошел к маленькому холодильнику, по форме напоминающему книжный
шкафчик, вынул из кармана ключ и вставил его в замок нижнего ящичка. Ящичек
плавно выкатился из глубины на своих невидимых роликах. Это была аптечка,
наполненная ампулами, пузырьками... На стеклах миниатюрных сосудов кое-где
посверкивали крошечные островки инея, как зеркальные конфетти после
новогоднего бала. Здесь хранилась целая коллекция различных витаминов,
лекарств, биостимуляторов, релаксантов, травяных экстрактов, мазей,
снотворных. В том числе имелись и различные галлюциногены. В последнее время
Юрков полюбил их. Теперь он, случалось, предпочитал тот или иной "трип"
вечернему телевизору или кинофильму. Более того, даже часы, которые он
привык посвящать чтению, все чаще и чаще становились прибежищем галлюциноза.
И сейчас, после напряжения, испытанного во время работы, после этих ярких
приступов сексуальной неудовлетворенности, Юркову хотелось чего-нибудь
этакого... Чего-то по-настоящему запредельного.
Несколько минут он задумчиво созерцал пеструю коллекцию препаратов,
раздумывая, что бы ему выбрать. Наконец он остановился на почтенном коктейле
ПСП + кетамин, модном году в восемьдесят восьмом, когда в Москве процветала
Медгерменевтика.
-- По теме сегодняшних занятий, -- бормочет учитель. -- Другие
писатели, возможно, вынудили бы прибегнуть к кокаину, к ДМТ, к
псилоциби-новым грибам, к МДМД или же к ЛСД. Какой-нибудь литератор еще,
чего доброго, мог бы спровоцировать прием самого дедушки Мескалито, да еще с
гармином, содержащим обворожительные и опасные МАО-ингибиторы делающие
галлюциноз бесконечным. Но сегодняшние, пожалуй, взывают именно к данному
миксу: ПСП + кетамин. Да-с. Таково меню. Компьютерная анимация, конечно,
хороша, но ведь это всего лишь эрзац галлюциноза: "технэ" вместо "псюхе". Не
пройдет, господин нотариус! Не пройдет. Пускай дети играют в свои игрушки,
взрослому человеку, тем более в преклонных годах, нужен настоящий
галлюциноз. Без подвохов. Вот так-то вот, прапорщик Дзюбский! Такие вот
помидоры. Детям игрушки, взрослым -- спелые грушки!
Юрков по-стариковски бормочет, смешивая препараты. Он надевает на руку
инъекционный браслет, вкладывает в патронташ ампулку. Этот патронташ
напоминает элемент черкесского или лезгинского национального костюма. В
такой костюм был одет последний царь Николай Второй в тот момент, когда он
подписал свое отречение на станции "Дно". Отречься. Приходит время, в
очередной раз, отречься. Уйти на дно -- зеленое, пушистое, мягкое. Залечь
там, как сом.
Юрков быстро, не глядя, ставит в магнитофон кассету. Нажимает на
"плэй". Играй же, все то, что умеет играть! Пускай будет вещь, которую люди
называют музыкой. Осталось нажать на еще одну кнопку -- янтарно-красную
кнопку на инъекционном браслете. Старик нажимает на эту кнопку.
Микроскопическая игла делает почти не ощутимый укол.
Торт. Вначале был торт. Необъятный, белоснежный, исподволь
похрустывающий своими ракушками. В его внутренних слоях, с уровня на
уровень, лились питательные соки. Старикано не поняло, с какой стороны оно
вышло на Торт. Кажется, оно взяло его сбоку, с уголка. Торцом выходит на
существ счастие. В какой-то момент показалось, что в одном месте, где среди
сахарных снегов шло рекой жаркое малиновое повидло, можно увязнуть навсегда.
Но музыка поднялась изнутри большими белыми валенками и протолкнула вверх,
где топорщились бесчисленные одутловатые терема из хрупкого бизе,
сработанные смешливыми поварятами. Музыка (это был, конечно же, не Бизе, а
другой композитор, родившийся лет за 200 до того, как Бизе появился на свет)
надулась и, возможно, лопнула. И так несколько раз. Тортик. Приземлился в
торт. Быстро, как согбенный и юркий монах по сухому бревну, пробежала
литературная ассоциация. В одной повести ветер унес человека и бросил его в
торт. Ему чуть было не срезали голову, но он сбежал сквозь бездонную
кастрюлю. Туннель привел его в вонючий зоопарк, где в клетке умирало
существо по имени Туб, давно потерявшее человеческий облик. Где торт, там и
бездна. Сейчас Юркову казалось очевидным только лишь имя Туб -- так зовут
всех умирающих. Еще одно увязание. Сколько клея в сладком! На одном из
отрогов торта пухлые зайчата отбивали земные поклоны перед огромной
морковью, которая лежала в гробу. "Нельзя глупеть, -- с хохотом промолвил
изумрудный шлем. -- А то отнимут еду. Вообще перестанут кормить".
Заиндевевшие коросты марципана звонко, по-весеннему, разламывались под
ногами. Под ногами кого? Под ногами чего? Под ногами души. Под ногами
трепещущего сердца. Под ногами путешествующих глаз. У всего живого есть ноги
-- если и не гладкие и длинные ноги красавицы девушки, то хотя бы ножки
насекомого. Он стал альпинистом, ему было холодно и приятно взбираться все
выше и выше по сладкой горе. Восхождение на гору Кармел. Кармел это
Карамель. С карамелькой в защечном мешочке, в коротком монашеском платьице,
здесь пробегала Маленькая Тереза, последняя святая девочка кармелитов. Она
написала когда-то, что обычные духовные восхождения ей, девочке, не под
силу, поэтому ей хотелось бы подняться к Богу на лифте. Она называла себя
"мячиком Христа".
Постепенно старый учитель овладевал своим галлюцинозом. Из глубины его
неокрепшей, новорожденной старости поднялась некая сила. Это была его личная
сила, напомнившая ему о том, что у него есть собственная воля и собственные
намерения. Здесь он нигде не видел себя, но он помнил, что он -- УЧИТЕЛЬ
ЛИТЕРАТУРЫ. Он "помнил" это в мире, где припоминание было проявлением
экстравагантности. Более того, память здесь была чудом. И хотя слово
"УЧИТЕЛЬ" и слово "ЛИТЕРАТУРА" были сейчас двумя колоссальными цукатами,
взятыми на просвет, в их соединении все же содержался немыслимый пафос. Это
словосочетание утратило всю свою повседневность. Равнодушие, подспудно
коллекционируемое усталостью, было внезапно взорвано и развеяно в прах.
Собственная харизма предстала перед ним во всем своем блеске.
Галлюцинаторный торт, как истинный остров Пафос, заставил его вспомнить о
своем призвании. Как мог он, словно глупый тинейджер, мучиться поутру о
девчонках! Как мог он уныло мечтать о прошлом! Ведь он же -- УЧИТЕЛЬ!
Сегодня утром из его уст выплыли слова: "Литература это переход от
механического содержания тел к их биохимической анимации". Тогда он произнес
это мимоходом, как рядовую интеллектуальную ремарку, вовсе не
предназначенную для того, чтобы вызвать у слушателей шквал молитвенного
энтузиазма. Теперь это собственное высказывание, по прихоти делирия,
развернулось перед его изумленным взором в высочайшую мудрость. За сухими и
скромным интеллигентными словами почудилось "дыхание Божие" -- ведь именно
Оно осуществляет переход от механического содержания тел к их биохимической
анимации. Глубоко потрясенный собственной мудростью, побрякивая рыцарскими
латами, он продолжал путь к вершинам острова. Он знал теперь, что ищет
Сокровище, что-то вроде Святого Грааля, но не Грааль. Он ищет путь к
Сокровищу -- быть может, лифт святой Терезы, а может быть, бездонную
кастрюлю мастера Туба. Каким бы ни был путь, он найдет сокровище и вернется
в мир с трофеем. "Надо принести что-нибудь ребятам", -- подумал он о своих
учениках. Ландшафт вокруг него постепенно прояснялся, становился реальнее.
На склонах, вместо крошащегося бизе и марципана, показалась зеленая трава,
слегка тронутая инеем. Навязчивые образы бинокля и монокля, которым был
посвящен этот день, видимо, и теперь присутствовали в его сознании. На
вершине холма он обнаружил плиту, щедро инкрустированную драгоценными
камнями, а также жемчугом и кораллами. Жемчужины, алмазы, рубины, сапфиры,
изумруды, опалы, кусочки малахита, нефрита и розовой яшмы -- все это
складывалось в текст. Это была развернутая цитата из Пруста, из той части
первого тома "Поисков", которая называется "Любовь Свана". С изумлением он
стал читать. Оказывается, и здесь возможно чтение. Текст был ему хорошо
знаком, и читая, он тщательно следил, чтобы галлюциноз не внес в текст
каких-либо искажений или подтасовок. Подтасовок не было.
"... Даже монокли у многих из тех, которые окружали теперь Свана (в
былое время ношение монокля указывало бы Свану только на то, что этот
человек носит монокль, и ни на что больше), уже не обозначали для него
определенной привычки, у всех одинаковой, -- теперь они каждому придавали
нечто своеобразное. Быть может, оттого, что Сван рассматривал сейчас
генерала де Фробервиля и маркиза де Бреоте, разговаривавших у входа, только
как фигуры на картине, хотя они в течение долгого времени были его
приятелями, людьми, для него полезными, рекомендовавшими его в Джокей-клоб,
его секундантами, монокль, торчавший между век генерала, точно осколок
снаряда, вонзившийся в его пошлое, покрытое шрамами, самодовольное лицо и
превращавший его в одноглазого циклопа, показался Свану отвратительной
раной, которой генерал вправе был гордиться, но которую неприлично было
показывать, а к оборотной стороне монокля, который маркиз де Бреоте носил
вместо обыкновенных очков, только когда выезжал в свет, ради пущей
торжественности (так именно поступал и Сван), для каковой цели служили ему
еще жемчужно-серого цвета перчатки, шапокляк и белый галстук, приклеен был
видневшийся, словно естественнонаучный препарат под микроскопом, бесконечно
малый его взгляд, приветливо мерцавший и все время улыбавшийся высоте
потолков, праздничности сборища, интересной программе и чудным
прохладительным напиткам... У маркиза де Форестеля монокль был крохотный,
без оправы; все время заставляя страдальчески щуриться тот глаз, в который
он врастал, как ненужный хрящ, назначение которого непостижимо, а вещество
драгоценно, он придавал лицу маркиза выражение нежной грусти и внушал
женщинам мысль, что маркиз принадлежит к числу людей, которых любовь может
тяжко ранить. А монокль господина де Сен-Канде, окруженный, точно Сатурн,
громадным кольцом, составлял центр тяжести его лица, черты которого
располагались в зависимости от монокля: так, например, красный нос с
раздувающимися ноздрями и толстые саркастические губы Сен-Канде старались
поддерживать своими гримасами беглый огонь остроумия, которым сверкал
стеклянный диск всякий раз, как он убеждался, что его предпочитают
прекраснейшим в мире глазам молодые порочные снобки, мечтающие при взгляде
на него об извращенных ласках и об утонченном разврате; между тем сзади г-на
де Сен-Канде медленно двигался в праздничной толпе г-н де Палланси, с
большой, как у карпа, головой, с круглыми глазами, и, словно нацеливаясь на
жертву, беспрестанно сжимал и разжимал челюсти, -- этот как бы носил с собой
случайный и, быть может, чисто символический осколок своего аквариума,
часть, по которой узнается целое... Свану стало так больно, что он провел
рукой по лбу; при этом он уронил монокль; он поднял его и протер стекло. И,
конечно, если бы он себя сейчас видел, то присоединил бы к коллекции
моноклей, остановивших на себе его внимание, вот этот, от которого он
отделался, как от докучной мысли, и с запотевшей поверхности которого он
пытался стереть носовым платком свои треволнения".
Еще несколько вечностей назад Юрков не мог вспомнить имя автора "Трех
Толстяков", теперь же он легко заверил канонический перевод Любимова, с
характерными для него изящными и громоздкими неловкостями, придающими этому
переводу особую ценность. Цитата была сохранена в неприкосновенности, если
не считать, что это, в общем-то, были три цитаты, соединенные в одну.
К этому моменту сингулярные вихри кетаминового прихода окончательно
утихли, уступив место кропотливой иллюстраторской работе галлюциноза,
разворачивающего свои иллюстрации на фоне теплых "перин" ПСП. Особенно эта
тщательность сказалась на качестве отделки плиты.
Имена шести носителей монокля -- Свана, де Фробервиля, де Бреоте, де
Форестеля, де Сен-Канде и де Палланси -- сверкали особенно яркими
скоплениями бриллиантов. От слов "рекомендовавшими его в Джокей-клоб" вбок
отходил темно-синий ворсистый шланг, чье пушистое извивающееся тело
многократно было схвачено золотыми и серебряными кольцами. Шланг
подсоединялся к искрящемуся фонтанчику, скромному и неказистому, который
старательно орошал побитый градом огородик, смущенно прячущий свои
искалеченные грядки за чередой кольев, на которые брошен был сверху толстый,
мутный, испачканный в земле целлофан. От слов "жемчужно-серого цвета
перчатки" шел игрушечный железнодорожный мост, украшенный миниатюрными
флагами социалистической Венгрии, на котором неподвижно стоял почтовый
поезд. В окошке тепловоза можно было разглядеть пластмассовую фигурку только
что застрелившегося машиниста -- он лежал, уронив голову на пульт
управления, сжимая в одной руке микроскопический пистолет "Макаров", а в
другой крошечное распечатанное письмо. Из-под желтых завитков пластмассовых
волос на его висок стекала большая и неподвижная капля темной крови.
Приглядевшись, Юрков понял, что это ртутный шарик в стеклянной капсуле.
От слов "ненужный хрящ, назначение которого непостижимо, а вещество
драгоценно" длинное рубиновое ожерелье тянулось к круглой танцплощадке,
иллюминированной разноцветными лампочками. Там кружилась одинокая пара под
звуки веселой музыки. От слов "любовь может тяжко ранить" отходило множество
золотых ниток, которые все, однако, сходились к маленькому китайскому
чайничку, на поверхности которого искусно вылепленные и раскрашенные
персонажи с вытаращенными глазами и исступленными лицами наседали друг на
друга в одном порыве -- дотянуться до носика, откуда в чашку лилась струйка
горячего крепкого чая, струйка, витая как шнурок и слегка окутанная паром.
От слов "его предпочитают прекраснейшим в мире глазам молодые, порочные
снобки" шла черная прямая трубка, уходящая в большую гору черного свежего
асфальта. Наконец, от слов "чисто символический осколок своего аквариума"
тянулась пышная белая кисея, чей дальний конец действительно покрывал собою
аквариум (это была единственная "прямая" иллюстрация), правда, вовсе не
осколок аквариума, а совершенно целый аквариум, причем огромный. Аквариум
был наполнен не водой, а зеленоватым воздухом. Там виднелся уголок цветущего
сада, запущенного и заросшего. Среди высокой травы и кустов стоял деревянный
столик и скамеечка. За столиком сидел человек и читал какие-то документы.
Иногда он задумчиво поднимал лицо. Одет он был в простую полотняную рубашку,
в широких штанах, в белых парусиновых туфлях. Перед ним стояла большая
красная чашка, наполненная темным вареньем. Иногда он брал тоненькую
серебряную палочку, макал ее в варенье и писал красным малиновым вареньем на
листах бумаги, над которыми уже кружились заботливые осы и мухи. За его
спиной, сквозь сосны, сверкала под обрывом река, откуда доносились веселые
крики купальщиков и повизгивания девочек. Молодой мотоциклист заботливо мыл
из шланга свой сверкающий мотоцикл. Его подруга, в пестром ситцевом платье,
стояла рядом, прислонившись к дереву и подушечкой своего пальца прикасалась
к прозрачной и теплой струйке смолы, стекающей по разогретой коре дерева.
Соседи в белых майках пилили блестящей пилой бревно.
Русская литература! Не ты ли когда-то создала этот мир, чтобы потом
медленно и словно бы нехотя высвобождаться из его неловких объятий? Уходишь
ли ты из мира, или же только грозишься нагрянуть в него? Кто спит за твоим
иконостасом, прогретым ласковыми лучами летнего солнца? Наверное,
когда-нибудь, пройдя через бесчисленные забвения, ты станешь религией
будущего. Тогда книги, когда-то листаемые читателями, раскинувшимися в
постелях или на пляжных ковриках, будут уложены в драгоценные
дарохранительницы, усыпанные алмазами. Только в особые дни священники будут
нарушать их святой покой.
Маленький храм, весь из красной резины. Внутри тепло. Очень тепло. На
возвышении стоит небольшая статуя Николая Второго, с ног до головы покрытая
лепестками черемухи. Вокруг, наверное, дремлет монастырь. В боковом закутке
хитрый русский монашек сидит за компьютером. Сбоку от алтаря -- музейная
витринка. Вот они -- шесть моноклей, разложены на красном теплом бархате.
Под каждым -- аккуратная бирка с именем владельца: Форестель, Фробервиль,
Бреоте, Сен-Канде, Палланси, Сван. Над моноклями в той же витринке лежит
индейский томагавк со слегка окровавленным лезвием. "Наверное, эти шестеро
убиты, -- подумал старик. -- А стекляшки здесь вместо скальпов. Это трофеи".
Слово "трофеи" зажглось в нем ярким пламенем. БЕЗ ТРОФЕЕВ НЕ ВОЗВРАЩАТЬСЯ!
-- заорало в душе какое-то жадное существо. Он хотел схватить трофеи, но,
как назло, не было рук. Да и вообще тела не было под рукой. Вдруг появились
двое: пышнотелая боярыня и морской офицер в белом кителе с золотыми якорями
на рукавах. Офицер сделал жест рукой, как будто подбрасывая вверх мяч. ЧУДО!
ЧУДО! -- по-юродски заверещало сознание. Монокли стали выплывать один за
другим из витринки, они выстроились в воздухе, образовав оптический туннель,
куда Юркову позволено было заглянуть. Монокли были тонкие, пленочные, отнюдь
не из стекла. "Контактные линзы!" -- догадался педагог. Затем он ощутил, что
линзы, одна за другой, мягко встраиваются в его изумленные глаза, нежно
скользят по слизистой глазури, обнимают (ласково, милосердно), просачиваются
сквозь закрытые веки, наслаиваются на глазное яблоко, наслаиваются, как
череда лечащих, целительных прикосновений... Юркова охватил трепет. "Я
ПРОЗРЕВАЮ", -- экстатически подумал он. Он понял, что всю жизнь был почти
слеп, и сейчас ему подарили новое зрение. Ему предстоит увидеть...
Он открыл глаза и увидел, что на него с любопытством смотрит
Красавица-Скромница. В руках она держала белый кувшинчик.
-- Семен Фадеевич, я принесла вам горячее молоко, -- сказала она. --
Что это вы тут делаете?
Она с усмешкой покосилась на столик, где валялись пустые ампулы, на
открытый холодильник-аптечку. Юрков обнаружил, что стоит посреди комнаты в
позе паука, упираясь руками и ногами в пушистый коврик. Он поднялся,
осторожно принял из рук девочки кувшинчик.
-- Заходи, Шурочка. Я тут галлюцинировал немного.
-- Что за снадобье? -- весело спросила Красавица.
-- Коктейль "Трансцендентное". Хочешь?
-- Ну, если только с вами, -- хихикнула девочка.
-- Ой, даже не знаю. Меня тут просто завалили галлюцинозом.
Сатори-хуятори, и всякое такое. К тому же я еще хотел сегодня поработать.
Надо бы все-таки что-то сделать с программой для младших классов.
Он показал на письменный стол, где лежала открытая книга стихов
Вильгельма Кюхельбеккера и тетрадь с заметками и выписками.
-- Ну, а может быть, все же разочек. "Трип не триппер", как говорят
наши идиотики, -- засмеялась девочка.
-- Трип не триппер, -- рассеянно повторил Семен Фадеевич. -- Ну что ж,
если ты так считаешь... К тому же я хотел показать тебе, что такое настоящее
литературоведение. Что на самом деле такое -- интертекст.
Вскоре они уже лежали рядом на узкой кушетке. В нужные моменты
галлюциноз (обычно такой самовлюбленный) может быть скромным. Он умеет быть
слугой. Он, как могущественный джинн, может быть сводней. Духи галлюциноза
могут превращаться во что-то вроде тех китайских детей, толстеньких девочек
и мальчиков с удовлетворенными улыбками на жирных щечках, которые
прислуживают совокупляющимся парочкам на старинных китайских изображениях.
Одобрительно хихикая и кивая друг другу своими головками, увенчанными
пучками на затылках, они подносят любовникам то чашку любовного зелья, то
корень сладострастия, измельченный на яшмовом подносике, то еще что-нибудь в
этом духе. Незаметно и как-то сам собой, посреди, кажется, огромной реки,
которая несла их куда-то вдоль темного и древнего туннеля, или же посреди
золотого подземного озера, случился первый поцелуй -- вроде бы длился он
несколько кальп, так что возникло даже подозрение, не эту ли странную вещь
называют "нирваной". Желание, аккумулированное телом старика, и желание
живущее в теле тринадцатилетней д:вочки, эти желания воспользовались
случаем, чтобы заставить отнестись с себе с должным почтением -- желание
стало домиком, затерянным в cierax, затем водопадом, смерчем, медленно
бредущим вдоль горизонта, хр;мом, до краев заполненным резвящимися белыми
сурками. Все актеры, все священнослужители -- все превосходно знали свои
роли. Руки кользили по телам. Ноги сплетались как дороги внезапно ожившей
стран!. Учитель и ученица совокупились.
Музыка (на этот раз это оказалао почему-то группа "Абба") наполняла
комнатку ангельскими голосами:
Там, где игракг правильную музыку,
Туда ты идеппискать его.
Танцующая королева!
Ты -- танцующая королева!
Полузабытая группа. И все же неябытая. Были ли вообще людьми эти шведки
и шведы? Их голоса и лицалишком человечны для того, чтобы быть
человеческими. Не то что чудсшщный лик Петра под Полтавой -- ужасный и
прекрасный и, надо полагть, убивающий... Такими бывают лики настоящих людей.
Музыка диско! Веселая беззаботня танцевальная музыка семидесятых годов
XX века! Не ты ли создала этотшр, чтобы потом медленно и словно бы нехотя
высвобождаться из его объятий? Уходишь ли ты из мира или только грозишься
нагрянуть в него? Кто спит за твоим теплым иконостасом, прогретым ласковыми
лучами летнего солнца? Когда-то, пройдя сквозь бесчисленные забвения, ты
стнешь религией будущего. Тогда песни, под которые юные парочки танцеали,
целовались и занимались любовью, будут исполняться в храмах, во время
затянувшихся богослужений...
Путаясь в своей длинной белой юбке Хемуль поднимался к вершинам
острова. Его преследовало ощущение, го он уже был здесь, что он совсем
недавно взбирался по этой тропе подучами тропического солнца. Но он знал,
что это ложь. Белая моторная мка, видневшаяся с кручи на фоне сверкающего
синего моря, свидетелйъовала о том, что они только что и первый раз в жизни
прибыли сюда. НЗольшая, теплая компания друзей и подруг. Почти семья.
Наконец он достиг пика. Отсюдастров виден был целиком. Он был похож на
круглый пирог, от которого одной стороны вырезали большой клиновидный кусок.
Сегодня Хемуль пополнил свой геарий. Кое-что для коллекции... Но
хотелось бы принести что-нибудь ре&ам. Какой-нибудь трофей. Он поднял
глаза от зеленого ковра трав и цвов. Перед ним, посреди небольшой полянки,
возвышался деревянный сто. На вершине столба был укреплен барометр.
Прекрасный барометр! Вот i -- превосходный трофей для ребят. Подобрав свою
юбку, Хемуль ловко пез на столб. Столб был гладкий, горячий, он слегка
извивался, как сама шодость. Когда он был на вершине, у барометра, он
вспомнил, что случится с ним через несколько секунд. Барометр показывал
"пасмурно". И здесь ложь? Он щелкнул по барометру. Тут же поляна заполнилась
хаттифнатами -- белыми, извивающимися, как сама юность. Они приближались.
Приближались. Толчками он стал раскачивать столб. Сначала робко, потом
сильнее, сильнее. Его движения стали равномерными, уверенными. Он больше не
боялся хаттифнатов. Они покачивались в такт его толчкам, они стонали и пели,
они блаженствовали. Он стал их богом. Он и барометр. Солнце висело,
невидимое, над самой белой каплеобразной головой Хемуля. Оно было все ближе.
И они были все ближе.
Оргазм пробудил его от грез. Он кончал на голый живот
Красавицы-Скромницы. Белая сперма стекла ручейком по ее ноге, островком
свернулась в уютном углублении пупка. Глаза ее были закрыты. -- Полюс, --
пробормотала она.
Часто приходится слышать, что рай располагается на острове. Это звучит
правдоподобно. Остров это всегда чье-то тело в воде, которое стало
неподвижным и усеянным чудесами и достопримечательностями. Или же это два
слившихся тела -- тела любовников.
Кем бы мы ни были -- украшением мира или его стыдом, -- наши тела тоже
когда-нибудь станут островом. Отчасти они смягчатся, отчасти окаменеют,
покроются растительностью, тенями, обзаведутся раз и навсегда собственными
заливами и гротами -- и вот тогда-то мы и обретем долгожданный рай, именно
такой, каким его изображают на картинах. Мы поселимся на поверхности
собственных тел, мы впервые окажемся на "своей земле" -- нагие, как
насекомые, избавленные от забот и недомоганий, мы будем беспечно бродить по
себе, плавать в себе, плясать над собой, водить хороводы в собственном небе,
взбираться на свои вершины и обнимать друг друга в своих углублениях.
Старик и девочка, тесно обнявшись, лежали на узкой кушетке в медленно
темнеющей комнате. Девочка нарисовала пальцем в воздухе вензель. Старик взял
со столика блюдце с крупно нарезанными ломтиками капустной кочерыжки.
-- То, что любят зайчата, -- сказала Красавица-Скромница.
-- Да, зайчата, -- сосредоточенно повторил Семен Фадеевич, съедая
ломтик. Он ел Центр. Белую сердцевину Всего. По углам комнаты толстой парчой
еще лежал медленно оседающий галлюциноз.
Внутри головы какой-то из подсобных "духов галлюциноза" на прощание
громко произнес смехотворным голосом:
Старичье! Старичье!
Чье оно'' Оно ничье.
Учитель был отпущен на волю. Он был свободен. Его "переходный период"
закончился. Настоящая старость, великолепная, здоровая, полноценная,
цветущая, отныне вступила в свои права. Старик догадывался, что эта
великолепная старость, возможно, будет вечной. Кажется, он стал Бессмертным.
"Я рад, что мне нашлось скромное местечко в даосском пантеоне", -- подумал
старичок, с детской жадностью целуя полудетский сосок Красавицы. Затем,
несколько неожиданно для самого себя, он прочел ей на память стихотворение,
которое он написал когда-то в молодости, еще в шестидесятые годы, находясь
под влиянием Мандельштама и влюбленности. Собственный голос показался ему
малознакомым, отдаленно напоминающим квакающий голосок Корнея Чуковского. Но
строки стихотворения, когда-то осужденного им как беспомощное, теперь
казались прекрасными и многозначительными, пропитанными бесконечной любовью:
Под свист тяжелых зимних птиц.
Под звяканье холодных медных спиц,
Твоя рука в перчатке опушенной
Толкнет калитку в садик оглушенный.
И ты войдешь. Сверкающей тропинкой,
Где девочка с заснеженною спинкой
Над мальчиком чугунным наклонилась
И с инеем зеленым подружилась.
Нас не одна зима такая ждет.
В ресницах снег и мутный хоровод...
И стан на стан. И стон на стон.
И сквозь провал во времени -- чарльстон.
Дай локоток. Там есть одно местечко.
Где кожа хмурится, и бледная насечка
Тончайших линий льется сквозь загар,
Сквозь солнца блеск и праздничный пожар...
Потом лишь свежий и холодный сок
И поцелуи на задворках дач, И господа.
И розовый песок. И быстрое дыхание. Не плач.
Диванная подушка вся в слезах.
Ее личин суровых важен торс.
Ее морщин ковровых влажен ворс.
Снаружи солнце. Солнце мух и птах.
Ты вспомнишь все: аптечную квартиру,
И в темной комнате коричневый рояль,
И сон про снег, про пар и про вуаль
И про упреки городу и миру.
Но я скажу, что завтрак на столе,
Что чашки строятся в декабрьское карэ,
И на сенатской площади верандной
Лишь ждут дворянский крик - гортанный крик командный.
Но не придет диктатор Трубецкой.
А ты приди. И снова будь со мной.
1995-1996
Инструкция по пользованию
Биноклем и Моноклем
Рассказ "Бинокль и Монокль" состоит из трех частей -- "Бинокля и
Монокля I" и "Бинокля и Монокля II", а также соединяющего их "Комментария".
В целом это литературное произведение изображает "совокупление", "стыковку"
двух инструментов. Монокль входит (встраивается) в одну из "труб" бинокля,
тем самым делая его оптику асимметричной, расфокусированной. "Комментарий",
соединяющий обе "оптические трубы", представляет собой своего рода колесико
настройки бинокля. Однако, вращая это колесико (то есть пользуясь теми
приемами интерпретации, которые даны "Комментарием"), можно настроить только
первую, "неиспорченную" моноклем, трубу бинокля. Поскольку во второй трубе
("Бинокль и Монокль II") уже находится монокль-диверсант (расслоившийся на
"шесть моноклей", отражающих шесть внутренних линз бинокля), оказывается
невозможным получить "цельную картину", "цельное изображение". Психоделика
второй части является здесь следствием наслоения двух типов оптики.
Тем не менее этим монструозным инструментом все же можно
пользоваться.Предатель Ада
В августе 1994 года, в Крыму, я посмотрел фильм. Странность заключается
в том, что фильм этот я посмотрел не в кинотеатре (скажем, в летнем
кинотеатре "Луч", похожем на примитивный храм), не в видеосалоне и не по
телевизору. Я увидел его за собственными закрытыми веками. При этом я не
спал. Был полдень в Коктебеле. Проплавав не менее двух часов подряд в море,
я отравился в излюбленное место в писательском парке -- это круглая
площадка, окруженная кипарисами, с недействующим фонтаном в центре. Здесь я
часто провожу жаркие часы, лежа на одной из лавочек. Я лег на лавку и закрыл
глаза -- точно так, как делал это бесчисленное количество раз, в самые
разные годы. Тут же, ни с того ни с сего, за закрытыми веками начался
"показ" фильма. Перед этим я ничего не пил, не принимал никаких
галлюциногенов, если, конечно, не считать галлюциногенными такие сугубо
оздоровительные мероприятия, как двухчасовой заплыв и августовская красота
парка.
Строго говоря, это был последовательный поток онейроидов, ярких и
качественных. Впрочем, ничего общего с привычными онейроидами в них не было
-- отсутствовал абсурдизм, рассогласованность, гипертрофия деталей, не было
ничего случайного, никаких калейдоскопических эффектов, никаких кричащих
асимметрий между "сгущениями" и "паузами", -- короче, не было ничего того, к
чему давно привык каждый одолеваемый онейроидным фонтанированием. В общем,
фильм ничем не отличался от любого другого, увиденного в кинотеатре.
Пространство закрытых глаз может иногда быть отличным кинозалом. Фильм был
американский (возможно -- голливудский), совершенно новый. При этом я
понимал, что это -- мой фильм, снятый таким образом, как если бы я был
профессиональным сценаристом и режиссером и в качестве такового имел бы
доступ к современным технологиям и крупным финансовым вложениям, которыми
славится Голливуд. По всей видимости, мое нереализованное желание снять
фильм (который был бы "остросюжетным", дорогостоящим и начиненным
технологическими эффектами) породило этот неожиданный "мозговой показ" во
время коктебельской сиесты. Поскольку этого фильма не существует в
реальности, мне придется прибегнуть к жанру "пересказа фильма". Этот жанр
пользуется скверной репутацией, несмотря на его популярность среди детей.
Название фильма "Предатель Ада". Действие разворачивается в недалеком
будущем, скорее всего в пятидесятые годы следующего столетия, с тем только
допущением, что Советский Союз не прекратил своего существования и мир
продолжает жить в ситуации напряженного -- политического и военного --
противостояния сверхдержав. При этом сами сверхдержавы (отчасти под
давлением затянувшегося противостояния) слегка изменились: в политической
системе США утвердились элементы олигархического порядка. Отчасти ограничены
полномочия демократических институтов власти. С другой стороны, в СССР
власть удерживается "коммунистической аристократией" -- группой внуков и
правнуков Брежнева, Громыко, Гришина и других. Это как бы "декаденты", люди
с расшалившимся воображением, образованные, развращенные -- имперские
властители эпохи упадка, только недавно вышедшие из положения развлекающейся
"золотой молодежи" и принявшие бразды правления из веснушчатых рук своих
угасающих предков. Главный герой фильма -- молодой американский ученый,
человек гениальный, необычный и физиологически, и занимающий необычное
социальное положение. Это тип человека с вечно румяным полудетским лицом, у
которого на голове вместо волос легкий светлый пух, как у новорожденного
птенца. У него также необычайно тонкая шея. Просветленные заросли этого пуха
трепещут от малейшего дуновения ветерка. Его имени я не запомнил. Что-то
вроде Лесли Койн. Он начал свою карьеру как врач-анестезиолог, но серия
совершенных им открытий резко изменила его статус. Его пригласили работать в
системе научно-исследовательских лабораторий Пентагона, где для его
экспериментов вскоре были предоставлены исключительные условия. Он работает
над созданием новых видов оружия массового уничтожения в строго
засекреченном центре, имеющем условное название "Темно-синяя анфилада". Для
внешнего мира он параллельно читает курс лекций на кафедре нейрофизиологии
по биохимии лимбической системы мозга. Его авторитет в области новейших
видов биохимических вооружений беспрецедентно высок, а поскольку ситуация в
мире остается крайне напряженной и пресловутая "гонка вооружений" постоянно
набирает обороты, к его консультациям регулярно прибегают и Генштаб и Белый
Дом.
Фильм начинается с дрожащего огонька, возникающего в самом конце
"темно-синей анфилады", -- это Лесли Койн закуривает необычайно длинную и
необычайно тонкую сигарету ярко-зеленого цвета. Зажигалка освещает его
младенческое лицо, на котором свежесть и усталость странно дополняют друг
друга. В первый момент ему можно дать года 22, однако потом становится
заметно, что у него нет определенного возраста. На нем строгий темный
костюм, белая рубашка, черный галстук. Он высокого роста, худой, двигается
несколько расхлябанно. Он мог бы выглядеть импозантно, но крупные уши и
слишком тонкая шея придают ему отчасти вид мальчика, одевшего взрослую
одежду.
Между тем американское общество -- как когда-то, в давние 70-е годы
двадцатого века -- охвачено пацифизмом. Независимые печать и телевидение
ведут постоянную кампанию против милитаризации. Кроме правительства и ВПК,
объектом ожесточенной критики являются, в частности, ученые, работающие над
обновлением вооружений, в особенности изобретатели средств массового
уничтожения. Карикатуры, плакаты и издевательские анимации, паразитарно
наводняющие компьютернуюю сеть, изображают Изобретателя то в виде анемичного
урода с огромным шишковатым черепом, который рассеянно заглядывает в
холодильник, где лежит кусок льда с надписью "совесть", то в виде склизкого
очкарика-эмбриона, пригревшегося за пазухой грубого пентагоновского
генерала. Не упущены и другие сугубо традиционные образы: кабинетный
мыслитель со "странным искривлением позвоночника" в форме знака доллара,
интеллектуальный скелет, похождениям которого посвящена колкая серия
комиксов "Death's Brein". Некоторые из этих стрел, пущенных наугад, задевают
цель. Многие коллеги и даже сотрудники Лесли Койна отказываются от участия в
исследованиях, полагая, что работа на ВПК превращает их в собственных глазах
в "продажных и бесчувственных существ". Что же касается самого Лесли Койна,
то он работает с возрастающим энтузиазмом и рвением. Он не является ни
"продажным", ни "бессовестным", он не является человеком, индифферентным по
отношению ко всяческой гуманности, просто его совесть это совесть
врача-анестезиолога. Койн не без основания полагает, что относительная
гуманность достижима не посредством сокращения и редукции вооружений (как
предлагают пацифисты), ибо это фактически сохранит в мире наиболее
варварские и неряшливые, "пыточные" средства уничтожения и расправы, но,
напротив, посредством перманентной модернизации, неустанного поиска новых,
сверхточных, отшлифованных и безболезненных методов устранения противника.
"Ложно понимаемый гуманизм, тормозящий развитие науки укрепленными линиями
своих фобий, на самом деле консервирует отталкивающие страдания и уродства
войны, более всего заботясь о том, чтобы война каждый раз, снова и снова,
провозглашалась преступлением, а отнюдь не о том, чтобы жестокость, как
таковая, была бы устранена, а преступление оказалось бы предотвращенным.
Руководствуясь своими убеждениями и совестью ученого, Койн, убедивший
правительство, в обход постановлений Конгресса, отказаться от табу на
разработки медикамен-тозно-химического оружия, произвел ряд радикальных
открытий и усовершенствований в этой области, дав в руки президенту и
правительству целую охапку козырей для полемики с пацифистами. Фактически
ему удалось создать анестезирующее оружие, убивающее без страданий, не
производящее разрушений и травм, не обжигающее, не калечащее, ему удалось
создать "щадящую смерть", не имеющую экологических последствий, не вредящую
не только растениям, но даже и животным, поскольку действие оружия-препарата
построено исключительно на реакциях человеческого мозга. Нобелевская премия,
присужденная Лесли Койну за создание так называемой "теории гротов",
позволившей мировой науке по-новому взглянуть на природу электрических
резонансов в мозгу, на самом деле (негласно) была присуждена ему за
разработки в области анестезирующего оружия. Свою нобелевскую речь он начал
следующими словами: "Мое кредо проще, чем диетическое яйцо. Я -- враг боли.
Боль это несправедливость, поскольку страдающее тело невинно. Боль это
источник унижения, поскольку она сминает в комок представление о
достоинстве. Боль это также источник страха, а значит, покровитель подлости.
Если мне скажут, что боль, как бы неприятна она ни была, является верным
стражем нашего тела, главным инструментом нашей системы самосохранения, я
возражу, что этот страж давно стал тираном, опираясь на идею о собственной
незаменимости. Сейчас уже можно сказать, что эта незаменимость -- миф, и
опасный страж должен быть заменен другими, более почтительными и
корректными, охранниками. Здесь не обойтись без достижений современной
науки. Боль это яд, отравляющий и мысль о жизни, и мысль о смерти. Пафос,
любовь, отчаяние, крайняя усталость, самопожертвование, героизм -- все эти
виды психологических возбуждений способны дать человку силы спокойно шагнуть
навстречу смерти. Но способны ли эти состояния придать безболезненную
гладкость тем "родам", которыми является смерть? Нас не должна смутить
интимность момента смерти, подобно тому как нас не должна смущать интимность
секса или пищеварения. Чтобы увидеть собственную жизнь в несколько более
ясном и чистом освещении, нам следует расчистить выход из жизни от
лабиринтоподобных наслоений страданий и подозрительности. Тогда этот выход
перестанет быть "черной дырой", а превратится в окно, чье присутствие делает
вещи различимыми и ограничивает невнятность".
Однако Койн не удовлетворился изобретением безболезненных и
"безвредных" средств массового уничтожения. Создав "щадящее оружие", он
перешел к поискам "оружия ласкающего", к поискам таких видов убийства, чье
действие было бы не только мгновенным и очищенным от страдания, но
приносящим наслаждения. Он начал поиски оружия, которое доставляло бы
жертвам гарантию предсмертной эйфории и блаженства. Здесь Койну пригодился
опыт, накопленный в "темно-синей анфиладе" за годы интенсивного
экспериментирования с различными наркотиками и галлюциногенными веществами.
Сам Койн живет полностью на препаратах: тщательно сбалансированная диета и
продуманная смена веществ обеспечивает ему почти нечеловеческую
интенсивность бытия. На руке, под рубашкой, он постоянно носит "инъекционный
браслет" -- удобное эластичное устройство, слегка напоминающее миниатюрный
патронташ для ампул, с кнопкой, нажатие на которую обеспечивает очередную
инъекцию. Стилистика фильма изменяется в зависимости от типа вводимого
препарата. Эпизоды на кафедре сняты в сдержанной манере раннего Антониони,
не лишенной нарочитого невротического педантизма. Цвет здесь почти исчезает,
люди, веши и тени вещей кажутся аккуратными и сухими, словно бы мучительно
сдерживающими свою чувственность. Мир "темно-синей анфилады", где герой
работает под воздействием интеллектуальных стимуляторов, неестественно ярок:
свет здесь то и дело фокусируется в заостренные пучки, белое является
белоснежным, синие стены кажутся аппетитными, как море, увиденное издалека.
Койн спит сорок минут в сутки под воздействием особого препарата,
обеспечивающего феномен "сгущенного сна". Сорок минут "сгущенного сна"
равняются по эффекту десяти часам сна обычного. Это сон без сновидений.
Основную часть ночи Лесли Койн посвящает сексуальным развлечениям. Он --
эротоман. Окончив работу в лаборатории, он едет к себе домой (у него
небольшая квартира, единственным украшением которой является высеченная из
розоватого камня скульптурная группа -- переплетающийся хоровод взявшихся за
руки обезьян -- образ, некогда вдохновивший Кеккуле на открытие бензольных
колец). Дома он выпивает стакан кокосового молока и вводит в кровь эрогенный
суггестор, разработанный им самим -- более эффективный и практически не
токсичный, в отличие от скомпрометировавших себя амфетаминов. "На приходе"
он по привычке закуривает длинную и тонкую, как спичка, сигарету. Мы видим,
как изменяется его зрение под воздействием наркотика: дым от сигареты
становится из серого янтарным, ядовито-зеленая сигарета приобретает палевый
оттенок, напоминающий выгоревшие южные холмы. Скромная комната приобретает
пухлую бархатистость, каменные обезьяны словно бы погружаются в дрожащий
поток живого меда. В этом состоянии Койн спокойно поджидает любовницу или
даже несколько любовниц: суггестор позволяет ему быть сексуально
расточительным. Иногда он комбинирует, вводя в коктейль ингредиенты
откровенно экстатического плана. Тогда он отправляется туда, где танцуют,
где можно в танце встретиться взглядом с молодой девушкой. Этот пестрый и
головокружительный мир полигамии и психоделического промискуитета, в\конце
концов, обретает моногамический фокус. Под грохот музыки (впрочем, препарат
изменяет содержание звуков) он знакомится с шестнадцатилетней девушкой, в
которую влюбляется. Ее красота кажется сверхъестественной. После дикой ночи
сплошного экстатического танца они прогуливаются по предрассветным улицам. В
семь часов утра они случайно заходят в русскую православную церковь, где нет
никого, только какая-то старуха моет полы и заспанный священник готовится
служить заутреню. Молодые люди стоят, словно замороженные, нервно вце-пившсь
друг в друга, испуганные потоком обрушившейся на них любви. Чтобы разрядить
обстановку, девочка спрашивает Койна о его конфессиональной принадлежности.
"Я чту религию русских", -- неожиданно для себя отвечает ей Койн. В
следующий момент он так же неожиданно предлагает ей немедленно обвенчаться.
Она молча кивает. И в ее расширенных зрачках мягко отражается золотой
иконостас. Рослый индифферентный священник, словно во сне, творит над ними
обряд венчания, незнакомые люди держат над их головами золотые тяжелые
венчальные короны. Затем их коронуют, и священник объявляет рабов Божьих
Лесли Койна и Тэрри Тлеймом мужем и женой пред Богом и людьми.
-- Ты -- русский? -- спрашивает девушка своего мужа, когда они выходят
из церкви.
-- Нет, но ничего не трогает меня сильнее, чем религия наших врагов, --
шепотом отвечает Койн. Затем он вдруг признается, что работает на ВПК. Терри
резко вырывает свою руку и убегает, не оглядываясь. Она, конечно же,
пацифистка.
В смятенных чувствах Койн возвращается домой. Он закуривает
сигарету-спицу и в задумчивости вертит на лааони несколько ампул. Сначала он
хочет погрузиться в сладкую черничную тьму "сгущенного сна", но затем
откладывает ампулу со снотворным в сторону. Сон может и подождать. Сейчас
ему надо решить, что это было. Что произошло? Не было ли это капризом
воображения, порождающего эксцессы на границе между эффектом и постэффектом?
Утром, перед тем как поехать на работу, он любит принимать галлюциногены
краткосрочного действия: погрузиться на три минуты в коллапсирующий мир
диметилтрептамина, в это сверкание Предела, растущего и распадающегося
одновременно. Или же войти в многозначительные стремнины циклогексанона и
провести тридцать -- сорок минут реального времени в вихрях времени
непредсказуемого и сверхреального, то складывающегося хрустальными створками
и драгоценными ширмами Вечной Сокровищницы, то ниспадающего изумрудным
потоком Дао, то отливающегося в сингулярные стержни, насквозь пронзающие
техническую изнанку Всего. В результате он решается продегустировать
неис-пробованный еще препарат, только что синтезированный одним из его
коллег. У этого препарата еще нет имени, только индекс в фармакологической
номенклатуре: CI-581/366. Койн закладывает ампулу с этим индексом в
патронташ своего инъекционного браслета и нажимает кнопку. Укол,
производимый микроиглой, практически неощутим. Мы снова наблюдаем за
изменениями, происходящими с дымом сигареты и с комнатой. На этот раз дело
не ограничивается сменой оттенков и прозрачными подтеками эндорфинового
меда. Дым вытягивается в струнку и, вибрируя, начинает порождать звук --
видимо, тот самый божественный Один Аккорд, некогда потрясший святого
Франциска Ассизского. Каменные обезьяны вздрагивают, поводят плечами, их
глаза-лунки преисполняются ликования заговорщиков, они наконец-то
раскручивают свои сложноподчиненные хороводы. Кружась, переплетаясь, они
умножаются в числе, сбрасывая с себя шелуху комнат силами своей
ссутуленности... Это лишь начало. Создатели фильма не пожелали
продемонстрировать мне этот решающий галлюциноз до конца. Вместо этого мне
стал ненадолго виден поезд, с бешеной щедростью украшенный цветами, флагами
и фотопортретами Хрущева, несущийся на всех парах сквозь осенние леса
Забайкалья...
Через 16 минут (как свидетельствуют часы) Койн возвращается в Юдоль. Он
быстро проходит в кабинет и на листке бумаги записывает несколько фраз и
две-три формулы. По тому, как он покусывает свои улыбающиеся губы, нетрудно
догадаться, что он получил больше, чем рассчитывал получить. CI-581/366
подарил ему догадку, к которой научная интуиция Койна подбиралась годами.
Всем своим не вполне обычным телом он ощущает дрожь, тот эвристический
тремор, который ученый ощущает при приближении к Главному Открытию своей
жизни. Мимоходом он также решил собственную участь -- взглянув на Все сквозь
резной прицел Средоточия, он взглянул и на себя и констатировал, что некое
существо, по имени Лесли Койн, не сможет впредь существовать без некоей
Терри Тлеймом, без этого "несовершеннолетнего совершенства". Впрочем, законы
олигархии мягче законов демократии: мягче настолько, что издания "Лолиты"
приходится снабжать комментариями, поясняющими массовому читателю
юридические странности прошлого века. Койн, как некогда его предшественник
Кеккуле, благословляет хороводы обезьян, хороводы муз, хороводы
снисходительных богов. Он обнаружил исследовательскую перспективу, где
милосердие анестезиолога и милосердие эротомана смогут, наконец,
удовлетворить вожделениям друг друга.
Разыскать девушку несложно. Койну известно, что он находится под
постоянным наблюдением Эф Би Ай. Агенты, конечно же, отметили сумасбродное
венчание и проследили за ней.
Разработав "щадящее" оружие массового уничтожения, разработав затем
"ласкающее" оружие, обеспечивающее жертвам смерть в ауре наслаждения, Лесли
Койн сделал следующий -- и решающий -- шаг, достойно увенчавший его путь
ученого. Он, на основе сделанных им открытий, создал оружие, максимально
эффективное и удобное с точки зрения военной, которое не просто убивало
безболезненно и приятно, которое не просто делало смерть очаровательным
развлечением, но обеспечивало жертвам конкретную, доступную наблюдению
приборами, потустороннюю жизнь -- вечную жизнь в раю. Этот худосочный и
долговязый гений, этот сексуальный маньяк с крупной головой новорожденного,
покрытой белоснежным пухом, создал буквально новую смерть, включающую в
себя, в отличие от всех предыдущих новых смертей, новое, доселе неизведанное
посмертье. Нет, он не проник, как мечтал когда-то в юности, вслед за душой
умирающего естественным образом, чтобы наконец раз и навсегда выяснить, что
ожидает нас после смерти, он не изобрел приборов, которые способны были бы
осуществить глубокое прощупывание запредельного -- эта тайна так и осталась
тайной. Зато (и это кажется не менее невероятным) он фактически создал
дубликат потустороннего -- искусственное бессмертие души, он осуществил
старинную мечту европейских алхимиков о рукотворной вечности, о paradise
artificiel. Уже в его ранней работе (снискавшей ему звание почетного члена
нескольких университетов) "Живая автономная голова: статус человеческого
мозга при кетаминовых наркозах" (2022), он высказал гипотезу о внешних,
находящихся вне человеческого тела, резонаторах, о бесконечно удаленных
"гротах", т. е. зеркальных двойниках мозга, посредством электробиохимической
апелляции к которым мозг осуществляет коммуникацию с самим собой. В этой
работе Койн развивал идеи группы советских ученых (группа Федорова --
Зеленина), суммированные в сборнике "Кощеево яйцо: радиоактивность мозга и
энергетический потенциал "внешней души" человека" (1999). После нашумевшей
публикации Койна "Оздоровление Кандинского -- Клерамбо: перспективы
электронной психиатрии и искусственный микропсихиатр в мозгу" (2028),
дискуссия о физиотехнологии человеческого сознания, включающего в себя
элементы "внетелесного блуждающего базирования", так называемого "Большого
Дрейфа", захватила многих американских, советских, японских, английских,
немецких и израильских ученых. Впрочем, вплоть до откровения Койна,
полученного им под препаратом CI-581/366 (не следует забывать, что он
находился также под воздействием любви -- сильнейшего наркотика, образующего
интересные комбинации с другими наркотиками), эта дискуссия оставалась по
большей части беспочвенной. На основе полученной догадки Койну удалось
вычислить и опытным образом доказать существование так называемого Слоя или
Уровня, сверхтонкого по своей плотности, но содержащегося во всех -- даже
поврежденных -- участках атмосферного кокона Земли, уровня, способного -- в
силу своих акустических особенностей -- быть архивом тех процессов, которые
происходят на всех уровнях человеческого сознания.
В фильме вся эта информация подавалась традиционно: в виде ошметков
документальных хроник, любительских видеозаписей (где иные ученые щурились
на солнце и быстро склонялись над блокнотом), научных кадров, где что-то
непонятное, но привлекательное пульсировало и светилось, снабженное
смазанными стрелками и слипшимися ремарками компьютеров. Все это было подано
с той очаровательной и почти тотальной недосказанностью, в виде намека, с
какой вообще научная фантастика пестует свойственную ей скабрезную
"научность", призвание которой -- чистое возбуждение. Подобно тому как
искусство соблазна требует, чтобы привлекательные фрагменты женского тела
показывались мельком, в движении, приоткрываясь и вновь ускользая от
поспешающего взгляда, так и массовая культура кокетливо и мельком
приоткрывает перед возбужденными зрителями детали научных достижений
будущего. То претенциозно блеснут какие-то "данные" и компетентно
проскользнет чей-то, словно ветром принесенный, бред, который вполне может
оказаться правдой при внимательном рассмотрении, то вдруг с девической
доверчивостью все амбиции достоверности пускают на ветер и к нам льнут
просто так, просто потому, что все, на каком-то уровне, и так все понимают.
И разве трудно понять, что все, так или иначе, было и каким-то образом,
видимо, будет?
Открытие Койна было мгновенно признано сверхсекретным: о нем узнали
только ближайшие сотрудники президента и высший генералитет Пентагона.
Реакция была бурной. На совещании в Овальном Кабинете слышались голоса,
говорящие о том, что оружие такого рода должно быть оружием сдерживания, и
следовательно, оно не должно полностью терять своего угрожающего характера.
Госсекретарь придерживался мнения, что превращать наказание (а точнее,
возмездие) в акт предоставления вечного блаженства -- величайший абсурд,
который когда-либо нависал над человечеством. Его поддержали некоторые
министры -- такие термины оборонной доктрины, как "оружие сдерживания" и
"оружие возмездия", казавшиеся устаревшими, не сходили с уст. Лесли Койн
горячо защищал свое детище -- в такие моменты он мог быть язвительным. Койн
обвинил своих оппонентов в том, что они все не могут изжить в себе
подростковую кровожадность и отказаться от варварского романтизма войны, от
глупых и угрюмых апокалиптических грез. "Взрослый человек должен заботиться
только об устранении опасности, а не о том, чтобы ее источники были
"наказаны", -- желая наказать носителей угрозы, мы даем этой угрозе импульс
вечного возрождения". Как ни странно, военные боссы на этом совещании (и
впоследствии) полностью поддержали Койна. Руководство Пентагона в то время
состояло из стариков -- большинству было за восемьдесят.
Восьмидесятивосьмилетний Колин Файнблок, руководитель военного ведомства,
сказал, обращаясь к президенту: "А по мне, пусть себе коммунисты отдыхают в
раю. Мы же будем впихивать их туда силой, правда ведь, Джек-ки-бой? Если они
вдруг полезут к нам с дракой, мы тут и скажем: добро пожаловать в рай,
господа. Парни, о чем тут рассуждать? Главное, совесть наша будет чиста, как
стеклышко, а военных больше никто никогда не обзовет мясниками. Когда
Господь призовет нас, Он сможет убедиться, что мы сделали все для того,
чтобы всем было неплохо. И тогда мы тоже попадем в рай -- и вот что самое
приятное: это будет другой рай, где не будет ни одного коммуниста. По-моему,
Лесли придумал отличную штуку!" Шефа Пентагона поддержали руководители НАСА
и Военно-Морского флота. Решающим фактором, обеспечившим симпатии военных,
была предельная эффективность нового оружия и легкость его развертывания:
фактически новую оборонную систему можно было развернуть за полгода, что
было немаловажно, учитывая постоянный рост напряженности в отношениях с СССР
Наличие этой оборонной системы гарантировало бы США практически
стопроцентную гарантию победы в случае войны с враждебной сверхдержавой и ее
сателлитами. Медлить же было нельзя: военная наука СССР тоже не стояла на
месте. После многочасовой дискуссии президент распорядился приступить к
предварительным разработкам. Тут же были выделены средства на новую
программу. Все согласились с тем, что было бы безумием извещать о проекте
хотя бы одного конгрессмена. Впрочем, Конгресс был уже более или менее
декоративной организацией.
Погрузившись в бешеную работу над реализацией программы, Койн
одновременно пребывает в бешеных вихрях любви. Его возлюбленная, конечно,
уже забыла о вспышке своего гнева. Ветер любви, как канзасский смерч, уносит
фургончик ее души в страну Озз. На пасхальные праздники они едут вдвоем на
крошечный остров, принадлежащий Койну, где нет никого и ничего: только
клочок каменистой почвы и старый недействующий маяк. По крутым ступеням
этого маяка, по этой винтовой лестнице когда-то бежал, задыхаясь, седой
ветеринар, чтобы успеть кого-то спасти. Теперь здесь пусто -- только
бледный, веселый трепет весенних лучей на вогнутых стенах.
Бликующая вода и весеннее неуверенное небо, белая моторная лодка, белый
свитер девушки и ее длинные волосы на ветру -- эти вещи знакомы каждому
кинозрителю. И тем не менее они трогают. А уж если такое происходит в
действительности, то, как говорится, небо над дальней деревней расцветает от
фейерверков. На безлюдном старом военном корабле, подаренном Койну
адмиралами (как жаль, что она так презирает этих аккуратных и благодарных
стариков, но ведь она еще ребенок и ей все можно), происходит их любовь --
то есть несколько совокуплений подряд и какая-то словесная игра, связанная с
названиями городов, и осмотр пустых пушечных гнезд, слегка тронутых
ржавчиной, и купание с неизбежным визгом в очень холодной воде, и затем
растирание пушистыми полотенцами в каюте, и подчеркнутая худоба и некоторая
даже астеничность их тел, горячий чай и старинные навигационные карты, снова
легкий секс и грог, и впервые за долгое время они не под препаратами, если
не считать выкуренной вместе сигареты-спицы. Ночью, в полузаброшенной
капитанской каюте, они играют в шахматы, смеются, давая шахматным фигуркам
новые неприличные имена, и слушают по радио русскую пасхальную всенощную,
транслируемую из Бельгии.
Испытания проходят быстро и успешно. Из числа нескольких добровольцев
(все -- глубокие старики) Лесли выбирает девяностодевятилетнего Адама
Фалька, мотивируя свой выбор тем, что первый человек в новом раю тоже должен
быть Адамом. Адам Фальк, бывший военный летчик и астронавт, посвятивший свою
жизнь службе в НАСА, человек, который несколько лет провел на орбите и
бесчисленное количество раз выходил в открытый космос, участвовавший (в
качестве испытателя) в различных экспериментах, -- это старик, не привыкший
испытывать робость. В темно-синей анфиладе его подвергают действию того, что
здесь скромно называют словом "волна". Старик исчезает. В течение
напряженной недели Койн и его коллега Кевин Патрик безуспешно пытаются
установить с ним контакт с помощью радиокомпьютера-медиума. Наконец на
экранчике медиума слабые, как испарина на зеркале, проступают слова "Thank
You!". Вскоре контакт стабилизируется. Фальк признается, что в первые
несколько дней (для него они напоминали, скорее, один день) от счастья и
свободы разучился говорить, но затем, немного освоившись, углубившись в
ин-терьерные пространства счастья, он легко вернул себе утраченные
способности. Фальк подтверждает, что он жив и находится в раю, где, кроме
него, людей нет. У него есть тело, впрочем, оно совсем не похоже на то,
которое было у него раньше. Описать свое новое тело он пока затрудняется. На
вопрос, не страдает ли он от одиночества, Фальк отвечает, что страдание
здесь в принципе невозможно, кроме того, он не одинок. Его спрашивают, не
означает ли это, что он находится в общении с другими живыми существами.
-- Здесь все живое, однако слово "существа" я бы применять не стал, --
отвечает испытатель.
Его просят охарактеризовать течение времени, в которое он теперь
погружен. Фальк отвечает, что это "свободное время" и что при желании он
может полностью синхронизоваться со своими собеседниками, остающимися в
темно-синей анфиладе. Койн спрашивает, согласен ли Фальк в своем новом
состоянии выполнять некоторые поручения исследователей.
Фальк вежливо заверяет их, что он, насколько это возможно, в их
распоряжении, так как испытывает "неизмеримое чувство любви и
благодарности". Кроме того, он почтительно просит разрешения впредь говорить
стихами, так как так ему теперь удобнее. Койн и Патрик со смехом сообщают
ему свое "разрешение" пользоваться тем типом речи, который кажется самому
Адаму наиболее комфортным -- лишь бы сообщения сохраняли свою
информативность.
Темп фильма убыстряется. С помощью Фалька, с помощью
сверхчувствительной аппаратуры и с помощью препарата CI-581/366 Лесли Койн
проводит систематические исследования открытого им мира -- Слоя или Уровня,
которому Койн присваивает имя "Одиннадцатый": не потому, что ему
предшествуют десять каких-то других Уровней, а по произвольной аналогии с
последним одиннадцатым уровнем "кама-локи", так называемого "сосуда
наслаждений" буддийской космологии. Этот уровень определяется как мир
"исчезающих, тающих богов". Тем временем, подстегиваемый опасностями
внешнеполитической ситуации, президент отдает приказ о внедрении новой
оборонной системы, которую скромно кодируют словами "хорошее
радиосообщение". Койн считает, что в данном случае нужно воздержаться от
пафосных и романтических прозвищ, типа Трианон или Грааль, которые стали бы
лакомой наживкой для пылкого воображения вражеских разведчиков. Службы
безопасности США прилагают колоссальные усилия, чтобы предотвратить малейшую
утечку информации в том, что касается "хорошего радиосообщения". Койн лично
обращается к президенту, требуя учетверить бдительность ФБР и ЦРУ в этом
вопросе, указывая, что "от этого сейчас фактически зависит все".
Во времена Брежнева, как известно, в Советском Союзе царствовали
старики, в Америке же заправляли люди молодые и энергичные. Теперь дело
обстоит отчасти наоборот. Президенту США вскоре должно исполниться 77 лет,
остальные члены кабинета еще старше. В Кремле же все решается компанией
молодых декадентов -- они развращены неограниченной властью, их
раздражительность подстегивается оргиастической усталостью, их фантазии
вскормлены наркотиками и разносторонним образованием, они ищут и находят
новые желания, они в силах поддерживать в себе нарастающие аппетиты (в том
числе и территориально-политические). Они представляются себе не столько
диктаторами, сколько группкой благородных и бесшабашных разбойников, чей
соловьиный посвист музыкой разносится по миру. Их обожает народ, которому
они обеспечили изобилие и порядок. Фактически это власть, обладающая
артистизмом и зрелищной эффектностью поп-культуры. Эти "молодцы из
Ляньшанбо" сами сочиняют и сами поют песни, которые подхватывает народ. Их
приключения запечатлены в комиксах, мультфильмах, фильмах и прочих
развлекательных программах. Даже на Запад, несмотря на запреты, проникает их
тлетворная популярность. Впрочем, "Предатель Ада" демонстрировал советскую
реальность лишь краткими урывками или с помощью косвенных намеков. Была одна
сцена, явно навеянная "Иваном Грозным" Эйзенштейна, где один из "богов" --
высоколобый хиппи с горящими глазами и длинными патлами, действительно
напоминающий Ивана Грозного, танцует румбу в какой-то московской квартире с
разнузданными девками и гомосексуалистами из московской милиции. Впрочем,
затем выясняется, что этот свирепый хиппи не особенно влиятельная фигура в
Политбюро. Ключевых фигур несколько, и они какие-то стертые, похожие на
хмурых студентов-филологов. С этими людьми трудно договориться. И они
терроризируют мир своей готовностью к войне.
По мере нарастания напряженности атмосфера фильма становится тревожнее
-- сцены мелькают с калейдоскопической быстротой: извивающиеся, наподобие
угрей, военные вертолеты над городами, уродливая потасовка в ООН, случайная
смерть венгерского лидера от руки голландского туриста, колонны обнаженных
детей в золотых шлемах, марширующие по Красной площади, военные парады,
омываемые потоками лазерной и электронной анимации, взрыв одного из
орбитальных спутников, хохочущие люди волжских городов, требующие "выебать
американцев". Койн все больше времени проводит в Пентагоне, он все больше и
больше общается с людьми в маршальских и генеральских мундирах. Вскоре он
уясняет себе картину войны сверхдержав, если она произойдет. "Хорошее
радиосообщение" уже налажено -- новая секретная система развернута в объеме,
достаточном для "переключения" практически всего населения колоссальной
советской субимперии. Однако он понимает, что в случае войны, несмотря на
наличие совершенной оборонной системы, один или два города в США все-таки,
возможно, будут уничтожены более варварскими средствами советского оружия
массового уничтожения. Специалисты расценивают вероятные жертвы среди
американцев как минимум в несколько десятков тысяч человек. Генералы не
унывают -- это ничто по сравнению с решительной победой над противником, чья
мощь кажется чудовищной. Однако Койна эти сведения заставляют задуматься. Он
снова курит "спицу" и внимательно смотрит на обезьян. Он снова заправляет в
"браслет" какие-то ампулы, что-то решая. Наконец, он дает себе отчет в том,
что, как анестезиолог и как влюбленный, он не может позволить себе того, что
могут позволить себе генералы. Все может произойти неожиданно. И Терри
Тлеймом мбжет оказаться в том самом городе, на той самой улице, которая
попадет в "минимум потерь". Тогда население СССР окажется в раю, а он, Лесли
Койн, останется в победившей Америке с разбитым сердцем, навсегда
отравленный горем. Он не намерен предоставлять такой шанс своему врагу --
боли. И он решается совершить преступление, самое тяжкое преступление,
которое человек может совершить по отношению к своей стране, на которую
упала тень угрозы извне -- предательство. Койн не сомневается, что если
Советы овладеют секретом "хорошего радиосообщения", они никогда не прибегнут
к другим средствам уничтожения: "хорошее радиосообщение" эффективнее,
надежнее и удобнее с военной точки зрения. Радикальное оружие или вообще не
будет применяться, или будет применяться его оружие, тогда всем жертвам
гарантировано "свободное время" и дружеское общение с Адамом Фальком,
который, кстати, оказался отличным поэтом. Короче, Лесли Койн решает
передать секрет своего изобретения советской разведке. Сделать это вроде бы
сложно -- ведь он сам настоял на тщательнейшем контроле. Но все сложное
следует делать просто. Сверхдержавы еще сохраняют между собой видимость
дружеского общения. Одним из каналов является Международный Гурджиевский
институт -- любимое детище КГБ. На официальной церемонии, посвященной юбилею
Института, Лесли Койн, как лауреат Нобелевской премии и видный ученый,
вручает советскому послу какую-то формальную грамоту. В кожаный футляр
грамоты Койн, без особых затей, вкладывает листок с необходимой информацией
-- всего лишь несколько фраз и несколько формул -- остальное доделают
советские ученые. Советский посол -- дородный красавец с ухоженными черными
локонами до плеч и небольшой бородкой, известный всем под прозвищем Атос,
спокойно принимает из рук Койна почетную грамоту, и они целуются. Этому
поцелую аплодирует зал, аплодируют официальные лица США, ему радуются
газеты, пытаясь усмотреть в этом знаки потепления отношений.
Довольно скоро контрразведка обнаруживает последствия утечки
информации. Разноречивые сведения снова и снова заставляют Белый Дом думать,
что Советы, возможно, завладели секретом "хорошего радиосообщения" -- по
данным спутникового слежения, в СССР молниеносно развертывается аналогичная
система. Овальный кабинет в растерянности. Койну постоянно присылают на
экспертизу данные разведки и снимки, сделанные из космоса. Его запрашивают,
возможно ли, чтобы советские ученые сами пришли к тем же выводам, которые
сделал Койн и его коллеги в темно-синей анфиладе. Койн добросовестно
отвечает, что это, по его мнению, невозможно и что все указывает на
совершившийся факт утечки важнейшей военно-стратегической информации.
Службам приказано в кратчайшие сроки найти шпиона или предателя. Койн живет
по-прежнему: работает, беседует с Фальком, а по ночам совокупляется с Терри
и разъезжает с ней по дорогам и увеселительным заведениям. Но круги вокруг
него постепенно сжимаются. В любом случае уже поздно -- СССР обладает
"хорошим радиосообщением". Как-то раз Койн и Терри снова едут на остров, и
там Койн рассказывает ей об Одиннадцатом. Он сообщает ей, что может
произойти, и подробно инструктирует ее, объясняя, что нужно делать, чтобы
ТАМ найти друг друга (Одиннадцатый огромен). Он назначает свидание в раю --
осуществляет то, чего не смог осуществить несчастный Данте, которому
Беатриче лишь улыбнулась с небес. Затем он просит ее оставаться на острове,
сам же возвращается. Глядя в круглое окошко маяка, Терри видит, как к
моторной лодке Койна приближаются два военных катера. Молодой офицер вежливо
поддерживает Койна под руку, помогая пересесть в катер. Терри видит в
последний раз блеск палевого пуха на голове своего странного возлюбленного.
Она спокойна. Дождавшись ночи, она забирается на брошенный военный корабль и
сидит одна в капитанской каюте, играя в шахматы сама с собой, шепотом
называя неприличные имена фигурок.
Койна доставляют на одну из подземных баз, оборудованную для размещения
правительства и генерального штаба на случай мировой войны. В зале
Координационного Центра, с неизбежными пультами, электронными картами и
колоссальными экранами, уже находится президент, все члены правительства и
руководство армией. Все очень подавлены. Президент старается не смотреть на
Койна. Другие смотрят на него с презрением. Некоторые -- с бесконечным
удивлением и любопытством. Возможно, кое-кто из них с удовольствием отдал бы
приказ о его немедленном расстреле, однако это невозможно -- без него нельзя
обойтись. Здесь же находятся все до единого сотрудники "темно-синей
анфилады". Мир, как много лет назад, в страшные дни Карибского кризиса,
стоит на пороге тотальной войны. Сверхдержавы обменялись серией
категорических ультиматумов. Психологическая дуэль началась. Койн --
единственный человек, имеющий представление о топографии и свойствах того
мира, перемещение в который сейчас угрожает всем. Койн -- автор всей этой
ситуации, автор оружия. Когда-то все эти люди поверили, что речь идет о
"рае", теперь же они охвачены тягостным сомнением. Впрочем, большинство
надеется, что до применения оружия дело не дойдет. Как тогда, во время
Карибского, выход будет найден.
Не располагая средствами кинематографа, я не смогу в рассказе передать
напряжение кульминационной сцены. Слишком много слов и тяжеловесных фраз
пришлось бы мне употребить -- да и стоит ли описывать то, что некогда в
деталях красовалось за моими закрытыми веками? Все эти бутылочного цвета
униформы, и дрожащие складки на лицах стариков, и бесчисленные огоньки,
вспыхивающие на схемах, и зловещие телефоны без цифр, но помеченные
выпуклыми гербами США, и взгляды, и мимика, давшие возможность никогда не
существовавшим актерам показать свое профессиональное мастерство, и наконец
священная КНОПКА под специальным предохранителем-колпаком -- этот фокус,
этот глупый красный кусочек пластмассы, ничем не отличающийся на вид от
миллиардов других кнопок, этот зловещий "надрезанный Заир", о котором нельзя
забыть, о котором невозможно помнить.
Во время одной из наших бесед с С. Ануфриевым мы говорили о том, что
главным действующим лицом большинства современных приключенческих фильмов
является Бомба, тело конца. Джемс Бонд останавливает взрывной механизм
всегда на цифре 007, которая соответствует его сакраментальному имени --
Агент 007. Эти семь секунд, как проницательно заметил Сережа, соответствуют
Семи Дням Творения. За эти семь секунд Бог каждый раз восстанавливает мир.
Агент Бога Бонд только подводит нас вплотную к этой временной границе:
пересечь ее не дано никому. Нельзя остановить Взрыв за шесть секунд. Зона
Семи Секунд это зона живого божественного времени, в которой Бог еще "не
почил от дел Своих". С другой стороны, в фильме "Терминатор-2" герои
предотвращают Взрыв, несмотря на то, что он уже произошел, причем много лет
назад. Они предотвращают Катастрофу из глубин посткатастрофической
эсхатологии. Это не противоречит сюжетам о Бонде: взрыв происходит каждый
раз -- мы живем в мире, который бесчисленное количество раз был
восстановлен, в пространстве рекреации.
Воображение человеческих существ породило гипотезу Начала, зеркально
отражающую те формы конца, которыми оно обзавелось для возможности
собственного завершения: теорию Большого Взрыва. Люди, собравшиеся на
подземной базе, чувствуют себя так, как если бы у них отняли что-то родное и
знакомое с детства -- мысль о Взрыве. Усилиями Лесли Койна Взрыв отменен --
на смену его возможности пришла возможность загадочной Волны, от которой
нельзя скрыться в подземном бункере: беспощадный переключатель в
неизвестное, названное раем (возможно, по кощунственным соображениям).
Только сам Лесли Койн спокоен, даже несколько рассеян. В его сознании
нет ни намека на кощунство. Он делает только два технических замечания,
затем говорит, что все могли бы оставаться в Белом Доме (бункер, как уже
было сказано, от Волны не спасет), а также просит своего помощника Кевина
Патрика немедленно вернуться в "темно-синюю анфиладу" и вызвать на связь
Адама Фалька. Уже через 13 минут Патрик транслирует на Базу четверостишие,
продиктованное Фальком.
Затем я увидел руководителей СССР -- эти "пятнадцать разбойников",
лишенных какого-либо " Кудияра-атамана", в этот момент, когда все висит на
волоске, скачут на конях по ночному полю, наслаждаясь вольным ветром и
русским простором. Последним скачет сутулый юноша с белым лицом боксера --
его левая рука сжимает пульт дистанционного управления, к седлу приторочен
пресловутый "черный чемодан", обиталище смертоносной кнопки. Этот "чемодан"
властители запросто называют "пиздой". Вообще их речь проста, как речь
аскетов. Они привязывают коней в перелеске, быстро и умело разводят
костерок. Все двигаются слаженно. Видно, что здесь собрались люди
спортивные, прошедшие восточными школами концентрации внимания. Один
с'помощью спутниковой связи держит постоянный контакт с Генштабом и
непосредственно с Координационным Центром "хорошего радиосообщения". Другой
поддерживает прямой телефонный "красный коридор" с президентом США. Третий
постоянно координирует действия с одним из важнейших сателлитов СССР, на
которого возложена обязанность продублировать "волну" в случае неожиданного
удара со стороны западных держав. Четвертый держит связь с Орбитой. Пятый
заботится о костре. Шестой быстро раскладывает на огне шампуры с нанизанными
кусочками шашлыка. Седьмой уже разливает в граненые стаканы прозрачную
водку, весело дробящую отблески огня. Восьмой ставит на пожухшую траву
магнитофон, выбирает среди нескольких микродисков, затем уверенно вкладывает
один из них в щель проигрывателя, включает музыку. Это "Дорз". Глуховатый
шепелявый голос Джима Моррисона, несущий с собой тени психоделических
эффектов, поет о любви и смерти, о вольности и о томительном пафосе:
Зе снейк из одд
Энд зе скин из колд...
Наслаиваясь на "Дорз", звучит голос президента США, взволнованно и
твердо заявляющий, что требования советского руководства неприемлемы для
западных стран, тем не менее кризис должен быть срочно преодолен. Для этого
президент предлагает срочную встречу лидеров в любом месте, которое
советская сторона сочтет удобным...
-- Коля, телл зоус мазерфакерс зэт итс тайм ту шэд ап, -- лениво
произносит свирепый хиппи, любитель румбы, вытряхивая на ладонь табак из
папиросы "Беломор".
-- Ребят, давайте вырубим всю эту поебень, просто посидим и послушаем
музон, -- говорит другой, похожий на студента-филолога, в грубом свитере и
джинсах, забрызганных мокрой грязью.
Связь выключают. Парни, не торопясь, чокаются, выпивают, закусывают
шашлыком. Затем пускают по кругу косяк. Курят вдумчиво, со знанием дела,
внимательно глядя в костер.
-- Ай джаст лав чуйский баштурмай, -- выдавливает из себя хипарь. -- Ит
сакс. Ай мин итс э финг.
-- Фак ю! Ви хэв ту дисайд вот ту ду виз Стэйтс. Ай хэв энаф оф зеир
сьтюпид арроганс.
-- Ду ю хэв эн айдиа?
-- Вэлл, мэй би ви кэн мит зис олд эссхоул ин Монголия. Энд зен ви вилл
диктэйт зе рулз оф гейм, бекоз ин Монголия зер из ноу плэйс фо джо-укс.
-- Ту софт, бой. Мэй би некст моумент зей вилл пуш зе баттом, а мы
сидим здесь и торчим как пацаны.
-- Да мне по хую. Ай эм олвэйс рэди фо парадайз.
-- Шит! Зэтс стронг! Тащит как Анадырь, блядь! Бойс, ай риали фил Ра-ша
эраунд ми! Ай эм хэппи эз а пиг! Лете дринк фо эврифинг!
-- Вот ю мин?
-- Ну, давайте выпьем просто за все. За все, что есть, и за все, чего
нету.
Они снова чокаются и выпивают. Внезапно, из темноты доносятся чьи-то
приближающиеся шаги, шлепающие по мокрой грязи. Люди у костра хватаются за
пистолеты.
-Кто?
-- Это, ребят, это я тут... можно с вами... -- Из тьмы выступает
расхристанная фигура незнакомца. Лицо пьяное, опухшее.
-- Кто такой?
-- Агроном я. Агроном. Ребят, блядь, можно с вами...
-- Агроном? Ну, садись, блядь, гостем будешь. Ду ю спик инглиш?
-- Э литл бит, -- кривая усмешка растерянно вспыхивает на небритом
лице.
Ему наливают. Все расслабленно возлежат на травах, настроение
миролюбивое. Кажется, кризис уже миновал, если только американцы первыми не
нажмут кнопку. Но они не сделали этого уже несколько часов подряд. И тут
кому-то из властителей приходит в голову предоставить судьбу мира на
произвол агронома. Хохоча и подталкивая друг друга локтями, они открывают
перед ним "пизду". Показывают на кнопку, объясняя, что вот, мол, нажмешь, и
Америки нет. Совершенно неожиданно для них забрызганный грязью человек, как
будто бы механически, протягивает к "пизде" грязную руку и молча нажимает на
кнопку.
Следующий эпизод фильма, самый впечатляющий, описывать не имеет смысла.
Я и так в своем пересказе больше внимания уделил фабуле за счет бесчисленных
зрительных эффектов -- попытка воспроизвести их текстуальными средствами
превратила бы мое изложение в объемистый роман. Что же касается эпизода,
который состоит исключительно из визуальных эффектов (плюс весьма странная
музыка), созданных, как видно, новейшими средствами компьютерной анимации --
тут, как говорится, придется промолчать. Мы привыкли к тому, что если сюжет
построен на напряженном ожидании какого-либо события, то это событие либо
вообще не сбывается, придавая ожиданию тотальный и неизбывный характер, либо
сбывается как-то не так, чаще самым неожиданным образом происходит нечто
прямо противоположное. Однако в данном случае самым неожиданным оказывается
то, что и так нависало -- шквал, уносящий всех обитателей Северной Америки в
новый рай. Я видел, как неантропоморфные Лесли и Терри, которых я
непостижимым образом все-таки узнал, находят друг друга в немыслимом и
стремительном пространстве. Во время "просмотра" мне передалась их эйфория.
Были слышны хохот и музыка, хохот самой музыки или хохот в форме музыки.
Была невооруженным глазом видна сама Радость, независимая и снисходительная,
как светящийся и пушистый шар, или как река. Был проход сквозь алмазные или
ледяные коросты с вмерзшими мириадами пузырьков, было ощущение возвращения в
родной дом, было узнавание, было парадоксальное "возвращение в места, прежде
неведомые", была Свежесть ("возьми с собою Истинную Свежесть" -- так говорит
реклама, и она говорит правду), было Умиление -- бесконечное, как поток
зеленого масла, сладкое, как тьма черничного варенья. Было еще одно
Узнавание, и затем еще одно. И затем было Освобождение, и еще целые анфилады
освобождений, завершающиеся вываливанием в Простор, заботливо поданный для
полета. Была сама Заботливость, на бархатистой кромке которой восседал Адам
Фальк на чем-то вроде рыхлого красного трона, составленного из трех рыхлых
красных тронов. Было Ласкающее Упреждение, был какой-то сверкающий резервуар
глубокой синевы, которому не было имени, были места, похожие на лотос, и
другие, напоминающие янтарь. Было колоссальное количество исступленно
приятного льда, было Имение без Имени и его смешные окраины, где словно бы
вот-вот закачаются "фонарики хмельные". Были Встречи и, внутри Встреч, Дачи,
и на Дачах -- Даль, присутствующая сама собой. Была Резвость и неисчерпаемые
Резервы Резвости... Наконец Лесли, заранее знающий кое-что об этих местах,
любознательный Лесли находит Окуляр, прозванный нами когда-то Монгольским
Окошком, декорированный наподобие советского герба -- лентами и колосьями. В
этот Окуляр он показывает своей возлюбленной покинутую ими Юдоль.
В рамке из лент и колосков они видят знаменитое выступление одного из
самых влиятельных членов Политбюро ("сутулый юноша с бледным лицом
боксера"). На этом выступлении было сказано с лаконизмом, который потряс
весь мир: "Жители Соединенных Штатов Америки и Канады неожиданно исчезли. В
нашем мире по-прежнему много необъяснимого. Нам следует накормить их
канареек и других домашних животных, оставшихся без присмотра". Так, цинично
и просто, была мотивирована инвазия восточноевропейских войск и оккупация
ими безлюдных территорий Северной Америки. Без особых объяснений было также
сообщено, что СССР переименован в ССССР -- Священный Союз Советских
Социалистических Республик, готовый интегрировать в себя новые необитаемые
пространства. Выражение "покормить канареек", надо полагать, вошло в язык
после этого исторического выступления, в значении "истребить кого-либо,
чтобы завладеть его имуществом". Затем Монгольское Окошко, как сказочное
"яблочко по блюдечку", показывает словно бы посеребренный Вашингтон, куда
втекают колонны унылых грузовиков с хмурыми и равнодушными солдатами.
Мелькают казахские, бурятские, таджикские, монгольские, киргизские, русские,
румынские, латышские и прочие лица в традиционных ушанках.
Фильм завершается разговором двух членов советского руководства -- оба
то ли с похмелья, то ли на отходняке. Они пьют пиво на задворках Белого
Дома, устало закусывая сморщенными маслинами. Это "хиппи" и "боксер".
-- Сегодня я приказал расстрелять этого мудака агронома, -- хмуро
говорит "боксер", -- он совершил преступление. Американцы нас обманули.
Бросили одних в этом аду.
-- И что, его расстреляли?
-- Он в бегах. Пока не нашли. Ищут.
-- И по какой статье он будет расстрелян?
-- В нашей стране смертью карается лишь одно преступление -- измена
Родине.
Лесли и Терри, два сложной формы чрезвычайно подвижных существа,
способных становиться одним существом, так что впредь их, видимо, имеет
смысл именовать Леслитерри или, более официально, Койнтлеймом -- итак,
Леслитерри Койнтлеймом со смехом настраивают "видоискатель" Монгольского
Окошка на того, кто в бегах.
Беглец в этот момент проходит окраиной фабричного предместья. За ним
мелькают заборы, сторожки, мелькает проходная какого-то завода.
Из глубин рая они смотрят на этого "некто", на эту воплощенную
неказистость, с бесконечным обожанием, с бесконечной благодарностью.
-- ЕГО СЛЕДУЕТ НАГРАДИТЬ, - "говорит" Терри.
-- ЭТО, НАДО ПОЛАГАТЬ, ДЕЛО БУДУЩЕГО, - "отвечает" Койн.
Как я уже сказал, этот "фильм" ничем не отличается от множества других
фильмов того же жанра. Сюжетная пружина раскручивается согласно правилам,
здесь есть и подобие детективной интриги, и политическая и
научно-техническая версия будущего, и история любви, причем любовники (опять
же в соответствии с каноном) принадлежат к враждебным кланам, к Монтекки и
Капулетти: к кланам пацифизма и милитаризма. А их слияние обеспечивает
желанное единство противоположностей -- в данном случае "войну без войны".
Впрочем, есть смещения -- в первую очередь замысловатая путаница, связанная
с харизматическими ролями Спасителя и Изменника. Как сказано в Книге
Творения, один из ангелов предал Бога и Небеса и стал хозяином Ада.
Когда-нибудь, согласно логике симметрии, порожденный Адом (или земной Юдолью
Страданий, что, возможно, одно и то же) должен совершить обратное
предательство -- переметнуться на сторону Рая, стать "предателем ада".
В тот август в Коктебеле я, кроме "Предателя Ада", видел лишь еще один
фильм -- он шел не за закрытыми веками, а в упомянутом кинотеатре "Луч"
(сооружение, напоминающее античный храм на горе -- без крыши, с деревянными
скамейками внутри). Это был китайский фильм "Приказ императора" --
исторически-приключенческая лента, окрашенная в тона глубокого пессимизма. В
этом фильме, в частности, была такая сцена: армия (дело происходило,
кажется, в XVII веке, в период междоусобиц) врывается в даосский монастырь.
Монахи дают отпор вооруженным солдатам, демонстрируя искусство кон-фу и
другие боевые искусства. Внезапно появляется величественный древний
старец-даос в белоснежном одеянии, с длинной седой бородой. Он мгновенно
вступает в бой с толпами солдат, являя чудеса боевого мастерства: он
совершает гигантские прыжки, повисает в воздухе, ударом пятки убивает целые
отряды врагов, взмахом мизинца превращает неприятельские войска в кашу
раздробленных тел. Захватчикам, видимо, пришел конец -- кажется, их ничто не
спасет. Неожиданно один из солдат -- жирный увалень с трусливыми глазками --
грузно подбегает сзади к великолепному старцу и убивает его ударом пики в
затылок. После этого солдаты уничтожают монастырь. Эта "китайская шутка"
чем-то напомнила мне эпизод с агрономом.
Странно, что "Приказ императора", эта цепь образов тусклых и
призрачных, является реальностью -- этот фильм может посмотреть любой, и сам
я, при желании, смогу посмотреть его еще раз. Но "Предатель Ада" с его
сочными красками и головокружительными эффектами -- его никто уже не сможет
посмотреть. И я не смогу. Даже если Голливуд вдруг бросит свою машинерию к
моим ногам и одиозная "фабрика грез" станет работать на удовлетворение моих
онейроидных капризов -- все равно я не смогу найти таких актеров, и усилия
аниматоров меня не удовлетворят. Да и сам я, как сказано у Борхеса в
"Алефе", "постепенно утрачиваю бесценные черты Беатрис", то есть, иначе
говоря, постепенно забываю "Предателя". Фабула запомнилась мне лучше,
зрительные детали выветриваются. Остается удивление, что это произведение --
массово-развлекательное по всем признакам -- было создано для единственного
зрителя и только для одного просмотра.
Честно говоря, меня неприятно поражает, что пересказ получился таким
длинным. Я наивно полагал, что он займет страницы три. Не совсем понимаю,
зачем я все это так старательно записал. Наверное, мною руко-иодило смутное
чувство, что этот несуществующий фильм и эта запись когда-нибудь принесут
мне деньги. Это беспочвенное предчувствие возникло у меня еще во время
"просмотра", и оно до сих пор меня не покинуло. Пожалуй, это единственная
странность во всей этой истории.
1996, март, Кельн
Философствующая группа и музей философии
НА ПЛАТИНОВОЙ ТАБЛИЧКЕ, ИНКРУСТИРОВАННОЙ ПО КРАЯМ ОПАЛАМИ И ЖЕМЧУГОМ,
НАПИСАНО:
Философствование иногда было (бывает, будет бывать) последствием
галлюцинаций, чаще, впрочем, оно являлось проектом их преодоления --
противоядием своего рода. Считается, что человеческий разум способен
"перерабатывать" логос со специальной целью обеспечить себя подобными
противоядиями, помогающими преодолеть ту степень идеологической интоксикации
(отравленность иллюзиями), на которую обречено нефило-софствующее существо.
НА ТЕМНОЙ ТАБЛИЧКЕ С ЗАКРУГЛЕННЫМИ УГОЛКАМИ, СДЕЛАННОЙ ИЗ СПРЕССОВАННОЙ
УГОЛЬНОЙ ПЫЛИ, ПОМЕЩЕННОЙ В РАМКУ ИЗ КОСТИ ИСКОПАЕМОГО МАМОНТА (ЦВЕТ РАМКИ
БЕЛО-ЖЕЛТОВАТЫЙ), НАПИСАНО:
С другой стороны, люди подозрительные и осмотрительные сообщали, что
"противоядие" само может быть ядом или же наркотиком, что оно может даже
соучаствовать в деле создания особых "отравляющих тел". Философ, говорили
эти представители осторожности, вольно или невольно изобретает новые формы и
типы зависимости, новые порабощающие моды. Философ делает это, следуя
подсказкам, приходящим со стороны "отравляющих тел". Впрочем, то, что
исходит от "отравляющих тел", никогда не приходит слишком уж "со стороны",
поскольку "отравляющие тела" не знают разделения на "внутри" и "снаружи" --
они сквозные, проницающие.
НА БОЛЬШОМ КУСКЕ ЗАМОРОЖЕННОГО КИТОВОГО САЛА ЗОЛОТОЙ НИТЬЮ НАПИСАНО:
Напротив, всегда существовали и наверное и впредь будут существовать
люди, восторженно относящиеся к галлюцинациям. Такие люди предпочитают
говорить о видениях, откровениях, восхищениях, экстазах и тому подобное. Эти
поклонники и адепты галлюцинирования иногда упрекали логическое и
рациональное мышление в том, что оно есть нечто скользящее по поверхности,
не затрагивающее глубин. Существенными в таком случае почитались
переживания, имеющие место за границами рассуждения.
НА ЛЕЗВИИ ЗОЛОТОГО ТОПОРА НАПИСАНО:
Здесь на первый план, впрочем, всегда выходила проблема различения
между подлинными и неподлинными переживаниями глубин, между "откровением" и
"прелестью". Различение это невозможно осуществить без той или иной тактики
рассуждения, данной в традиции. Тема различения (невозможного без некоторой
настороженности, без бдительности) объединяет почти все мистические и
медитативные практики в ипохондрический компендиум, напоминающий
философский, также объединенный изнутри фобиями: боязнью противоречий,
иллюзий, повторов, бессознательных заимствований, трюизмов, наконец (и это
самый нервирующий и плохо устранимый вид фобии) глубоким страхом перед
избыточностью, ненужностью, невостребованностью тех или иных витков
дискурса.
НА ПОВЕРХНОСТИ ЯЙЦА (РАЗМЕРЫ ЯЙЦА СООТВЕТСТВУЮТ ЯЙЦУ СТРАУСА),
СДЕЛАННОГО ИЗ ЦЕЛЬНОГО КУСКА ГОРНОГО ХРУСТАЛЯ, УКРЕПЛЕННОГО НА БРОНЗОВОЙ
ПОДСТАВКЕ С ТРЕМЯ НОЖКАМИ В ВИДЕ ЛЬВИНЫХ ЛАП, ОБУТЫХ В РИМСКИЕ САНДАЛИИ,
НАПИСАНО:
Наконец, нередко задумывались над тем, что сами по себе препирательства
между "философствующими" и "галлюцинирующими" выглядят подозрительно: то ли
за этим стоит политическая борьба между различными типами "властителей дум",
то ли неуживчивость различных "психосюжетов", "психем", опирающихся на плохо
совместимые типы практик.
НА СЕРЕБРЯНОЙ КОПИИ УХА ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНЕЙ ДЕВУШКИ НАПИСАНО:
Тут иногда приходилось признать, что глубины с легкостью становятся
поверхностями (а иначе они недостаточно глубоки), что эзотерический текст
обладает априорной тривиальностью (и что всякая попытка сделать его менее
банальным оборачивается глупостью и преступлением), что философствование это
опосредованное традицией галлюцинирование в логосе. Логика, в ее
классическом понимании, это старый делириозный регламент, когда-то
выведенный за пределы бреда юридическими потребностями афинской демократии.
Этот регламент поддерживается определенным статусом человеческого мозга, а
также собственной традицией.
Наркотик и голод, сон и обыденный разговор, сытная еда и вино,
отсутствие свободного времени и ничем не ограниченный досуг -- все это
комбинации урезаний и дополнений, нехваток и излишков, код несовпадений и
диссонансов. Все это, до некоторой степени, складывается в "повествование",
однако в целом оно нечитаемо. Именно непрочитываемость делает это
"повествование" экономической реальностью. Прочитываемыми остаются только
его внутренние границы, разрывы, места нестыковок или, напротив, "случайных
совпадений", случек, зоны чересчур навязчивых повторое, пиковые участки
порнологических оргий и, уравновешивающие их, крайние варианты воздержания.
Все эти эксцессы отмечены присутствием тех или иных технических
возможностей, смягчающих или даже (временно) устраняющих гнет экономических
ограничений (конечность жизни, ограниченные ресурсы времени, сил, внимания и
так далее).
НА ПОВЕРХНОСТИ СВИНЦОВОГО КОНУСА, НА ОСТРИЕ КОТОРОГО УКРЕПЛЕНА АНТЕННА,
УСЫПАННАЯ БРИЛЛИАНТАМИ, НАПИСАНО:
В любом случае высказывание, будь то ссылающееся на галлюцинаторный
опыт или являющееся следствием размышлений, имеет своим фактическим
"внутренним" референтом тело высказывающегося. Это тело "не дано" в тексте,
и его неданность конституирует текст. Раскрутка высказывания обратно к телу
(этот обожествляемый реверс) -- невроз критических дискурсов. Критика ищет
рот, чтобы "примерить" к нему речь, чтобы заставить этот рот принять в себя
обратно некогда сказанное слово. Критический дискурс ищет руку, чтобы
заставить ее отыграть назад движения письма, "стереть" текст.
НА ПОДНОСЕ, КОТОРЫЙ ДЕРЖИТ БРОНЗОВАЯ СТАТУЯ КАЗАКА, РАЗРУБЛЕННОГО
ПОПОЛАМ СВОИМИ ПРИЯТЕЛЯМИ, НО СПОКОЙНО ПОКУРИВАЮЩЕГО ЛЮЛЬКУ, НАПИСАНО:
Впрочем, критический дискурс не считает себя садистом-расчлените-лем.
Этот дискурс предполагает (и не без некоторых на то оснований), что тело
высказывающегося расчленено уже самим актом высказывания: только молчащее
тело может быть цельным. Поэтому парциальные тела, такие как It (ЭТО) и The
Thing (ВЕЩЬ), молчат -- они уже являются следствием расчленения, им незачем
и далее расщеплять себя.
НА ЗОЛОТОМ БИЛЬЯРДНОМ СТОЛЬ, ЧЬЕ ИГРОВОЕ ПОЛЕ РАВНОМЕРНО ПОКРЫТО
ТОНКИМ, НО ПЛОТНЫМ СЛОЕМ КОКАИНА, ИМЕЮЩИМ ВИД БЕЛОГО ПОРОШКА, НАПИСАНО:
Критический дискурс изначально апеллирует к "кускам", к деталям,
взявшим на себя бремя авторства. Говорящий рот, пишущая рука, беременный
мозг, иконизированное лицо, подстрекающие телесные дефекты, диктующие
гениталии -- все эти стереотипные аксессуары складываются воображением в
монструозное авторское "тело", причем возникает тревожная мысль о том, что
это "тело" потому только и замещает себя текстом, что оно само по себе
слишком кошмарно.
НА ГРАНЯХ ПЯТИКОНЕЧНОЙ РУБИНОВОЙ ЗВЕЗДЫ, УВЕНЧИВАЮЩЕЙ НОВОГОДНЮЮ ЕЛЬ,
ВЫТОЧЕННУЮ ИЗ ЦЕЛЬНОГО КУСКА УРАЛЬСКОГО МАЛАХИТА, НАПИСАНО:
Из этих авторских "тел" механически вычитаются все не помеченные
дискурсом зоны. Ими могут быть внутренности, щиколотки, локти, гипо-камп,
среднее ухо и прочее.
НА АЛМАЗНОМ СЛОНЕ НАПИСАНО:
Уродливое тело Сократа, сухощавое и якобы склонное к онанизму тело
Канта, инфицированное и страдающее тело Ницше, задыхающееся и стремящееся к
самоизоляции тело Пруста, возбужденное кокаином и все тем же онанизмом тело
молодого Фрейда и его же старое тело, не испытывающее более никаких приятных
ощущений, -- эти "тела" есть связки инсинуаций и грез. Эти фантомы
принадлежат культуре, они давно стали "общими местами", а общие места и
охраняются сообща.
НА СЕРЕБРЯНЫХ ДЕТСКИХ САПОГАХ ВЫГРАВИРОВАНО:
Тело замкнуто. Его содержание (то есть набор "магических" эквивалентов
того или иного авторского дискурса) утеряно, недоступно. Вначале эта утрата,
эта недоступность мотивированы тем, что тело -- живое. Затем они же
мотивированы тем, что тело -- мертвое. Тем не менее высказывание подписано
тем же именем, которым помечено тело. В практике цитирования имя автора
иногда дается в скобках. В этих скобках умещается вся "скабрезная
галлюциногенность", весь тонатомимезис, весь ужас того обстоятельства, что
тело (носитель того же самого имени) в эти скобки помещено быть не может,
хотя там, в каком-то смысле, ему и место.
НА БЕЛОМ АТЛАСНОМ ЧЕХЛЕ, ВНУТРИ КОТОРОГО НАХОДИТСЯ ПЛАТИНОВАЯ КОПИЯ
АВТОМОБИЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ, ЧЕРНЫМ БИСЕРОМ ВЫШИТО:
Философу дана двойная возможность фроттировать зону собственной
нетелесной телесности. Он может акцентировать свой нарциссизм, свой
солипсизм. Однако, таким образом, он лишь укрепляет традицию эффектностью
своего присутствия-отсутствия в собственном тексте.
НА СТАЛЬНОМ КАРЛСОНЕ НАПИСАНО:
Имеется и другая возможность, связанная с псевдонимностью. Кьерке-гор,
возможно, острее других чувствовал фокус на поименованном теле
высказывающегося, которое "трансцендентно" тексту, в то время как тела
читателей этому тексту "даны", то есть, парадоксальным образом,
"имманентны". Всю жизнь скрываясь за псевдонимами, Кьеркегор в конце жизни
высказал пожелание, чтобы на его могиле написано было одно лишь слово -
Единственный.
НА ЧУГУННОМ ШАРЕ, ВЕСОМ В 66 ТОНН, УКРЕПЛЕННОМ НА ТОНКОЙ СТЕКЛЯННОЙ
ИГЛЕ, ВЫСОТОЙ В 102 МЕТРА, НАПИСАНО:
Имя собственное никогда не бывает целиком и полностью собственным.
Персональное имя и персональное тело вовлечены в слишком тесные (и слишком
старые) отношения с анонимным. Они слишком очевидным, слишком экономическим
образом сцеплены с другими именами, другими телами и их отсутствиями.
Следует (хотя бы лишь с терапевтической точки зрения) ослабить тесноту этих
сцеплений, сделать ситуацию более разреженной, более "пространственной",
менее "хронической" и менее дисциплинированной. Иначе говоря, придать
ситуации технические свойства. Для этого и появляется философствующая
группа.
НА ПАРЧОВОМ ПАПСКОМ ОБЛАЧЕНИИ МЕЛКИМ ЖЕМЧУГОМ ВЫШИТО:
Можно сказать, что безответственность здесь возведена в высший принцип.
Нашу маленькую (хочется сказать -- микроскопическую) "философствующую
группу", то есть Инспекцию "Медицинская герменевтика", можно сравнить с
Бермудским треугольником. Вместо имен здесь -- номенклатура. Раскручивая
нити наших высказываний в направлении "реверс", критическое расследование не
сможет добраться до тел. Это расследование упрется в треугольник, чьи грани
образованы тремя "окукленными" телами, тремя галлюцинирующими личинками. В
центре треугольника -- высказывающаяся пустота. Суть же высказывания --
подмена, поглощение, исчезновение.
НА ФАРФОРОВОЙ КОПИИ ВЗОРВАННОГО БОЛЬШОГО ТЕАТРА НАПИСАНО:
Граница между философствованием и галлюцинированием, точнее, клапан,
заведующий "переключением" ("перекачкой") философствования в
галлюцинирование и наоборот -- вот чем заведует микроскопическая
"философствующая группа".
НА ТИТАНОВОМ ШЛЕМЕ, НАДЕТОМ НА ГОЛОВУ ИЗУМРУДНОГО СТАРИКА, ОСЕДЛАВШЕГО
АКУЛУ, СДЕЛАННУЮ ИЗ РОЗОВОГО МРАМОРА (РАЗМЕРЫ АКУЛЫ СООТВЕТСТВУЮТ
НАТУРАЛЬНЫМ), НАПИСАНО:
Это напоминает о переходе от ВСЕГО к НИЧЕМУ, напоминает о нагрузке,
падающей на ядерную кнопку. С невероятной скоростью нам приходится
передавать друг другу (не столько "по кругу", сколько "по треугольнику") наш
"президентский" черный чемоданчик, нашу пизду, наш вагинальный знак
верховной власти. Скорость должна быть предельной, умопомрачительной. От
таких скоростей, как от космических перегрузок, люди, как правило, глупеют.
Но иначе кто-то из нас может поддаться искушению совершить окончательное
движение, финальный ласкающий жест -- не столько нажатие на кнопку, сколько
ободряющее "пожатие кнопки". Тогда галлюциноз навсегда останется
галлюцинозом, логос навсегда останется логосом.
НА ПОВЕРХНОСТИ ОГРОМНОГО КУБА, СДЕЛАННОГО ИЗ СПЛОШНОГО ЧЕРНОГО КАМНЯ,
УКРЕПЛЕННОГО НА ПОДСТАВКЕ В ВИДЕ ЗОЛОТОЙ КУРИНОЙ ЛАПКИ, НАПИСАНО:
Однако, вместо катастроф, философствующая группа производит нечто вроде
сокровищ, она производит клады и даже, с большей или меньшей долей
прилежания, оборудует для этих "кладов" специальные "острова" -- "острова
сокровищ" и "таинственные острова". Отмененная катастрофа нуждается в
драгоценном памятнике, она порождает сувениры ювелирного типа. Праобразом
такого рода сокровищ могут считаться знаменитые яйца Фаберже. Соединение
яйца и часов, тикающее яйцо с часовым механизмом внутри это, конечно же,
бомба, но бомба, которая никогда не взорвется, также как "яичко золотое"
никогда не разродится. Яйца Фаберже это обезвреженный, нирванизованный
дискурс бомбизма, упрежденный террор. Они демонстрируют нам, как "адские
машины" становятся ювелирными изделиями, роскошными украшениями рая. С
политической точки зрения эти люксус-яйца реакционны, но в их ювелирной
чешуе, во всех их жемчужинах и алмазах мириадами бликов горят размноженные
отражения той искры, которая освещает само сердце реакции. Речь идет о
категорическом требовании покоя.
НА НЕФРИТОВОЙ КОПИИ ЯДЕРНОГО ЧЕМОДАНЧИКА (ЯДЕРНАЯ КНОПКА ИМЕЕТ ВИД
БОЛЬШОГО БРИЛЛИАНТА) НАПИСАНО:
Именно поэтому мы постоянно держим "дискурс Фаберже" за его
драгоценные, тикающие яйца. Философские категории, "философемы", это тоже
"адские машины" своего рода, которые еще следует обезвредить.
Философствующая группа каким-то образом (каким? каким образом?) производит,
вместо философии, философский музей. Для этого даже не нужны специальные
усилия, достаточно наличия философствующей группы, а "музей философии" сам
сложится по ее следам, как пенный шлейф, как череда экскрементов. Здесь
"идеи" могут раз и навсегда отдохнуть от своей бесплотности, от своего
существования "голодных духов", бесконечно жаждущих и не находящих
воплощения. Все философские категории здесь обретают свои предметные
эквиваленты (именно эквиваленты, а не иллюстрации). Таким образом они
успокаиваются.
НА ПЛАТИНОВОЙ КОПИИ БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ РАКЕТЫ СРЕДНЕГО РАДИУСА ДЕЙСТВИЯ
НАПИСАНО:
Философский музей может быть только невероятно дорогостоящим. Нужны все
сокровища мира, чтобы приобрести покой.
НА АЛМАЗНОЙ КОПИИ РАКЕТЫ "ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ" НАПИСАНО: Чтобы порождать
вещи "музея философии", от философствующей группы требуется немного -- она
должна находиться в состоянии перманентного распада. Это несложно, поскольку
распад это вообще "рок группы", поэтому идеальными группами являются
постоянно распадающиеся рок-группы.
НА МАТРЕШКЕ, СДЕЛАННОЙ ИЗ ЧЕРНОГО АСФАЛЬТА, НАПИСАНО: Рай, как
известно, это оазис, точнее, цепочка оазисов, то исчезающих, то появляющихся
на подвижной линии между дискурсом и наррати-вом. "Оазисы" -- это зоны, где
"технические возможности" на какое-то время, по каким-то причинам, заслоняют
собой "экономическую реальность".
НА СТАТУЕ ГИГАНТА, КОТОРОГО ТРОГАЕТ ЗА ПЯТКУ БРОНЗОВАЯ СТАТУЯ ДЕВОЧКИ
11 ЛЕТ, ОДЕТОЙ В КОСТЮМ ДЛЯ ГЛУБОКОВОДНОГО ПЛАВАНИЯ, С ЗОЛОТЫМ АКВАЛАНГОМ НА
СПИНЕ, НАПИСАНО:Такого рода затмения это "затмения тьмы светом", "мягкие
вспышки", высвечивающие галлюцйногему ВСЕГО в каноне УЮТА. В эти моменты мы
видим интерьеры сокровищниц, комнаты одомашненной запредельно-сти, залы
согласованности, коридоры и капилляры инкрустированной по-нятийности. ВСЕ и
НИЧТО вступают здесь в отношения любовного сговора. НИЧТО прилагается ко
ВСЕМУ как анестезирующий, а то и онанистический аттракцион.
НА РУБИНОВЫХ ВАЛЕНКАХ НАПИСАНО:
Таким образом философия исцеляется, через "прописанный" ей галлюциноз,
от пронизывающей ее конфликтности, она становится отныне неполемичной,
безотносительной, нирванизованной. Нарратогенный галлюциноз, в свою очередь,
поддерживает с помощью этих нирванических дискурсов свои канонические,
райские формы.
НА АЛМАЗНОЙ КОПИИ ДАЧНОЙ ВЕРАНДЫ НАПИСАНО:
Либидо это яйцо, чья скорлупа сплошь инкрустирована жемчугом. Катарсис
это яшмовый пень. Бытие к смерти это серебряная палка. Воля к власти это
противозачаточная спираль, выполненная в технике перегородчатой эмали. Имаго
это платиновая антенна, проходящая сквозь палехский поднос. Прибавочная
стоимость это вологодские кружева в янтаре.
НА АЛМАЗНОЙ КОПИИ САРАЯ НИЧЕГО НЕ НАПИСАНО.
НА АЛМАЗНОМ ТОПОРЕ НИЧЕГО НЕ НАПИСАНО.
Октябрь 1996 Вилла Вальдберта. Бавария
Голос из китайского ресторана
Температура эсквайра
Немного простудились, а уже говорят: "У меня высокая температура!" или
"У такого-то высокая температура!" Откуда такое высокомерие?
А что, обычная температура нашего тела -- 36,6 градуса -- разве
недостаточно высокая? Даже если бы у какого-нибудь эсквайра температура тела
равнялась бы минус несколько миллионов градусов, я и то не назвал бы ее
"низкой". Зачем оскорбления? Можно было бы просто сказать, что этот эсквайр,
отложив в сторону горячность, спокойно занимается своими делами.
Два клана
Как-то раз решили встретиться два семейных клана, которые давно уже
присматривались друг к другу с целью породниться. Один клан носил общую
фамилию Колины, другой клан звался Наташины. Но каждый член кланов еще имел
и собственную фамилию.
Встретились в огромном доме Наташиных, ну, выпили, естественно. Со
стороны Колиных были: Виктор Усов, Маша Ротова, Леночка Ухова, Валентин
Носов, Тоня Членова, Аркадий Федорович Коленников, Гриша Ступнев, Коля
Пальцин, Эйно Торс, Гоша Локтев, Федор Ногин, Кирилл Задов, Семен Шейнин,
Рада Глазова, Гена Зрачков, Лена Яйцева, Борис Руков и другие. Со стороны
Наташиных были: Родион Губкин, Митя Локонов, Катя Сережкина, Валя Бусина,
Таня Грудкина, Миша Сосков, Валентин Бедрицкий, Петя Вагинов, Аня Лодыжкина,
Арсений Попков, Ника Запястьинская, Нэнси Браслетт, Антон и Валя Чулковы,
Кира Ресницына, Марио Талия, Инга Платьина и другие.
Как водится, молодежь затеяла танцы, пожилые сидели в сторонке. Старые
фронтовые товарищи Валентин Бедрицкий-Наташин и Борис Ру-ков-Колин, обняв
друг друга за плечи и покачиваясь, пели военные песни. Эйно Торс-Колин и
Марио Талия-Наташин говорили по-английски и неплохо понимали друг друга.
Маша Ротова-Колина и Родион Губкин-Ната-шин мастерски станцевали фокстрот,
затем танго, а после, как полагается, перешли к медленным танцам, обнявшись,
явно увлеченные друг другом. Обнимались, в другом углу, и Таня
Грудкина-Наташина с Колей Пальци-ным-Колиным. Солидный Борис Руков помог
Инге Платьиной убрать со стола после ужина. Затем он же уложил спать
малолетних Антошу и Валечку Чулковых-Наташиных.
А в это время, оставшись без присмотра, одиннадцатилетние Тоня
Членова-Колина и Петя Вагинов-Наташин играли в дальних коридорах дома. Тоня,
громко хохоча, раскрасневшись, стремительно вбегала в Петину комнату и снова
выбегала, как пьяная, в полутемный коридор. В руках она держала
пластмассовую брызгалку и постоянно норовила обрызгать Петю, который, тоже
весь трясясь от хохота, безуспешно уклонялся, прячась то за шкаф, то
заслоняясь картонным щитом. Оба уже были мокрые с ног до головы.
В общем, хорошо прошла встреча этих двух кланов.
А может быть, просто-напросто, заброшенные непонятно в какое состояние
сознания, парень Коля и девушка Наташа любили друг друга в пустом кабинете
химии.
Имя одного чемоданчика
На заснеженном балконе, среди прочего хлама, располагался слесарного
типа чемоданчик. Чем он был набит -- все забыли. Железные замки его
заржавели. Никто его не вспоминал. Не знали и его имени. А звали его --
Великая Снисходительность.
Чипполино
Вряд ли есть кто более отвратительный, нежели Чипполино. Человек,
сельский пролетарий, у которого вместо головы -- огромная вонючая
лу-ковигда! К тому же он еще и экстремист. Морковь шла по его следу --
безуспешно. Лимоны и апельсины разыскивали этого подонка -- никаких
результатов. Луковый смрад -- везде, а самого негодяя разве сыщешь? Да и
некому больше разыскивать его.
Семь белых волков
Одному Умельцу из Прослоек поручили сварганить такое сновидение, чтобы
уж не так-то легко было и отмахнуться от него. Умелец, естественно,
расстарался. Достал отличное ореховое дерево, даже с остатками листьев. С
крайнего Севера привез семь белых полярных волков, долго дрессировал их,
пока не научил по команде рассаживаться на ветвях дерева. Затем сработал
нечто вроде театральной сцены в форме окна: скрытая в бархате ветряная
мельница создавала дуновение, которое приподнимало тюлевую занавеску, затем
-- на платиновых пружинах -- медленно приоткрывалась оконная рама. Больше
всего времени ушло на постановку света. Но Умелец добился того, чего хотел,
-- свет шел и снизу и сверху, не смешиваясь, заставляя шубы волков
серебриться как седина и как снег. Сон показали одному мальчугану. Тот
перепугался, побежал к врачу. Старик врач владел пером, как гребец жирным
блестящим веслом: он записал сон. С тех пор люди читают и нарадоваться не
могут. А Умелец только щурится, попыхивает своей цигаркой да смеется в усы:
мол, у нас в Прослойках еще и не такое сработать можно.
Диета старика
Некий старик решил наконец быть сдержаннее в еде. Исключил мясо, все
жирное, перестал есть горячее и холодное. К специям и сладостям не
притрагивается. И что же вы думаете? После миллиардов лет несправедливости
что-то в мире стало поправляться. Исчезли войны, уменьшилось число
катастроф. Люди и животные вроде как поменьше стали испытывать неприятных
ощущений. А потом и вообще все стало хорошо, без гадостей. С этого и надо
было начинать, господа!
Чернильно-черничная бездна
Погружаясь в бездну, подумали: не испугаться ли? Вроде не слишком-то
ласково отзываются о бездне. А потом поняли -- пугаться никакого смысла нет.
Бездна наполнена тьмой, но самой приятной -- сладкой, как черничный кисель,
и полезной, как чернила. А в глубине -- столько развлечений, что описать не
хватит и тысячи языков. Здесь находятся существа, которых называют "шутками
Бога", созданные в состояниях игривости и остроумия. Вот хотя бы одно --
огромное, как гора, живет в темноте, но располагает крошечной зажигалкой. Им
полностью владеет любопытство по отношению к своему телу: оно все чиркает
зажигалкой, то один кусочек себя осветит, то другой: то грот, то выступ, то
бугорок на себе. И с таким неподдельным интересом смотрит на это -- никаких
сил нет удержаться от хохота! А ведь смеяться просто неприлично: оно же
никак не может сложить все эти крошечные освещенные кусочки в какую-либо
цельную картину. Но зато увлеченность у него -- увлеченность такая, что
можно и позавидовать!
Великан и пропасть
На краю пропасти стоял великан. Высота была чудовищная. Если заглянуть
в такую пропасть, то, как принято говорить, "кровь в жилах превращается в
лед". Не следует забывать и о головокружении. Если бы в такую пропасть падал
обычный человек, он летел бы, может быть, несколько лет, пока не разбился бы
в пыль.
Жить великану, в общем-то, надоело, и он давно подыскивал себе
пропасть. Не раздумывая, он сделал шаг вперед и рухнул туда. Но слишком уж
он был огромен -- не только не разбился, но даже не смог провалиться туда
целиком. Застрял в этой пропасти, как в обычной канаве. Повозился,
повозился, да и заснул.
Напиток тяжести
Один человек зашел как-то раз в мелкое заведение выпить чашечку. Люди
вокруг незнакомые, вещи тоже. Кто-то предлагает: "Не желаете испробовать
напиток тяжести?" Тот по глупости согласился. Выпил -- и сразу провалился
сквозь пол. (А дело было в Нью-Йорке.) Пошел, что называется, сквозь все
этажи. Давит паркет, балки -- все в пыль, и сразу идет вниз. Но вроде жив,
да и, видит, ход довольно плавный. Вошел в землю, и сразу -- к ядру.
Невредимым прошел сквозь раскаленную магму и вроде как засел в ядре. Вокруг
-- беспредел, температуры немыслимые, но в самом центре ядра вроде бы
ничего, спокойно. Даже словно бы откуда-то тянет свежим ветерком. Ну, что
делать -- обосновался там, постепенно наросла вокруг него комнатка,
появились свои вещи, занятия. Через несколько миллионов лет из уха у него
выкатился серебряный шарик, а может быть, ртуть -- непонятно. Сразу
почувствовал -- отпустило и тянет наверх. Выскочил, как пробка из бутылки,
-- вокруг провинциальный городок, приморский, улицы все травой заросли.
Видит: небольшая компания идет на берег моря с алкоголем. От нечего делать
присоединился к ним. Выпили, искупались. В компании была девушка.
Познакомился с ней. Вскоре поженились.
Желобок
Издавна соглашались с тем, что небо на самом деле белое. Спорили только
о том, проходит ли по небу желобок, который делит его ровно пополам. Не
щель, не трещина, а именно белый, неглубокий ровный желобок, вроде бороздки
или, что называется, "обратная канавка". Мнения на этот счет расходились.
Наконец выискался один, что решился заявить во всеуслышание, что небо -- это
таблетка старика, которой он прикрыл тоненькую стеклянную пробирку.
-- Старик-то где? -- спросили его.
-- То экспериментирует потихоньку, то спит, а в свободное время читает
свою газету, -- ответил проныра.
Пенсионер и инопланетянин
К одному пенсионеру явился инопланетянин: сильный, с зелеными
светящимися глазами, сам прошел сквозь стену. Пенсионер наверное испугался
бы до смерти, но дело было вечером, после девяти, а в девять пенсионер
всегда принимал свои лекарства: стугерон, циноризин, ноатропил и нитрозепам.
Поскольку лекарства уже начали действовать, пенсионер реагировал спокойно.
Инопланетянин присел к нему на кровать, завел разговор. Рассказал, что
есть возможность, чтобы все на планете Земля изменить к лучшему, чтобы люди
жили в довольстве, не болели, никогда не мучились и вообще не испытывали
неприятных ощущений, чтобьгвсюду были чистота и порядок.
-- А что я-то могу сделать? -- спросил пенсионер. -- Неужто моя помощь
понадобилась?
-- Да нет, в общем-то. Не беспокойтесь, -- вежливо заверил его
инопланетянин.
Пенсионер уснул, не в силах больше противостоять действию снотворного.
Инопланетянин остался без общения, походил по комнате. Увидел жестяную
коробочку с изображением здания со шпилем -- на шпиле звезда, обрамленная
венком из листьев и колосков. Подпись под зданием: ВСНХ. Открыл -- внутри
какие-то пуговицы, нитки, рецепты.
-- Пустячная вещица, а все-таки будет какой-то сувенир на память об
этих местах, -- подумал инопланетянин, положил коробочку в карман и
отправился восвояси.
Вечная жизнь, здоровье, молодость и красота
Никак не возьму в толк, отчего на свете все не самым лучшим образом.
Казалось бы, ничего не стоит сделать так, чтобы все как-то стало мягче,
спокойнее, вообще более приятно. В принципе хотелось бы, чтобы вообще все
было хорошо и нигде не видывали бы ничего хоть сколько-нибудь плохого.
С удовольствием исключил бы из мироздания все, что кого-либо мучает,
удручает, причиняет неприятности, страдания и прочее. Даже ради развлечения
не стоило бы сохранять память о неприятном. Пускай все обустраиваются
поуютнее и живут вечно, со сквознячком.
Совершенно очевидным представляется следующее: данный период, время, в
котором мы сейчас проживаем, черпает свою специфику из определенного зазора.
Это зазор между технологической или технической ВОЗМОЖНОСТЬЮ (все мы живем в
лучах этой технической возможности, в ситуации ДВЕРЬ ОТКРЫТА) и
экономической НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ. Иначе говоря, "технически " все готово к тому,
чтобы наступило "будущее ", однако "экономически " это невозможно. Мы живем
на пересечении этих двух "лучей " -- "луча " технической возможности,
доступности, вскрытости, най-денности, изобретенности. И луча экономической
"невозможности": дверь открыта, но имеющийся в наличии "экономический "
расклад ресурсов, сил, энергий, объемов, масс и прочего ставит нас в
положение вуайеристов -- мы постоянно созерцаем предел, порог,
ограниченность наших возможностей. Такие вещи, как "внимание", "понимание",
"восприятие", "рецепция", -- имеют как технический, так и экономический
смысл. В течение 60 -- 80-х годов "внимание " было экономически более
свободным, более оснащенным, в силу чего в центре внимания культуры
находились достаточно сложные и требующие нюансировки вопросы, связанные с
характером и функционированием знаковых систем, с сложными, по своей
природе, структурами языка, речи, кодов и т. п. 90-е годы (возможно, в силу
пресловутого "конца века " и общей логики декадансов) это время, когда
экономические ресурсы внимания урезаны, внимание находится на "полуголодном
режиме ", в силу этого обстоятельства оно способно (речь идет, разумеется,
об абстрагированном, "внимании культуры ") удержать в поле своего зрения
только простейшие, элементарные трансгрессии. Только такие "простейшие" ходы
вызывают в наше время, на бессознательном уровне, что-то вроде приступов
коллективной благодарности. Производя нечто предельно простое,
трансгрессивное, неоригинальное, что-то вроде младенческого кала, мы только
лишь можем сделать культуре (возбужденной технологическими "возможностями "и
бесконечно зажатой и фрустрированной экономическими "невозможностями ")
услугу: в акте элементарной трансгрессии мы становимся самоокупаемыми.
Младенческий "первосон ", напоминающий лужу белого клея, это то пятно
непонимания, пятно невинности, которое мы можем подарить культуре, для
залатывания очередной "дыры в бюджете ". Сказка, рассказываемая засыпающему
ребенку, этот нарративный эквивалент убаюкивания, чья задача -- поставить на
конвейер онейроидности ряд сцепленных между собою фантазмов, чья
"штамповка"способна, с одной стороны,развязать фантазирование
(иллюстрирующее нарратив по ходу его разворачивания) в сторону сна, и с
другой -- внести в сон ряд контрапунктов, несущих на себе священные коды
коллективной предначальности. Мы имеем, с одной стороны, народную сказку,
рассказанную -- согласно партитуре -- няней, этой "убийцей Эдипа " -- и, с
другой стороны, сказку, рассказанную "от фонаря " или "от пизды ", то есть
сказку с выдутой, выветренной архаической подкладкой, "модернизированное"
сцепление фантазмов, апеллирующее уже не к коллективному, а к
индивидуальному предначальному -- к младенческим кошмарам и фантазиям,
связанным с гипертрофированными категориями веса, объема, времени й прочих
"экономических" весомостей. Мотив застревания во времени и не-катарсиса,
мотив вечной и неразрешимой беременности, негаснущий "день сурка ", то
клейкое место, называемое полумифическим словом "сингулярность ", лежит в
центре этих нерожденных, несостоявшихся сказаний.
Москва, 12 апреля 1995
Айболит
Айболиту подогнали Тянитолкая -- вроде как для того, чтобы он побыстрее
добирался к своим пациентам. А на деле как получилось? Тянитолкай
двусторонний, двухголовый -- одна голова тянет в одну сторону, другая -- в
противоположную. Так и перетоптывается на месте веками: тянешь его -- ни с
места, толкаешь -- упирается. Айболит сидит на нем и молчит. Наконец
подбегают какие-то:
-- Что же вы, уважаемый? Вас заждались!
А Айболит отворачивается, даже не смотрит на них.
Неистовства любви
В ресторане "Пекин", что в центре Москвы, жил человек, у которого
правая рука страстно любила левую. Чуть что -- она к ней, обнимает, мнет,
словно бы слиться хочет с ней совсем. И до таких безумств дело доходило!
Как-то раз правая заприметила, что Хозяин любит почесывать левой рукой
кадык. Ну тут, как говорится, от любовной ревности помутились все двадцать
шесть нижних небес. Правая дождалась, когда Хозяин уснет, подобралась к
горлу -- и давай душить. Чуть было не убила, безмозглая, Хозяина и себя
заодно. Хорошо, что Хозяин в последний момент проснулся -- видит, жизнь на
волоске висит. Стал оттаскивать правую левой рукой, но правая-то сильнее,
мускулистей. Навалился на нее всем телом, она вырывается, нет сил удержать.
Зовет на помощь. Прибежали друзья, люди горячие, стали топтать руку ногами.
Хозяин кричит от боли, все-таки его рука. С тех пор пришлось носить на этой
руке тяжелые кандалы. Правая рука висит, закованная, и шевельнуться не
может. Левая иногда к ней из жалости подбирается украдкой, погладит
чуть-чуть, чтобы утешить. Только любовь может довести до такого неистовства.
Слухи про старика
Про одного старика распустили слухи, что он вроде как приказал долго
жить. А на самом деле он просто засиделся в одном ресторанчике, сошелся с
тамошними -- то и дело ему подносят что-нибудь вкусненькое, развлекают,
рассказывают про всякое. Такое отличное место не сразу и найдешь!
Другой старик тем временем отправился в дальнюю страну. Его встречает
на аэродроме прекрасная дама, а он ей:
-- Знаете, я уж много лет как испражняюсь абсолютно белым калом. Ну,
дама, естественно, от смеха не знает куда деваться. Повела его на
чердак, где собирались особенные люди. Приезжий им: "Слыхали про
старика-то? Помер вроде бы".
Те -- в хохот. Чуть не попадали, слезами коленки поливают. Наконец один
чуть успокоился, встает и отвечает:
-- Да что вы, достопочтенный! Старик так пригрелся, такое местечко себе
отыскал, что всех нас переживет.
Купол
Ляжешь, бывало, сверху на купол из толстого прозрачного стекла, лежишь
себе, распластавшись, и смотришь вниз. Под куполом, далеко внизу, чего
только нет -- разные страны, моря, процессии, пляжи, леса с вертолетами,
всякие яства на блюдах разложены, девушки танцуют в обнимку с животными,
ездят стеклянные поезда и прочее. Любуешься на все это великолепие, а сбоку
доносятся голоса рабочих. Значит, снова затеялись какие-то изменения, не все
еще готово.
Проговорился
Жил один средних лет. К нему приходят, рассаживаются, он их угощает
чаем -- все как положено. Наконец один из гостей говорит:
-- Отчего бы и вам не навестить нас? А тот в ответ:
-- Я в гости не хожу.
-- Почему? -- Все заинтересовались. А тот вдруг:
-- Потому что я в этом мире не гость, а хозяин.
И сам же -- хохотать. Стыдно, конечно, что проговорился, а все же
потеха.
Любезный язык
Один язык, живя во рту у человека, все не мог толком разглядеть внешний
мир. То ли человек был немногословен и не зевака, но язык все никак не
удовлетворит свое любопытство. Чуть откроется его пещера -- какая-нибудь
еда, пирожок там или горсть риса, а то и дымящаяся картофелина застит вид.
Вдруг открывается рот, а в него кто-то строго заглядывает, да еще светит
фонариком.
-- Проверка! -- испугался язык.
На самом-то деле это был зубной врач. Сразу вслед за светом и взглядом
влезает что-то жужжащее, железное, потом и другие агрегаты: явно
проводят технические работы и что-то собираются менять. И точно -- один
зуб из наиболее неказистых увезли куда-то, а на его месте установили новый
-- золотой, сверкающий.
Когда закончилась работа, язык, надеясь на то, что появился новый
собеседник, кланяется золотому: "Добро пожаловать к нам, очень вашему
прибытию рады".
А золотой ему с достоинством отвечает: "Спасибо, вы очень любезны".
Холод и вещи
Животные и люди, насекомые и птицы -- все страдают от холода. А вещи --
непонятно. Холод к ним и так и эдак, а те только скрипнут иногда, а
вообще-то кажется, что им почти все равно.
Человек наслаждения
Существовал человек, которому все -- ну совершенно все -- доставляло
дикое безудержное наслаждение. Уже самое зачатие ему пришлось по душе. И
формирование в материнской утробе развлекало неимоверно. И родился он с
криком наслаждения. И все ощущения -- даже те, от которых прочие морщатся,
-- он любил, как родных. Что бы ни происходило -- этот извивается от
удовольствия. Стоит ли говорить, что и собственная смерть ему необычайно
понравилась. А уж после смерти -- столько наслаждений, что даже жизнь
позабыл. Правда, воспоминания ему тоже нравились. Вечность ему показалась
сладкой как варенье и отнюдь не скучной, отсутствие времени -- не менее
забавным, чем время. В общем, так он и пребывает каким-то образом, не
подозревая о неприятностях.
Эпилог
Прошло семь лет. Мария Никитишна теперь живет в большом, солнечном доме
Дмитрия Иваныча. Они вот уже три года как живут вместе. Их свадьба
состоялась в церкви святого Василия, светило солнце, пахло мимозами и медом.
Старенький священник отец Иннокентий помахивал ароматным кадилом. Каждое
утро Марья Никитишна выходит из своего дома, берет легкую плетеную корзинку,
не торопясь идет по направлению к лесу. Она проходит мимо цветущей живой
изгороди, за которой простирается знакомый нам сад Сухарева. Этот сад
преобразился. Где сорная трава, бурьян, лопухи, разросшаяся крапива? Где все
это? Сад теперь в образцовом порядке. Над грядками склоняется сухая,
загорелая спина старика Емельяныча.
-- Доброе утро, Емельяныч! -- кричит Марья Никитишна.
Емельяныч медленно выпрямляется, кряхтит, оттирает вспотевшее лицо
платком: "Пошли Бог здоровьичка, Марья Никитишна!" -- отвечает он.
Да, с прошлым Емельяныча покончено. Он давно уже устроился работать у
Сухаревых садовником, ухаживает за огородом, к обеду и ужину он поставляет
Сухаревым свежие овощи, первосортную морковь, капусту и даже цветы. Цветы
нужны Сухареву, чтобы дарить их Екатерине Львовне Бобровской. Он приезжает к
Екатерине Львовне каждый день, он собирается посвататься к ней, но все не
решается. Все это так и тянется, хотя всем знакомым известно, что Екатерина
Львовна, конечно, согласилась бы на это предложение. "Это была бы прекрасная
пара!" -- говорят все знакомые и друзья, представляя себе Сухарева и
Екатерину Львовну.
Марья Никитишна идет дальше, дорожка становится все тенистей,
сыроватость проступает на земле, кое-где показываются лужи, над которыми
кружатся прозрачные стайки комаров. Заросли одуванчиков, заросли больших
старообразных листьев лопуха покрывают окружающее поле. Вот уж и лес
показался.
Марья Никитишна входит в сень высоких, поскрипывающих стволов, ее
внимательный взгляд скользит по земле, отбрасывая все ненужное -- мелкую
пожухшую хвою, качающиеся папоротники, пробежавшую лесную палевую мышку,
камешки, случайные соринки. Все это не интересует Марью Никитишну, но ее
меткий пристальный взор замечает -- там, там, у овражка! -- притаившуюся,
поблескивающую, чуть маслянистую шляпку гриба. Она наклоняется, аккуратным
ножичком срезает гриб, сперва расчистив кончиками пальцев его от разных
свалившихся щепочек, сучочков, обветшавших листиков. Она отрезает этот гриб,
бросает его в корзинку, на подстеленную газету. А вот и еще, и еще грибы!
Она срезает их друг за другом -- большие, плотные, свежие, нетронутые
червем. Плоды чащ, таинственные плоды. Марья Никитишна не думает о том,
сколько загадочного таят они в себе. Она не думает о том, откуда они
появились, такие странные, странные существа -- полуживотные, полурастения,
полугномы, полукамни, полумох, полулишайник. Они на протяжении веков ставили
в тупик человеческую мысль, они овевали ее туманом загадочности. Но Марья
Никитишна не думает об этом, она думает о том, что она сделает Дмитрию
Иванычу ароматный грибной суп, с кусочками разваренной картошечки, с
перловой крупой. Он любит грибной суп. В солнечной столовой она подаст ему
дымящуюся тарелку. Он повяжет хрустящую, белую салфетку. На белоснежной
скатерти поставлена легкая, плетеная корзиночка с мягчайшим белым хлебом;
серебряные приборы отражают яркие полуденные лучи, пробивающиеся сквозь
зеленые заросли сада, пробивающиеся в высокие окна с редким переплетом.
-- Какой супец сегодня! -- восклицает Дмитрий Иваныч. -- Машенька,
супчик какой! Голубушка ты моя! -- Он радостно потирает руки. Вынимает
подарок для своей жены, маленькую квадратную коричневую коробочку, изнутри
выложенную бархатом, вынимает оттуда золотое колечко с изумрудом.
-- Вот, Машенька. Это так... купил в городе. Извини, если тебе не
понравится.
-- Ну как же не понравится! Что ты! Какая прелесть! -- Марья Никитишна
раскраснеется от удовольствия, и оба будут есть грибной суп, закусывая
мягким белым хлебом.
А теперь грибы, ловко срезаемые, сыплются на газету, постеленную внутри
корзинки, на эту мятую, уже чуть пожелтевшую газету. Вот уже неделя прошла,
как эту газету купил в киоске Дмитрий Иваныч, принес домой. Там в основном
интересовала его телевизионная программа -- он любит вечером посмотреть
телевизор. "Все равно, -- говорит он, -- вечером уже не поработаешь. Вечером
человек уже устал, вечером человек уже не тот". И он сидит в мягком кресле,
смотрит телевизор, гладит кошку, притаившуюся клубочком у него на коленях.
Потихоньку он засыпает. Все же Дмитрий Иваныч уже не молод, хотя и бодр, и
полон сил.
Да, плоды тенистых чащ, сыроватые, плотные, тяжеловатые, падают и
падают на дно корзинки, на газету. Вот уже почти и не видно этой помятой,
старой газеты, и не видно на ней небольшого, заключенного в черную рамочку,
некролога. Такого-то числа, солнечного месяца апреля, скончался Александр
Прокофьевич Мальцев. Да, Марья Никитишна не прочла этого некролога, не
заметила его, а если бы прочла она, если бы только прочла, то, может быть,
слезы показались бы на ее глазах, она вспомнила бы Александра Прокофьевича,
которого она знала так давно, с юности, который, бывало, приходил к ним в
гости, когда они еще жили под Загорском. Летом он приходил по дорожке, в
белоснежном костюме, высокий, слегка сутулящийся, с большой белой головой,
светловолосый. Он улыбался белозубой улыбкой, веснушчатое его скромное лицо
озарялось радостью при виде Марьи Никитишны. Марья Никитишна встречала его
приветливо. Родители Марьи Никитишны, которые тогда еще были живы,
приветствовали Александра Прокофьевича, сидя в плетеных креслах на веранде.
Да что говорить, читатель нашего романа хорошо познакомился с Александром
Прокофьевичем, и, может быть, он окажется более жалостлив, чем Марья
Никитишна, и прольет несколько слез по поводу его трагической смерти.
Александр Прокофьевич покончил с собой вскоре после того, как
обнаружился обман Коростылева. Это было серым, теплым, влажным днем.
Александр Прокофьевич возвращался с работы, он чувствовал себя совершенно
одиноким, никому не нужным, потерянным и больным человеком. Он сильно
постарел за несколько последних лет, стал лысеть, чувствовал себя очень
плохо, и в мире уже не оставалось для него ничего радостного, ничего, что бы
удерживало его в этой жизни. Поскольку Александр Прокофьевич был инженером,
то он тщательно продумал свое самоубийство. На протяжении четырех дней он
выходил после работы, садился на лавочке в сквере и думал. После того как он
принял свое решение, какое-то тихое, туманное спокойствие окутало его
сердце, мучительная и тупая боль, которая грызла его душу все последнее
время, покинула его. Он спокойно смотрел на колышущуюся листву деревьев, на
зацветающие кусты, на играющих детей, на воробьев и голубей. Он смотрел на
все это отстраненным взглядом своих голубых глаз. Когда кто-нибудь спрашивал
его "Сколько время?" или "Как пройти к автобусной остановке?", он отвечал со
своей обычной вежливой и немного застенчивой улыбкой, потирал лоб --
высокий, лысеющий лоб мыслящего, интеллигентного человека -- и продолжал
думать. В его голове роились и перемежались различные версии собственной
смерти. Наконец, он, прочтя предварительно несколько медицинских и
фармацевтических справочников, решил принять лекарство. Каким-то образом он
достал это лекарство и принял его, и умер весьма немучительной и незаметной
смертью. Вместо предсмертной записки он оставил бумажку, на которой было
написано такое как бы стихотворение, видимо; хотя Александр Прокофьевич и
раньше писал стихи, в юности, например, он довольно много стихов написал и
посвящал их Марье Никитишне, например, но это было стихотворение совсем не
похожее на обычные стихи Александра Прокофьевича. Вот как оно звучало:
Я как-то вырос из могилы,
Как елочка новогодняя.
Всегда, зимой и летом, свежая,
И шарики стеклянные
На веточках блестели.
И дети украшали меня,
И зайчик пробегал,
И день, и ночь сменялись.
Но вот пришло время:
Старик Морозов с топором,
Холодный, словно туча,
Приблизился по снегу, и следы
Как будто длинной строчкой пробежались,
Последней строчкой,
Последней строчкою моих
Последней строчкой мыслей
И чувств моих
Далеко пробежались.
И холодом пахнуло на меня.
Я был один в сиянье солнечного дня.
Хрустели иглы,
Бог смотрел в окно,
Зажмурился,
Ударился топор.
И я обратно
В ласковую тень,
Обратно
В теплую могилу
Ухожу.
Ваш Саша
Вот что было написано на этом обычном листочке, выдернутом из тетрадки.
Да, такая вот легкая смерть вследствие этого лекарства, это было, если так
можно сказать в этом случае, если это не кощунство, так сказать,
единственное удачное предприятие Александра Прокофьевича. Потому что в
жизни, к сожалению, этот хороший, честный человек, человек доброго сердца и
не лишенный способностей, был сопутствуем несчастьями. Все было как-то
неудачно, все как-то блекло, все как-то не получалось, его почему-то никто
не любил, все как-то плохо складывалось. Он, например, влюбился в Марью
Никитишну, но без взаимности. Потом он женился... Но история его женитьбы
известна нашему читателю. После того как его дочь Зоя утонула в Черном море,
он вообще стал терять нить своей жизни.
Вскрывшийся обман Коростылева только подтвердил его намерения, только
укрепил его в уже нараставшем в его сознании убеждении, что ему надо
покончить счеты с жизнью. Так он и поступил.
А что же Коростылев? -- спросит наш читатель. -- Как сложилась его
судьба? Что стало с этим противоречивым человеком, совмещавшим в себе черты
гнусного и странного подлеца с прямодушием, веселостью, остроумием и
излучающимся из него радужным обаянием, которое покорялс почти всех?
Да что Коростылев, он живет по-прежнему. Он развелся со своей четвертой
женой, теперь он свободен от ее опеки, от ее бесконечных капризов и
притязаний, он купил светлый бежевый костюм, летний. На лето он уезжает в
Крым или в Палангу. Он любит посещать рестораны, он загорелый, высокий,
тучный, красивый и уже немолодой человек. Недавно он приобрел первые очки в
тонкой, золотой оправе -- потому что дает себя знать возрастная
дальнозоркость. О смерти Александра Прокофьевича он еще ничего не знает. Как
мы уже сказали, это произошло только неделю с небольшим тому назад.
Коростылев сейчас находится в отпуске, в Крыму. Коростылев сейчас лежит на
пляже, загорает, слушает поскрипывание песка, мурлыканье моря, свист
воздуха, какие-то сонные, замирающие разговоры, какое-то листание, шелест,
подпрыгивание резинового мячика. Он смежил веки, за веками у него горячий,
розовый, расплывающийся туманчик. Он лежит на деревянном лежаке и думает:
"Ничего нет. Как хорошо. Нету ничего и -- в то же время есть все. И все
присутствует в этом мире всегда, никуда не исчезает, никогда не исчезает, и
я, и ты, и мы с тобой, никуда не исчезнем. Ты, они, я, он, она -- вместе
целая страна... -- начинает напевать он про себя советскую песню, машинально
погружаясь в медитативный покой своей души, -- ...вместе целая страна,
вместе целая земля, вместе целая коробочка с дешевенькими драгоценностями,
как у Ольги Ефимовны Горемыкиной..."
Ольгу Ефимовну Горемыкину наш читатель еще не знает. И не узнает,
потому что ничего особенного в ней нет. Это такая молодая барышня, дочь
писателя Горемыкина, за которой теперь ухаживает Коростылев. Его мысли
недолго задерживаются на Ольге Ефимовне, они уплывают, как летние облака в
знойном небе, они куда-то текут... Он думает: "Бессмертный этнос баюкает нас
в себе, как новопроявленное бытие непроявленного Абсолюта". В этой фразе,
если не считать слова "баюкает", его сознание уже совершенно не участвует.
Все остальные слова он, сам того не зная, телепатическим способом
заимствовал из мысленного потока лежащего на соседнем лежаке человека. Мысли
промелькивают, промелькивают в сознании Коростылева, исчезают, он их не
останавливает. Не замечает даже собственных мыслей. А вечером он идет в
ресторан, с двумя барышнями, с каким-то малознакомым пожилым летчиком. Они
сидят, смотрят на море, по которому пролегла лунная дорожка, пьют винцо --
посредственное, молдавское, едят какую-то еду. Коростылев чешет шею под
воротничком летней рубашки. Он теперь думает о своей работе, поскольку он и
здесь работает -- он очень работящий, пишет статью для журнала. Но он умеет
и работать и отдыхать, он умеет отключаться от работы и включаться в нее.
Как это ни странно, никто бы этого не сказал, но Коростылев внутренне очень
дисциплинированный человек. Хотя выглядит он этаким бонвиваном, каким-то
пожилым донжуаном, каким-то пустомелей, прожигателем жизни, таким сонным,
толстым, ветшающим гурманом, таким каким-то колобком он выглядит -- большим,
элегантным... Да. Но вот о смерти Мальцева Александра Прокофьевича он еще
ничего не знает. И как-то он воспримет это известие, когда вернется в
Москву? Может быть, угрызения совести прогрызут его душу медленно и
постепенно, прогрызут длинные темные извилины в его спокойной доселе душе,
как в сочном полновесном яблоке, прогрызут темные коридорчики и сгрызут это
яблоко.
Даже жалко. И, может быть, под влиянием этих угрызений совести взойдут
и распустятся ростки психопатии. И тогда он окончит свои дни в больнице,
отрешенный и вялый, с рассеянной улыбкой на устах, которая чем-то, может
быть, и напоминала бы его прежнюю, неотразимо обаятельную и откровенную
усмешку, если бы не была так далека от всего земного.
Впрочем, и сейчас в этой улыбке уже есть что-то странное, что-то
несуетное и летаргическое, не соответствующее всему облику Коростылева,
иначе почему к нему так настороженно, прищурившись, присматривается пожилой
летчик. Кстати, это Глебов. Да, да, это он. Теперь служит в гражданской
авиации. Войну он вспоминает все реже и реже, и последнее время ему порой
кажется каким-то сном или увиденным кинофильмом вся его молодость, и
партизанский отряд Яснова, и грохот пущенного под откос секретного поезда, и
разговоры с эсэсовцем Кранахом. Ночью он еще порою вздрагивает, ему кажется,
что по лицу остро хлестнула мокрая ветка, что надо на скаку выхватить
пистолет, и жилистая рука тянется к бедру в поисках кобуры, но нащупывает
только мягкую ткань кальсон, смятое одеяло, толстую ногу спящей жены. Если
бы он мог догадаться, что и Ко-ростылев в былые времена знал Яснова и
Ельниченко, да еще как знал... Но Глебов и не подозревает об этом.
Мария Никитишна тем временем возвращается домой с полной корзинкой.
-- Алеша, иди чистить грибы! -- зовет она.
Откуда-то, из длинных и прохладных коридоров дома, выбегает маленький
мальчик в коротких штанишках. Это Алеша Яснов, -- нашему читателю нетрудно
будет понять, что после гибели Дины и Якова в авиационной катастрофе Анна
Никитишна и Дмитрий Иваныч усыновили мальчонку, и он вырос у них. Дмитрий
Иваныч часто рассказывает Алеше про деда, про суровые времена своей
молодости. Над обеденным столом в их доме висит пожелтевшая от времени
фотография -- стволы сосен, присевшие на корточки бойцы, и в середине,
наполовину освещенный солнцем, с дымящимся "бычком" в искривленном уголке
плотно сжатого рта, с пристальным взглядом прозрачных глаз -- Ефрем Яснов. А
на ладони у него, застывшей на уровне груди, -- маленькая, белая мышка. Да,
это та самая фотография, сделанная Бобровским. Любительский снимок, немного
мутный, как будто посыпанный пеплом лет, как будто расплывшийся от пота и
слез, заключенный в облупленную темно-коричневую рамочку.
Вечер. В больших окнах дома потемнело небо над садом. Высыпали робкие
звезды.
Дмитрий Иваныч и Марья Никитишна, усталые за день, сидят в мягких
вольтеровских креслах, положив расслабленные руки на подлокотники, и смотрят
телевизор. Они смотрят американский фильм, где мчатся зеркальные автомобили,
звучат выстрелы, разбиваются стекла. Дмитрий Иваныч спокойно помаргивает за
стеклами очков. Его уже клонит в сон. Мягкая дремота медленно охватывает
его, все дальше и дальше ожесточенные и умоляющие голоса, все безразличнее и
игрушечнее падающие тела убитых. Как игрушки, они падают, падают... Как
осенние листья. Но вот фильм кончился. Марья Никитишна встает со своего
места, ей надо уложить спать ребенка. Опять он засиделся с книжкой. Дмитрий
Иваныч остается посмотреть выпуск новостей. Показывают заседание боннского
бундестага. Крупным планом виднеется лицо федерального канцлера, его губы,
произносящие что-то. Затем камера скользит по лицам слушающих. Внезапно
Дмитрий Иваныч вздрагивает -- прямо на него смотрит с экрана мучительно и
беспредельно знакомый образ: мешочки под глазами, очки, поседевшие виски,
тонкий аристократический нос...
-- Маша! -- Дмитрий Иваныч соскальзывает с кресла на пол, подползает
вплотную к телевизору. -- Маша! Кранах! Маша, иди сюда! Кранаха показывают!
Испуганная Марья Никитишна вбегает в комнату с ребенком на руках.
Дмитрий Иваныч оборачивает к ним свое побелевшее лицо, указывает пальцем на
экран: "Леха... -- шепчет он, -- Леха... это он... он убил твоего деда!"
Мальчик с любопытством вглядывается в телевизор. "Гриб?" --
переспрашивает он.
"Что?! -- голос Дмитрия Иваныча срывается. -- Какой, ебтя, гриб?!"
Однако, обернувшись, он видит, что знакомое лицо на экране исчезло и его
палец упирается в изображение гриба.
-- Фу ты, испугал прямо... -- смеется Марья Никитишна. -- Иди спать,
Алеша. И не забудь помолиться на ночь. А то страшные сны приснятся.
-- Мне и так снятся, -- говорит Алеша.
Успокоившийся Дмитрий Иваныч треплет его по светлым волосам: "Снов,
Леха, бояться не надо. Они, брат, как и жизнь, кончаются... пробуждением.
Понял? Вот так. А теперь беги".
Он снимает со стены гитару, задумчиво трогает струны, не в силах
справиться с хлынувшим потоком воспоминаний, вызванных увиденным внезапно
лицом. Он думает обо всех умерших и о тех, кому предстоит умереть, он видит
их, облеченных как бы в одно огромное снежно-белое тело -- оно лежит, с
улыбкой на устах, с закрытыми глазами, и, обращаясь к этому телу, а может
быть, к погибшему командиру Яснову или к убившему себя Мальцеву, или к
внимательному Кранаху, или к самому себе, или к маленькому Алеше, он шепчет:
"... Можешь спать спокойно
И видеть сны
И зеленеть Среди весны..."
1987
Популярность: 1, Last-modified: Sun, 09 Nov 2008 17:14:18 GmT
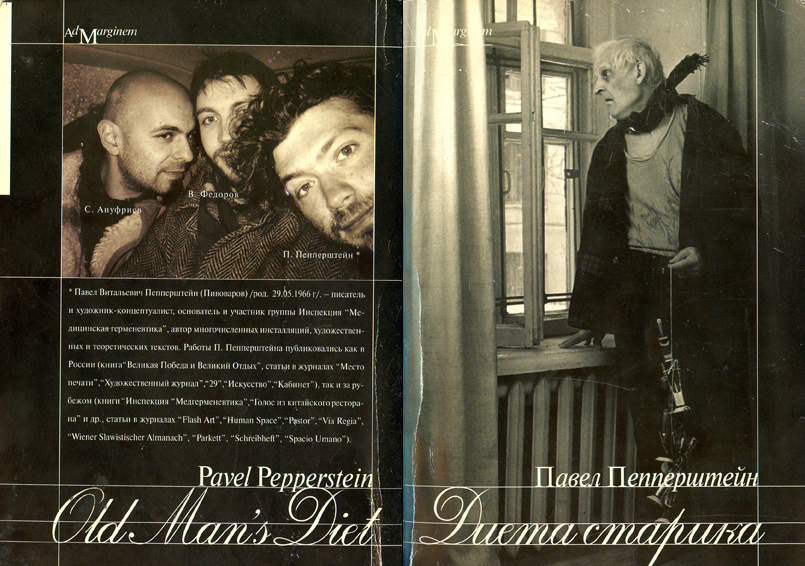 Содержание
Михаил Рыклин
Триумф детриумфатора 2
I. Кумирня мертвеца 23
II. Холод и вещи
Пассо и детриумфация 67
Знак 77
История потерянного зеркальца 91
История потерянного крестика 108
История потерянной куклы 126
Лед в снегу 133
III. Еда
Около молока 150
Супы 158
Яйцо 161
Горячее 192
Грибы 196
Ватрушечка 204
Кекс 212
Бублик 217
Колобок 224
Каша с медом, лед с медом, холодец 267
IV. Мой путь к Белоснежному дому
День рождения Гитлера 286
Мой путь к Белоснежному дому 289
Бинокль и Монокль I 294
Комментарий 312
Бинокль и Монокль II 318
Инструкция по пользованию Биноклем и Моноклем 339
Предатель Ада 340
Философствующая группа и музей философии 357
Голос из китайского ресторана 364
Эпилог 372
Михаил Рыклин
Триумф детриумфатора
Линия и буква
В свой тридцать один год Павел Пепперштейн не просто писатель со
стажем. Я вообще не знаю, когда он начал писать. Первый из публикуемых здесь
текстов был написан еще при жизни Брежнева (в 1982 году), в эпоху, которая и
людям постарше теперь представляется почти мифологической. И хотя автору
было тогда всего шестнадцать, он утверждает, что это далеко не первый из
написанных им рассказов. Паша -- случай в истории литературы довольно редкий
-- приходит к нам со своим письмом прямо из детства. Такое невообразимо
раннее начало составляет часть его литературного проекта. Автор "Диеты
старика" решил, что вместо того, чтобы, подобно Набокову и Прусту, постоянно
обретать утраченное детство, вступая в сложные игры с Мнемозиной, лучше
вообще из него не выходить, оставаться в нем. Это можно расшифровать и так:
постоянно созревать внутри собственного детства, давать взрослеть эйдосу
детства, не расставаться с игрушками и тогда, когда рисуешь, пишешь, делаешь
инсталляцию или создаешь "тексты дискурса" (так Паша называет свои более
поздние теоретические вещи). Конечно, подобной эйдетизации поддается не
всякое детство, но такое, которое содержало в себе возможность практически
бесконечного опосредования -- и притом еще ребенок должен суметь
воспользоваться стечением обстоятельств. Уникальность случая Паши в том, что
оба эти условия совпали. Он был ребенком внутри очень важной отрасли
советского книжного производства, иллюстрирования и написания детских книг.
Мифология детства создавалась В.Пивоваровым, И. Пивоваровой (родителями П.
Пепперштейна), И.Кабаковым, Э.Булатовым, Г. Сапгиром и другими членами
концептуального крута одновременно с критической рефлексией по поводу
возможностей такой мифологии, ее законов, степени вмешательства идеологии и
т.д. Как русская литература вышла из гоголевской "Шинели", так московский
концептуализм во многом вышел из иллюстрирования детских книжек. Павел
Пепперштейн рос, можно сказать, в эпицентре этого процесса, вещи приходили к
нему вместе со своими эйдосами. Экспериментальность его детства -- в том,
что оно располагалось внутри "индустрии детства", было многократно
опосредовано; в результате непосредственно воспринимался сам акт
иллюстрирования. Ближайшим эквилентом такого детства является не состояние
взрослости, когда принцип реальности, прикрываясь щитом ответственности,
доминирует в той или иной форме , а некая былинная старость, по сравнению с
которой столетний юбилей -- это просто детская шалость. Старик в "Диете
старика" не только не отучился лепетать, но изрядно усовершенствовал это
умение и ценой длительного упражнения в лепете обрел право говорить вещи,
которые конвенция строго-настрого запрещает произносить взрослому (зрелому)
человеку. Впрочем, для прямого выпадания из детства в баснословную старость
необходимо соблюсти одно условие: жизнь в таком случае должна с самого
начала быть перемешанной со смертью, которая не имеет возраста и поэтому
может произвольно украшать себя атрибутами детскости и стариковства.
Ребенок, упорно сопротивляющийся выпадению из поддающегося опосредованию
детства, -- тот же древний старик, отказывающийся принимать пищу и тем самым
продолжающий стареть без конца. Иначе и быть не может: ведь то, что обычно
следует за детством, здесь
a priori объявляется достоянием самого детства (становящегося как бы
метадетством). Если из обычного детства выпадают во взрослость, из
метадетства не выпадают вообще: старость является точно таким же его
атрибутом, как и младенчество. Героем рассказа "Кумирня мертвеца",
открывающего книгу, является старичок, сидящий рядом с собакой по имени Рой,
точной стеклянной копией умершей собаки. Из реплик персонажей мы понимаем,
что старичок давно умер. Да и те, кто говорят о нем, сами зависли между
жизнью и смертью (куда ближе к смерти) и не умирают разве что потому, что на
них смотрит стеклянная собака, единственный "живой" герой рассказа. Своей
стеклянностью эта собака оживляет все остальное (в тексте есть намек, что он
написан скульптором, создавшим собаку). Сумей она закрыть глаза -- и все
исчезнет, потому что повествования Пепперштейна длятся благодаря мертвому
взгляду. В рассказе "История потерянного зеркальца" героем является
небольшое зеркало с изображением Кремля, которое переходит от девочки к
симпатичному матерому бандиту, знакомится с его пистолетом, оказывается
косвенной причиной его осуждения и смерти, попадает к другой девочке, дочери
раскрывшего преступление следователя, после чего возвращается к своей
первоначальной обладательнице, чтобы среди прочего запечатлеть акт ее соития
с виолончелистом по фамилии Плеве и многие другие детали. Вся проза
Пепперштейна в той или иной мере зеркальна. Даже если зеркало не становится
действующим лицом, все непрерывно отражается во всем. Невозмутимая
зеркальность позволяет избежать психологизации и так называемой "лепки
характеров", которой обычно кичатся профессиональные литераторы. Мир зримого
и мир текста в этой прозе строго разделены. Профессиональный график,
Пепперштейн, как никто другой, осознает произвольность и тщетность любого
иллюстрирования. Линию отделяет от буквы невидимая, но несводимая дистанция.
Более того, это два радикально различных смыслообразующих принципа. Зрение и
письмо значимы друг для друга в силу разделенности, которая достигает своего
апогея в тот момент, когда они, как кому-то может пригрезиться, совпадают,
исчезают друг в друге. Пожалуй, только тексты профессионального рисовальщика
могут с такой неизменной настойчивостью демонстрировать то, чем литературное
зрение отличается от простого умения видеть и является по отношению к этому
умению разновидностью самопросветляющейся слепоты. Эта невидимая
демаркационная линия непрерывно воспроизводится актами "пустотного
иллюстрирования", иначе говоря, демонстрацией простой интенции что-то
прояснить в тексте с помощью рисунка (и, конечно, наоборот). На аутизм
обречен, собственно, не рисунок, а само стремление перекодировать линию в
букву.
В текстах Пепперштейна присутствует воля не делать литературу
профессией. В этом она асимметрична рисованию. Акт рисования график
превращает в средство обмена с миром, обеспечивающее ему условия
существования. Даже не работая на заказ, он внутренне принимает в себя
взгляд Другого (на профанном языке это также называется "учитывать чужой
вкус", воспроизводить предполагаемый вектор желания). Зато в качестве
пишущего он берет реванш, отказываясь вступать в обмен. Он не вступает с
читателем в компромисс, не подстраивается под него, вынуждая его пройти весь
путь, который преодолел автор. Для читателя такая установка крайне
непривычна: ведь на бессознательном подстраивании под него и строится
литературный успех в обычном понимании слова. Писатель принимается
аудиторией с энтузиазмом потому, что до этого он с не меньшим, хотя и
стыдливо скрываемым энтузиазмом принял эту самую аудиторию в себя. В
домогающейся успеха литературе всегда уже учтен ее читатель, и она
ограничивается тем, что просто "разрабатывает" его. Только небескорыстное
простодушие журналистов заставляет их усматривать в этой встрече некий coup
de foudre, что-то неожиданное и непредсказуемое. Пепперштейн -- редкий
писатель, который действительно не знает и даже не хочет знать, каким будет
его читатель. Со стороны он вполне может сойти за Нарцисса, тем более, что
его нарраторы, как правило, не скрывают своего нарциссизма, при виде
читателя в ужасе закрывая лицо руками. Но эти тексты не нарциссичны, если
понимать под нарциссизмом любование самим собой. Это через них, напротив,
постоянно любуются чем-то совершенно иным, калейдоскопическим струением
внешнего. Автор все время хочет разглядеть, прописать нечто настолько
мелкое, что оно может представлять разве что интеллектуальный интерес.
Принимая сторону детали, он незаметно принимает в себя смерть. Местами его
письмо является уже загробным, вестью с того света. Литература для
Пепперштейна -- это мир возможного, которое, впрочем, не следует путать с
потенциальным, с тем, чему еще только предстоит реализовать себя. Напротив,
лишь возможное, не нуждаясь в воплощении, принадлежит к сфере актуального
постоянно. Герой рассказа "Предатель Ада" изобретает оружие, позволяющее
превращать смерть в перманентное, интенсивное наслаждение, делая ее
желательной и желанной. Тем самым он, подумают некоторые, выбирает сторону
Рая. Но смерти, увы! боятся как раз потому, что она несет с собой чудовищное
по интенсивности наслаждение, граничащее с ужасом и уже не нуждающееся для
самореализации в фигуре личности. Ведь только факт воплощения ограничивает
ужас его известными формами и вообще делает известное известным: за
пределами воплощения -- почему, собственно, развоплощение, несмотря на
местами хитроумные религиозные утешения, так пугает -- не возможно, а
(намеренно не извиняюсь за этот невольный каламбур) необходимо Бог знает
что. В рассказе "Грибы", где дистанция между нарратором и автором резко
сокращается, герой всеми силами пытается стряхнуть с себя галлюциноз, в
отчаянии называя его "первобытным мозгоебством". Зачем? Потому что в его
интенсивном состоянии, "на плато", максимум наслаждения обречен совпасть с
максимумом страдания, на какое-то время делая избыточной, если не излишней
саму форму личности, включая ее аффективный пласт. Плыть в таком состоянии
на автопилоте значит стать простой фигурой бреда. Счастливо избегнув крайне
дискомфортного состояния, герой "Грибов" через несколько часов
вознаграждается целым пучком удачно сцепившихся аффектов, завершающимся
сбором мухоморов (древнейших галлюциногенов).
Теперь, возможно, станет яснее парадокс, связанный с изобретением
"предателя Ада", Койна. Он изобретает невозможное: бесконечно интенсифицируя
связанное со смертью наслаждение, его оружие (о чем ученый умалчивает или,
будучи фигурой сна, не догадывается) претендует заморозить в каком-то
невидимом холодильнике страдание, как если бы это были два разных процесса.
Паша находит из этого тупика оригинальный многоступенчатый выход: во-первых,
изобретение совершается во сне героя рассказа, почти совпадающего с автором,
во-вторых, это происходит во вполне определенном сне. Он приснился потому,
что герой-автор бессознательно хотел заработать много денег, продав свой
сновидческий сценарий Голливуду, "...мною руководило смутное чувство, что
этот несуществующий фильм и эта запись когда-нибудь принесут мне деньги. Это
беспочвенное предчувствие возникло у меня уже во время "просмотра", и оно до
сих пор меня не покинуло". А так как Голливуду можно продать нечто
"массово-развлекательное", сон вполне естественно совершает непредставимое
-- интенсифицирует наслаждение, купируя боль. По сути дела, "предателем Ада"
оказывается не герой сна, а сам сон, взыскующий голливудского Рая. Хорошо
было бы увидеть еще один, симметричный данному, сон, в котором наслаждению
без боли соответствовала бы боль без наслаждения, изобретенная каким-нибудь
угрюмым диктатором в лесах Камбоджи или Туруханского края. Наградой за такой
сон могло бы быть резкое обнищание сновидца.
Если внимательно следить за хронологическим порядком текстов, можно
заметить, что для того, чтобы поддержать акции возможных миров на достаточно
высоком уровне, автору все чаще приходится: а) заставлять своих героев
прибегать к галлюциногенным препаратам и б) под видом комментария создавать
настоящие философские диссертации. Здесь он хорошо вписывается в новейшие
тенденции интеллектуальной русской прозы, которая растворяет уже
растворенный политиками принцип реальности в Реальном (фактически понимаемом
как желание Другого). Специфическая "кислотность" становится условием
письма, стремящегося за пределы социальности, на которую, впрочем, и без
того нельзя опереться, настолько рыхлой является ее ткань.- Другими словами,
препарат довершает дереализацию мира, который и сам несет на себе черты
откровенной бредовости, развиваясь по сценарию компенсированного психоза'.
Убегая от мира, бессильно претендующего воплощать в себе принцип реальности,
герой на самом деле лишь перебегает из одного бреда в другой, скорее всего
даже менее тяжелый. Эта стратегия по-разному преломляется в
"Dostoevsky-trip" В. Сорокина, "Чапаеве и Пустоте" В.Пелевина и "Бинокле и
Монокле" Пепперштейна (написанном при участии С.Ануфриева). Герой этого
текста, фон Кранах, которому пастельные тона Ренуара милее темных фонов его
однофамильца Кранаха и которому СС поручает борьбу с партизанами, пытается
узнать истину о партизанском отряде некого Яснова (Паша расшифровывает эту
фамилию как "Я-снов", но стоит подумать и над такими вариантами: "Я-снова"
-- постоянное возвращение "я" после кислотного растворения -- и "Я-с-новым"
-- возвращение этого "я" всегда новым, но при этом сохраняющим иллюзию
собственной идентичности). Пленный врач отряда Яснова, Коконов (аллюзия
более чем понятная), соглашается "рассказать все" при одном условии: если он
вколет себе и Кранаху некий препарат, кажется, первитин. Немецкий романтик
идет на это и под действием препарата узнает многое об отряде и его
командире, но "истина" оказывается настолько яркой, что он не может ее
записать. Более того, сам критерий отделения фикции от не-фикции пропадает.
"Я" Кранаха оказывается "я-снов", которое под видом партизанского командира
искало самого себя. Проблема "я-снов" в том, что оно не может стать
"я-снова": входя в сны, оно утрачивает и одновременно обретает себя.
Исчезает Кранах, носивший монокль, любивший картины Ренуара, липовый отвар и
"Войну и мир", и явственно проступает черный фон Кранаха, графическая
изнанка его пристрастий. В сны фон Кранаха вселяется некое существо (из
комментария следует, что это Дунаев -- главный герой медгерменевтического
романа "Мифогенная любовь каст") -- или, что более вероятно, сам фон Кранах
становится частью снов этого существа -- которое в дидактических целях,
чтобы отучить его от монокулярного зрения, наносит ему удар биноклем.
Впрочем, бинокулярное зрение рискует оказаться фатальным для немца: его
шансы стать "Я-с-новым", несмотря на данное ему берлинским начальством
разрешение на отдых в Альпах, невелики; отпуск вряд ли поможет ему
"отремонтировать" поврежденное "я".
Тексты Пепперштейна псевдонарративны, в них присутствует своеобразная
воля к незавершенности. Автор не подмигивает читателю из своей ниши, намекая
на то, чтобы они-де уже прошли вместе изрядный отрезок пути и скоро
благополучно придут к финишу. Пепперштейн заменяет креативную установку,
свойственную большинству пишущих, рекреативной: он превращает письмо в
отдых, соглашаясь принять его как поражение (не случайно сборник его стихов
называется: "Великое поражение и великий отдых"). Отсутствие сговора с
читателем заставляет предположить в авторе "Диеты старика" любителя (если
относить этот термин не к качеству литературы, а к установке литератора);
зато от его читателя требуется профессионализм. Паша легко переходит с прозы
на стихи, которые иногда походят на поэмы и занимают десятки страниц,
переходя в теоретические комментарии. Местами эти стихи воспринимаются как
водные преграды, преодоление которых требует обладания подводными крыльями;
в противном случае читатель рискует сразу пойти на дно. Единство книге
придают не нарративные тексты, а комментарии, написанные в основном в
последние годы. Эти "тексты дискурса" категорически не рекомендуется
пропускать: именно в них сконцентрированы самые неожиданные
интерпретационные возможности. Иногда дешифровка на первый взгляд прозрачных
нарративов оказывается крайне сложной и многозначной. Интерпретация здесь --
не менее важный акт, чем написание интерпретируемого текста. В комментариях
все чаще встречаются имена Пруста, Набокова, Кафки, Борхеса, Юнга, Фрейда,
Хайдеггера, переориентирующие ранее написанные тексты на более широкое
культурное пространство, чем то, в котором московский концептуализм
функционировал первоначально. Думаю, что публикация "Диеты старика" бросает
ретроспективный свет на речевую и инсталляционную практику Медгерменевтики,
одним из основателей которой был Пепперштейн. Эти тексты также "не создают
отношений", как и медгерменевтические, через них читатель должен поставить
диагноз самому себе. С графическими же листами их роднит то, что они
подписаны именем собственным и отчасти восстанавливают фигуру авторства.
В фильме П. Гринуэя "Контракт для рисовальщика" дочь хозяйки поместья
роняет в разговоре с художником-графиком любопытное замечание: "Если вы
действительно талантливы, акт рисования полностью поглощает вас, и вы по
определению не понимаете того, что значит видеть. Если же, рисуя, вы
умудряетесь еще и следить за смыслом того, что вы делаете, вы, во-первых,
лишены настоящего таланта, а во-вторых, опасны, так как можете не только
зарисовать, но и заметить нечто вас не касающееся". Смерть рисовальщика в
конце фильма доказывает, что это противопоставление не работает: художник
запечатлел и одновременно заметил знаки смерти другого человека (хозяина
поместья), но не смог расшифровать знаков собственной смерти. Он оказался
талантливым рисовальщиком и неплохим наблюдателем: подвели его непростые
отношения со здравым смыслом, который большинство людей несправедливо
отождествляют с умом. Своим творчеством Пепперштейн стремится избежать
дилеммы, сформулированной английской аристократкой, как это делали до него
Кабаков, Пивоваров, Монастырский и другие художники-литераторы. Линия
дискурса составляет часть его рисования, а рисование, в свою очередь,
вызывает к жизни все новые и новые дискурсивные формации. При всей
интенсивности взаимодействия эти две практики не пересекаются ни в одной
точке, хотя иногда, особенно в инсталляциях, кажется, что они соприкасаются
краями. В результате этой несводимой двойственности ограничиваются как
идеосинкратичность рисования, так и безмерность притязаний слова,
характерная для всего русскоязычного региона (как в досоветское, так и в
советское время). Другое следствие этой двойной игры -- принципиальная
неполнота каждой из задействованных практик, которую автор не только не
стремится скрыть, но и всячески подчеркивает, выдвигает на первый план. Им
отрицается сама возможность органического письма, неизбежными стигматами
которого являются психологизм и эдипизация. Детская литература прежде всего
интересует Пепперштейна в кэрролловском смысле: как литература нонсенса.
Вместо проникновения в жизнь эта литература, прикрываясь дидактическим
алиби, с неменьшим упорством проникает в смерть. В отличие от ценимого
большинством психологизма, нонсенс, сообщником которого является автор
"Диеты старика", при виде жизни постоянно закрывает глаза, стремясь
превратить ее в игру световых пятен за веками. Не случайно у Пруста за
радужной игрой переходящих друг в друга ассоциаций он обнаруживает два
физиологических акта: испражнение и онанизм. С метафорой Паша борется
потому, что все, включая дефекацию и мастурбацию, является метафоричным
изначально, до всякой профессиональной "накрутки". Люди видят сны уже внутри
сна. Поэтому записанный сон неизбежно фальсифицирует сон увиденный. Иногда
между ними возникают странные несостыковки.
В "Толковании сновидений" Фрейд приводит ясный, по его мнению, сон. Это
не собственный сон его пациентки, а рассказанный ей кем-то, т.е. вдвойне
беллетризованный сон (она "слыхала его на одной из лекций о сновидении";
"его истинный источник остался мне не известен"). Отец умершего ребенка,
смертельно устав, лег спать в соседней комнате, но оставил дверь открытой,
чтобы из спальни видеть тело покойника, окруженное зажженными свечами. Около
тела сидел старик и бормотал молитвы. "После нескольких часов сна отцу
приснилось, что ребенок подходит к его постели, берет его за руку и с
упреком ему говорит: Отец, разве ты не видишь, что я горю? Отец просыпается,
замечает яркий свет в соседней комнате, спешит туда и видит, что старик
уснул, а одежда и одна рука тела покойника успели уже обгореть от упавшей на
него зажженной свечи". Анонимный лектор дал этому сну очень простое
истолкование: на лицо спящего отца из соседней комнаты падал яркий свет, и
он вызвал у него мысль, какая возникла бы у него и в бодрственном состоянии
-- в комнате упала свеча и вспыхнул пожар. Возможно, он уже перед сном
подозревал, что старик "не может добросовестно выполнить свою миссию". Для
Фрейда это истолкование, конечно, слишком просто и рационалистично. Он
опровергает его своим обычным, "мягким"(ведь он -- ученый, врач) способом, а
именно дополняя его, снабжая разъяснениями и комментариями ("Мы тоже ничего
не можем изменить в этом толковании, -- разве только добавим..."). Следуют
добавления: содержание этого сновидения "сложно детерминировано", т.е.
далеко от простой физиологической реакции на свет в соседней комнате. Тут
явно замешан порядок речи и бессознательное: ребенок говорит не случайные
слова, а такие, которые были "действительно сказаны им при жизни и связанные
с важными для отца переживаниями. Его жалоба: я горю, -- связана с
лихорадкой, от которой он умер, -- а слова: отец, разве ты не видишь?.. -- с
каким-то нам неизвестным, но богатым аффектами эпизодом". Итак, неизвестное
начинает наполняться аффектами, как бы становясь немного менее неизвестным.
Хотя о природе аффектов мы ничего не узнаем, важно уже то, что они есть.
Фрейд идет дальше и замечает, что в этом сновидении вызывает удивление
то, что оно могло возникнуть "в условиях, требующих, казалось бы, быстрого
пробуждения". Но и здесь можно обнаружить осуществление желания, делающее
сновидение "вполне осмысленным явлением". В чем состоит это желание? Мертвый
ребенок, отвечает Фрейд, ведет себя здесь как живой, он подходит к постели
отца, говорит с ним и берет его за руку, повторяя содержание какого-то
неизвестного воспоминания, "из которого сновидение извлекло первую часть
речи ребенка" ("Отец, разве ты не видишь..."). Отец бессознательно хочет
видеть ребенка живым и, чтобы осуществить это желание, на мгновение
продлевает сон. Он смотрит сон как фильм, в котором его ребенок, по словам
Фрейда, "показан живым". В реальности же, отождествляемой с "бодрственным
мышлением", он непоправимо мертв; поэтому возвращение к ней так травматично
для отца. Заключительная ремарка Фрейда звучит так: "Если бы отец сразу
проснулся и у него появилась мысль, которая привела его в соседнюю комнату,
то он как бы укоротил жизнь ребенка на это мгновение"4.
Все аргументы лектора остаются в силе, но вносимые усложнения
отодвигают их на задний план; они становятся фоновыми для гипотетической
существенности вторичных процессов. Продолжая видеть сон, отец на мгновение
фразы ребенка -- "Отец, разве ты не видишь,, что я горю?" -- продлил ему
жизнь. Но почему только на миг? Сколько длится во сне фраза ребенка? Сколько
фраз было забыто, вытеснено и т.д.? Как вообще увиденное становится фразой?
Фрейд, как и другие великие пророки, оставляет нас наедине с этими
вопросами, побуждая вторгнуться в неизвестное со своими интерпретациями,
дополняющими его собственные, которые, в свою очередь, всего лишь дополняют
"правильное в целом" толкование лектора.
Жак Лакан в "Четырех основных понятиях психоанализа" возвращается к
истолкованию этого сна. Он уже не дополняет, а отвергает теорию лектора,
согласно которой спящий отец пробуждается оттого, что внешнее раздражение
становится слишком сильным, а до этого он лишь реагирует на то же самое, но
более слабое раздражение с помощью образов сна. Нет, утверждает Лакан,
логика пробуждения не связана с силой внешнего раздражения; она
принципиально иная. Сначала спящий действительно защищается от реальности,
от пробуждения в ней. Но потом Реальное, понимаемое как реальность желания,
начинает видеться чем-то куда более ужасным, чем реальность, и именно
поэтому отец просыпается. Он убегает в так называемую внешнюю реальность,
чтобы продолжать спать, оставаясь слепым по отношению к Реальному желания --
действительно невыносимо именно оно. Заключительная формула звучит так:
"Реальность -- это фантастическая конструкция, которая дает возможность
замаскировать Реальное нашего желания"5.
Как видим, от интерпретации лектора не остается ничего, но и
истолкование самого Фрейда переосмысливается настолько радикально, что
становится даже не вторичным, а третичным. Отец просыпается не оттого, что
уже не может продлевать во сне жизнь своего сына, но от того, что не может
вынести Реальное собственного желания, заключенное в упреке сына "Разве ты
не видишь, что я горю?" Пробуждаясь, он совершает акт эскейпизма, перебегая
в ужасную, но выносимую реальность, где спящий старик уронил свечу и его
покойный сын обгорает. Пожар можно потушить, старика разбудить, но ответить
на упрек сына нельзя, потому что его устами говорит бессознательное самого
отца; тому просто некуда от него бежать кроме реальности. Во сне отца, по
Лакану, вообще нет сына, а есть желание отца. Это меняет статус реальности.
У Фрейда он еще довольно высок, хотя несравненно ниже, чем у анонимного
лектора. Французский аналитик играет на понижение: мертвый мальчик в
соседней комнате все же более выносим, нежели "живое" Реальное сна,
принявшее форму упрекающего мальчика.
Славой Жижек распространил выявленный Лаканом механизм на идеологию
вообще. Это вовсе не мир грез, куда можно скрыться от якобы невыносимой
реальности. Она обеспечивает не бегство от реальности, а представляет саму
эту реальность как бегство от Реального. "Идеология, -- звучит формула
Жижека, обобщающая анализ сна о горящем мальчике, -- это иллюзия,
необходимая для того, чтобы бежать от Реального нашего желания" 6..
Вот как далеко завел нас этот короткий сон. А между тем мы даже не
знаем и никогда не узнаем, кому же он, собственно говоря, приснился.
Сновидец безвозвратно потерян уже для Фрейда. Возможно, кто-то рассказал его
лектору, но тот мог сам сочинить его в дидактических целях. Не исключено,
что пациентка Фрейда придумала его для того, чтобы намекнуть на какой-то
нюанс в их личных отношениях, например, на то, что ее лечение не
продвигается так быстро, как ей бы того хотелось, или что она испытывает к
нему тайное влечение. (Тогда фраза: "Отец, разве ты не видишь, что я горю"
-- естественно, приобретает иной смысл.) А что, если бы мы узнали, что
приснилось старику, нанятому читать молитвы по покойному, но не выдержавшему
ночного бдения? Число гипотез умножаемо бесконечно. Возможно, мы так много
знаем об этом сне именно потому, что мы не знаем и не узнаем, чей это сон,
кому он приснился. В результате он является как бы собственностью
интерпретаторов: лектора, пациентки (о ее истолковании мы, правда, ничего не
знаем), Фрейда, Лакана, Жижека и многих других. Их концепции так
захватывающи, что никто, как мальчик в сказке Андерсена, уже не решается
"наивно"спросить: а был ли сам сон? Или он кому-то приснился?
Предлагаемый Пепперштейном выход из этой ситуации состоит в уподоблении
сна тексту. Оба одинаково психоделичны и в равной мере воспроизводят
пустоту. Он вспоминает, как в детстве научился засыпать под "Колымские
рассказы" Шаламова, которые читались по Би-би-си после передачи "Глядя из
Лондона". Они действовали как транквилизатор, хотя -- или именно потому что?
-- их содержание было ужасным. Думаю, это происходило не потому, что
литература-де разрывает связи с реальностью, преображая ужасное в такой же
райский дискурс, как и дискурс о райском, а потому, что в сердцевине самой
реальности лежит радикальное зияние или нехватка. Жизнь не выдерживает этой
нехватки и крошится, стремясь заполнить ее своими выделениями. Паша приводит
интересное место из книги Теренса Маккенны "Истые галлюцинации":
совокупляясь со своей девушкой под грибами, автор в момент оргазма кричит:
"За Владимира!", имея в виду Владимира Набокова. По мнению наркотизованного
здравого смысла, писатель не сумел взять от жизни что-то исключительно
существенное, и он, Маккенна, делает это за него, восполняя, как ему
кажется, то главное, чего недоставало сочинителю "Лолиты". На самом деле
отдаваемого/ возвращаемого здесь недостает не Набокову, а литературе, и
русскому писателю по ошибке благородно возвращают то, что тот и так никогда
не терял. Именно нехватка, зияние на месте того, что в момент оргазма
испытывает, как ему кажется, за писателя псиллоцибиновый гигант, и
составляет притягательность набоковских текстов.
Внутрилитературные сновидения отличаются от дидактических. Я не могу до
конца поверить ни одному рассказу о сновидении, претендующему на научный
статус. Очень интересные сновидения наводят на мысль, что их автор, тот же
Фрейд, -- человек литературно одаренный, хотя до настоящего одиночества ему
еще далеко. Текст окончателен в силу того, что вымышлен до конца, а
рассказанный сон всегда приблизителен, так как, претендуя соответствовать
увиденному сну, он снимает радикальную проблематичность связи
увиденное/записанное. Текст же автономен от порядка видимого, поскольку его
видимое полностью расположено внутри него самого; он перестал заигрывать с
реальностью и полностью черешел на сторону Реального, если пользоваться
языком Лакана. Именно неполная текстуальность "Толкования сновидений"
вызывает к жизни научные притязания его автора. Пашина же способность
сочинять сны полностью лежит в области литературы и не нуждается в
авторитете внешней аналитической инстанции.
Сложной представляется и связь литературы с психоделикой. Многие виды
психоделического опыта настолько интенсивны, что записанным оказывается
нечто иное. Возможно, именно художественная стерильность (вспомним хотя бы
"Искусственный Рай" Бодлера7) основных видов галлюциноза заставляет
испытавших их видеть в этом опыте нечто особенно ценное. Подозрительна сама
беспрецедентность такого опыта на фоне исключительно высокой степени его
повторяемости: хотя переживающие эти состояния люди часто представляются
себе поэтами в высочайшей мере, в этом опыте отсутствует как раз элемент
сделанности, поэзиса. Как можно видеть из рассказа "Грибы", галлюциноз
строится по спортивному сценарию: все определяется тем, кто может лучше
выдерживать напор деперсона-лизующих сил. Я бы назвал такой опыт, на выбор,
или буддизмом спортсменов, или попсовым вариантом просветления. Конечно,
идея литературы в таблетках, прописанная Владимиром Сорокиным в пьесе
"Dostoevsky-trip"8 интересна не только своей буквальностью, но тем, что
препараты потребляются коллективно и разыгрываются по определенному
беллетризованному сценарию. Вообще галлюциноз коммунальных тел отличается
тем, что в условиях распада насильственного коллективизма он легко
отождествляется с нормой. Возникшая эйфория запросто принимается за
"аутентичную" форму существования таких тел, за новую форму социальности и
т.д.. Непонятно, впрочем, и то, к какой норме можно пробудиться из этих
состояний. В "Dostoevsky-trip" также остается неясным, отчего погибает в
конце пьесы группа сторонников поглощения литературы в таблетках: виноват ли
в таком финале еще не опробованный наркотик под названием "Достоевский", или
сыграло роль то банальное обстоятельство, что группе просто некуда
возвращаться, потому что отношение ее участников к `смерти опосредовано не
Богом, а веществом. Пепперштейн избегает такого буквализма: рецептов
потенциального у него так много, что читателю предлагается на выбор любой.
Центральным в "Диете старика" является раздел о еде, где речь идет о молоке,
ватрушечке, супах, горячем, колобке, грибах и т.д. Интересно, что все эти
продукты, кроме галлюциногенных грибов, не съедаются. Съедаемые же грибы
относятся к нетелесному порядку: их поглощение не только не насыщает тело,
но и угрожает растворить ядро личности. Отвергая остальную пищу, персонаж
"Грибов" всеми силами старается не допустить собственной дематериализации,
вступая с грибами в единоборство внутри литературы и в каком-то смысле за
литературу. Не случайно он опирается при этом на китчевую икону Божьей
Матери, кладущую предел стерильной деперсонификации. Ведь само по себе
"грибное сияние" расшифровке и переводу в форму литературы не поддается.
Впрочем, крайний дискомфорт, как выяснилось потом, оказался путем к высшему
комфорту ( утренний эпизод блаженного слияния с природой). Акт поедания
отсутствует не только в текстах, но и в снах Пепперштейна: там сколько
угодно секса, подъемов, падений и неожиданных встреч, часто со свежими,
только что синтезированными сном существами, но что-либо съесть во сне
оказывается невозможным. Только в этом плане, собственно, сон и подобен
тексту, в остальном различия преобладают. Вообще "галлюциноз" у Пепперштейна
является собирательным термином для самых разных состояний, связанных как со
сном, так и с бодрствованием. Раньше нечто подобное именовалось грезой. У
писателя нет рецепта грезы, тем более ее химической формулы. Стало быть,
литература не может быть продуктом какого-то вещества, хотя постоянное
заклинающее повторение определенных слов -- "онейроид", "кайф", "галлюциноз"
-- наводит на ложный след, заставляя предположить, что литературу, в отличие
от пищи, можно потреблять в таблетках или в каком-либо другом виде.
Несколько раз описывается даже специальный браслет, в который вставлены
капсулы с веществами, вызывающими у героев строго определенные состояния по
прейскуранту. Но на самом деле так блаженствовать способны лишь
профессионалы страдания, преследуемые фобиями в сопровождении целой свиты
прихотливых "приколов". Уже герои первого рассказа кажутся сверхживыми,
потому что это -- мертвецы, и каждое из этих "веселых пухлых существ" готово
в любой момент превратиться в "фонтан скорби". Под прикрытием галлюциноза на
поверхность и позднее выгоняются интенсивные потоки смысла. Beщи и люди
выводятся наверх вместе со своими принадлежащими загробному миру двойниками.
Конечно, на них можно смотреть и с точки зрения жизни, но она всегда
подчинена взгляду из иного мира, составляющему "правильную" перспективу.
Только загробность придает людям и вещам приписываемый смысл.
Пепперштейн эволюционирует от приватной мифологии детства через ее
"эйдетизацию" в работах медгерменевтики к работе с продуктами массовой
культуры, со стереотипами как местного, так и западного сознания. Несмотря
на неизменную рекреативную установку, его захватывает процесс
профессионализации в его основных -- галлюциногенной, компьютерной
(обсуждение "Бинокля и Монокля") и интеллектуальной (сочинение "текстов
дискурса") -- ипостасях. Последние по времени нарративы не только
концептуальны, но и занимательны. Это увлекательное чтение, удачно
обрамливаемое многослойными комментариями. У Пепперштейна появляется свой
стиль; и если обычный писатель рассматривал бы его появление как завоевание,
то автор, чье любительство принципиально, писатель, продолжающий
ориентироваться на рекреацию (отдых, otium), а не на креацию (латинский
перевод греческого поэзиса), возможно, видит в этом приобретении нечто более
двусмысленное. Уже медгерменевтическая практика превращала впечатления
детства в эйдосы, лишая их элементов становления. Теперь же мы нуждаемся в
особом метауровне для того,чтобы выделить в текстах то, что еще противится
занимательности и возможности быть поглощенным читателем. Сложность
структуры "Диеты" определяется и тем, что в ней с самого начала встречаются
позднейшие вкрапления, дописывания и переписывания, внесенные иногда через
10-12 лет после написания первоначальных текстов. И хотя райское сознание
собственной неизменности не покидает автора, оно не мешает ему изменяться.
Это видно по тому, с помощью каких приемов им создается в тот или иной
момент впечатление вечности. Его герои перестают пахнуть фиалкой, они уже
подобно статуям не "источают слезы" и не летают над адом на бутерброде,
прикрывшись ломтиком молочно-розовой колбасы. Анатомически эти существа
становятся все более достоверными, обрастают физиологическими признаками и
все новыми предметами туалета. Сам автор понимает взросление как репетицию
смерти. "Сейчас, через много лет, лишь редактируя свои пубертатные
откровения, когда неумолимое половое созревание выталкивает нас за границу
детства, мы многое понимаем. В том числе и то, что нас так же бесцеремонно
вытолкнут из жизни". То, что мы называем "Большой Смертью", лишь завершает
процесс постоянного медленного умирания, приметы которого рутинны и в
основном настолько банальны, что с ними никому даже не приходит в голову
бороться. Книга не случайно называется "Диета старика". Ее автор, едва
перешагнувший тридцатилетний рубеж, является ветераном письма, рисования,
инсталлирования, комментирования. Он понимает, что из детства ему надо,
минуя взрослость, выпасть -- или впасть? -- непосредственно в старчество (с
астрономическим числом прожитых лет)9. Но как совершить прыжок через
привычное взросление? Как избежать взросления не только автора, но и его
текстов? Как избежать наползания времени, медленного затягивания в историю (
как иногда говорят: "Ну, я попал в историю!")? Я не знаю, как это сделать.
За каждым остается святое право закрыть глаза, но изменить вектор протекания
времени, его, как выражался Гуссерль, "конститутивный стиль", неспособен,
кажется, никто. Не взрослеть фактически значит не обращать на взросление
внимания, занимаясь чем-то другим, например, что-то бесконечно обсуждая.
Впрочем, на всякого колобка довольно простоты, и хотя никого нельзя лишить
этого свойства, смысл обладания им подвержен, в свою очередь, закону
колобковости, т. е. закону изменения колобка.
Паша видит свою задачу в том, чтобы "создать памятник эйфории", а для
этого надо "не создавать отношений". Между тем большинство известных
интеллектуальных миров, как ему известно, во-первых, пронизано страданием, а
во-вторых, только и делает, что создает отношения, т.е. принимает во
внимание интересы некоего сообщества. Поэтому герой "Предателя Ада"
недолюбливает интеллектуалов и работает на военных и оборонно-промышленный
комплекс, так как только эти последние способны создать мир, освободившийся
от главного врага Койна, боли. Предаваемый им Ад синонимичен боли, агентами
которой являются, в частности, разного рода интеллектуалы, цепляющиеся за
свое право страдать. Если в "Бинокле и монокле" речь идет об обучении Запада
бинокулярному (фактически полиокулярному) зрению, понимаемому как
психоделическое и коллективное, в атмосфере "Предателя Ада" этот
коллективизм уже безнадежно архаичен и уступает место чему-то принципиально
иному: сверхсовременному оружию, замещающему боль невиданным наслаждением (
о том, что разрушение связки наслаждение / боль объясняется контекстом "сна
о больших голливудских деньгах", я уже упоминал выше). Спасение перестает
быть особым элитарным усилием, но групповой дискурс также подвергается
девальвации. Новая дилемма озвучивается так: либо все просто обречены на
спасение, либо ни у кого нет никакого шанса. Спасение в дискурсе сменяется
спасением во сне. Ликвидируются последние трещины в памятнике эйфории -- он
становится идеально гладким и одновременно безнадежно хрупким, потому что
сон о деньгах, придуманный для Голливуда, может в любой миг уступить место
низкобюджетному сну, герой которого обрекается на бесконечную боль, служащую
изнанкой наслаждения. Кроме того, в несновидческих, как им кажется, мирах,
находящихся во власти так называемой согласованной реальности, господствует
принципиально иная логика: множество таких миров, в настоящем причиняющих
своим обитателям -- при этом, что важно, причиняющих совершенно по-разному
-- интенсивную боль, в будущем претендуют на статус миров без боли. Впрочем,
не это ли упование выдает им ордер на причинение боли в бесконечно
продлеваемом настоящем? Любое обезболивание этих миров -- рискованное
предприятие, так как тогда боль уже нечем будет заклясть: ведь социальные
утопии и есть настойчивое заклинание боли. В основе замены утопии эйфорией
лежит определенная концепция вещи. Пепперштейн считает, что вещь -- это
несводимый остаток мысли, подлежащий спасению, содержащий в себе
нерастраченный потенциал наслаждения. Иногда эта вещь предстает ему в
качестве тела в состоянии перманентного галлюциноза. Текст, в свою очередь,
вынужден замещать тело, потому что это последнее "слишком кошмарно". Текст,
собственно, конституирует неданность тела, прежде всего тела его автора (это
обстоятельство маскирует имя автора, "обезболивающее" отсутствие его
тела)10. В тексте "Философствующая группа и музей философии" тщательно
описываются иногда довольно экзотические предметы, на которых выгравированы,
выбиты или каким-то другим способом записаны философские сентенции.
Содержание этих высказываний никак не связано с предметами, на которых они
записаны. Уровень предметов и уровень высказываний совершенно
самостоятельны: цель записи -- обеспечить каждому высказыванию собственную
уникальную плоскость, на которую оно наносится, и тем самым расцепить его с
другими высказываниями. Зачем производится расцепление, также ясно: это
делается для того, чтобы лишить философский дискурс изначально присущей ему
атональности, полемической заостренности одних высказываний против других.
Каждое высказывание хорошо, если записано на отдельной плоскости и не
претендует опровергать другие. Другие высказывания надо писать на других
плоскостях -- вот и все. Плоскость записи устроена так, что является
предметным эквивалентом высказывания, никак не связанным с его смыслом: в
противоположность иллюстрации, эквивалент успокаивает, "нирванизует"
философскую мысль, действует на нее как накопитель уже не диалектики, а
эйфории. Высказывания могут при случае меняться плоскостями записи -- от
этого их смысл не пострадает. Смысл выводится за пределы диалога. Если
традиционная философия определяется Пепперштейном как "опосредованное
традицией галлюцинирование в логосе", то задача поверхности записи, или
чистой предметности, -- удвоив этот галлюциноз, ликвидировать его. Но
проблема в том, как отделить предмет от субстанции, уже при рождении
сделавшей его своим агентом. Предмет в философской традиции -- и это Паша
показывает на примере Хайдеггера -- это вовсе не испускающее сияние
сокровище, а произведение определенным образом ( в конечном счете
трансцендентально) сконструированной субъективности. Именно в силу того, что
философия как метафизика представляет собой опьянение основаниями, усилие,
связанное с поддержанием мира предметов в статусе предметов, а не чего-то
другого, она не допускает в мир никаких дополнительных видений, онероидов и
других экстатических состояний. Экстатично обоснование мира, а не он сам:
вне опьяненности основаниями есть только физика, пространственные развертки
вещей. В этом смысле "галлюцинирование в логосе", даже в его
"авангардистских" -- хайдегтеровском, дерридианском или делезовском --
вариантах, дело достаточно консервативное и чуждое любой трансгрессии, кроме
трансгрессии самой традиции. Сосредоточив эксперимент в области оснований,
делают следствия из оснований предсказуемыми, не допускают безумия
следствий. Между тем Пашу интересует прежде всего многокрасочное безумие
самих следствий. Именно его он хочет лишить атональности. Скажем, Хайдеггер
постоянно работал со [сказанным-] несказанным, но [сказанным-] несказанным
не любых, а определенных древнегреческих текстов. Качество невысказанное,
естественно, также определялось традицией. Он "пытал" тексты исключительно
мягко, по определенным правилам, создавая подмеченное Пашей впечатление, что
они "сознаются" сами, без какого-либо насилия с его стороны. Тело этого
погруженного в традицию философа как бы заключено в читаемых им текстах (и
"Башмаки" Ван Гога он читает как текст, и "лес во льду", и "лампу Мерике",
если оставаться в жанре философских багателей)11. Поэтому мы и не можем
выделить из этих текстов еще одно, лучащееся оригинальностью тело. Поэтому
"Башмаки" Ван Гога необходимо образуют пару, их нельзя представить как два
разрозненных башмака (полемика Хайдеггера с Мейером Шапиро на эту тему
саркастически проанализирована в книге Деррида "Истина в живописи"); поэтому
же "videtur" и "lucet" противостоят друг другу в немецком глаголе "scheint",
который значит и "светиться", и "казаться" и еще многое другое. Философия --
это агон понятий внутри слов, желание если не ликвидировать их
многозначность, то по крайней мере создать некую иерархию смыслов. Лампа
шваба -- Мерике наделяется атрибутом свечения в ущерб кажимости швабом --
Хайдеггером с постоянной отсылкой к еще одному, не упоминаемому в Пашином
тексте швабу, Гегелю12. В любом акте "окончательного" прояснения, конечно,
заключен элемент магии, точнее, поэзиса, подмеченный Пепперштейном.
Говорение из оснований обречено приводить в экстаз даже неискушенных
слушателей, которые через полчаса после экстаза немеют и не могут передать
услышанное (этот эффект отмечается у всех "говорящих" философов, будь то
Хайдеггер, Лакан, Витгенштейн или Мамардашвили). Почему лампе Мерике
обязательно нужно светиться? Почему оба ботинка Ван Гога нельзя надеть на
одну ногу? Отчего так важно знать, на чью именно ногу, художника или
крестьянки, они надевались? Для обычного шамана эти нюансы столь
незначительны. Почему же здесь они разбухают до космических размеров? Потому
что философия даже после смерти выполняет возложеннную на нее традицией
миссию отделения ложных претендентов от истинных, хотя истина уже давно не
увязывается с присутствием божественной инстанции и принимает профанную
форму ортодоксального говорения. В философии был, есть и будет несводимый
остаток социального, вызывающий у автора "Диеты старика" попеременно
отвращение, восхищение и скуку. Ведь его собственный проект состоит даже не
в ликвидации социальности, -- это непоправимо нарушило бы рекреатавную
установку, -- а в признании ее ликвидированной изначально. Пронизывающая эти
тексты утопия утверждает незначимость того, что объединяет людей, и
стремится к ликвидации человечества по самому мягкому сценарию: называть
пищевые продукты, не поедая их; любить тела настолько нежно и бескорыстно,
чтобы воспрепятствовать их размножению. Старик прекращает есть и скоро
замечает, что все в мире стало лучше; ну, а функция продолжения рода для
него в прошлом. В этих приватных галлюцинациях есть мудрость и именно
поэтому в них нет любви к мудрости, принимающей форму агона, спора, диалога
друзей: обладание даже самой хрупкой софией заставляет дистанцироваться от
философии. У Паши это дистанцирование принимает форму очаровывающего его
притяжения: и любовь к мудрости он замышляет ликвидировать, любя. Во всяком
случае, степень интеллектуальности его галлюцинирования постоянно
возрастает. То, что еще недавно в русскоязычном регионе представлялось
всеобъемлющей литературной средой, в которой проживались миллионы жизней,
теперь стремительно капитулирует не только перед компьютером и препаратами,
но и перед мыслями. Она быстро интеллектуализуется, компьютеризуется и
наркотизуется. В результате вчерашние изгои получают шанс -- или
подвергаются опасности, в зависимости от глубины их постижения, стать
модными авторами.
Десять лет тому назад С.Ануфриев, Ю.Лейдерман и П.Пепперштейн основали
группу "Медицинская Герменевтика". Паша определил ее как "высказывающуюся
пустоту". Первоначальная греза ее участников состояла в том, чтобы
отказаться от слов в пользу терминов, создать чистый язык терминов. Слова не
устраивали медгерменевтов тем, что, так как они были придуманы не ими, срок
их жизни был им также неподконтролен. ""Условия" прочих слов, которые не
являются терминами, расплывчаты, -- поясняет Паша. -- Поэтому время,
отпущенное им, кажется вечностью. Термин же определен, он рожден
искусственно, поэтому его время -- живое и ограниченное время несовершенного
создания". Время жизни обычного слова велико, и никто не в силах его
укоротить; возможно, ничто так не ограничивает демиургическую претензию
отдельных лиц, как слова. Прием медгерменевтики состоял в том, чтобы как
можно больше слов превратить в термины, тем самым взяв срок их жизни под
контроль. Если, скажем, колобку суждена долгая жизнь, то изобретенный термин
"колобко-вость" будет жить столько времени, сколько пожелают его
изобретатели. Члены группы придумывали целые пласты терминов, становясь
хозяевами собственного мира. Часто это были аппроприированные слова
обыденного языка ("ортодоксальная избушка", "площадки обогрева", "Белая
кошка"), а иногда в термины превращались имена собственные (принцип
"Ко-нашевич"). При этом теоретический дискурс, с одной стороны, снижался,
сближаясь с обычным словоупотреблением, а с другой -- беспредельно
расширялся: ведь теоретическим могло стать буквально все. Тем самым
завершалась и одновременно доводилась до абсурда советская картина мира,
строившаяся из фрагментов произвольно скомпонованной ортодоксальной речи.
Теоретизирование медгерменевтики развивалось на фоне энергетического упадка
советской идеологии и было своеобразной формой ее приватизации. Потом
случилось неожиданное: вакуум социальности так и не был заполнен, напротив,
катастрофически расширился, и то, что еще недавно так страстно обсуждалось в
узких кругах, стало расти повсеместно, как сорняк. Проблемой стало хоть
какое-то ограничение пустотностью стремительно набухающей пустоты. Контуры
новой ситуации прихотливы и постоянно меняются; в результате никто не знает,
как не быть имманентным ей. Герметичное становится читабельным,
трансгрессивное -- модным. Что такое московская концептуальная традиция hie
et nunc, в каком отношении стоит она к тому, что претендует быть актуальным,
неясно, видимо, не только мне. Особенно эта неясность дает о себе знать в
культуре, пока еще не выработавшей механизма музеификации и пытающейся
вместо этого поддерживать акции "настоящего момента" на неимоверно высоком
уровне. Эта попытка каждодневно проваливается и возобновляется, чтобы
провалиться и возобновиться снова.
Медгерменевтика постоянно изобретала термины, стремясь наводнить ими
мир, вызвать панику на бирже понятий; за инфляцией и крахом должно было
последовать небесное спокойствие, самодостаточность свежевы-печенного и с
тех пор постоянно заново выпекаемого космоса. Что отличает индивидуальное
творчество Пепперштейна от этой групповой стратегии? Почему одни тексты он
публикует под своим именем, а другие в качестве части треугольника "старших
инспекторов"? Ясно, что эти стратегии переплетаются довольно причудливым
способом: отчуждая значительные текстуальные массы в пользу группы, каждый
из ее участников получает преимущество, избавляясь от бремени имени
собственного, обеспечивая столь необходимую богам анонимность, выражающуюся
в умножении их имен. Возвращается ли Паша к имени собственному в "Диете
старика", на титульном листе которой остается только его имя-псевдоним? В
этих текстах нарушены многие принципы обычного авторства, но для нас не
является тайной, что эти нарушения ("инновации") только усиливают авторство
как безличный механизм, как инфраструктуру. В последнем смысле его, видимо,
не дано избежать никому: ведь для создания имени здесь не нужна даже
подпись. Паша черпает свое неавторство из достаточно глубокого источника --
его изначальной чуждости самому себе. Эта чуждость породняет его со всем
иным. Во всяком случае, такова логика его ответов Илье Кабакову в каталоге
их выставки "Игра в теннис". "Кабаков: Ты уже давно выставляешься за
границей, в "чужом месте". Что значит говорить "чужим" на "чужом" языке о
"чужих" проблемах? Или слово "чужие" здесь некорректно? -- Пеппершшейн: Есть
известные слова Кафки, адресованные его другу Максу Броду: "Как я могу иметь
нечто общее со своим народом, когда у меня нет ничего общего с самим собой?"
Я бы даже радикализировал это высказывание: мы настолько чужие самим себе,
что все остальное становится для нас родным". Заметим, что Кабаков
проницательно и аккуратно берет слово "чужой" в кавычки, дистанцируясь от
его прямого смысла, лишь зондируя почву, проверяя, что оно значит для Паши
как метафора. Чужое в кавычках оказывает для него родным, но уже без
кавычек, так велика утверждаемая им степень чуждости (опять-таки, что важно,
без кавычек) самому себе, зияние в сердцевине его "я". Именно высшая степень
чуждости себе переходит в эйфорию, в отличие от последовательно-депрессивной
ориентации текстов Кафки, предполагающей чисто негативное просветление
(сошлюсь на знаменитое кафковское высказывание: "Я пишу об ужасном, чтобы
умереть довольным", проанализированное в эссе Мориса Бланшо). Позиция Паши
проективна: он обретает право "жить довольным", помещая смерть в основание
своей личности и тем самым, как он полагает, лишая трансцендентную инстанцию
возможности что-либо предрешить в его судьбе. Таким образом он вступает с
миром в непосредственно-родственные отношения. Отвечая на другой вопрос
Кабакова, Пепперштейн возвращается к своему "пункту": "...мы настолько
"чужие" самим себе, что все остальное в мире (места, люди, вещи) кажутся
родней, толпой племянников, дедушек, кузин и внучат, по сравнению с этой
изначальной чуждостью, живущей в глубине нашего собственного "я""13. Можно
ли расшифровать этот ответ так: остается только радоваться, так как
депрессия (чуждость себе) настолько изначальна, что имеет своим необходимым
последствием эйфорию. Большое искупление невозможно, зато каждая вещь,
место, человек являются орудием малого искупления; вселяясь в них, мы
бесконечно развоплощаемся, что является доступным нам эквивалентом
благодати. Это отлично прописано в финальной "сцене с четырьмя мухоморами"
из рассказа "Грибы", где "свечение" (lucet, scheint), как в эстетике Гегеля
и в фундаментальной онтологии Хайдеггера, целиком собирается на полюсе
изначального галлюциногена (ведь мухоморы -- это "сома", древнеиндийский
гриб бессмертия), и получается неплохая (при этом совершенно
бессознательная) пародия на столь раздражающий автора "Диеты" "кроткий дух
серьезности". Хотя в строгом смысле и лампа Мерике -- своеобразный
культурный мухомор, сияние которого способно опьянять и излучать власть, не
довольствующуюся простой кажимостью (выходящую за пределы scheint в смысле
Эмиля Штайгера, т.e.videtur).
Книга Пепперштейна внешне производит барочное впечатление: множество
лепнины скрывает несущие конструкции, линия фасада прихотливо изломана
пристроенными позднее башенками, балкончиками, бельведерами, вес которых все
более непосилен для Гераклов и кариатид детства. Но это впечаление ложно,
если принять определение барокко Делезом как "последней попытки восстановить
классический разум, распределяя дивергенции по соответствующему количеству
возможных миров, отделенных друг от друга границами. Возникающая в одном и
том же мире дисгармония может быть чрезмерной, -- она разрешается в
аккордах, так как единственные нередуцируемые диссонансы находятся в
промежутках между разными мирами... Это воссоздание могло оказаться разве
что временным. Пришла эпоха необарокко -- дивергентные миры наводнили один и
тот же мир, несовозможности вторглись на одну и ту же сцену -- ту, где Секст
насилует и не насилует Лукрецию, где Цезарь переходит и не переходит через
Рубикон, а Фан [имеется в виду герой рассказа Борхеса, известного по-русски
в двух переводах -- "Сад расходящихся тропок" и "Сад, где ветвятся дорожки".
-- М.Р.] убивает, делается убитым и не убивает, и не делается убитым"14.
Понятно, что идеально барочными являются для Деле-за "несовозможные" миры
лейбницевских монад, а необарокко репрезентируется Борхесом и додекафонией.
Паша вносит в этот необарочный мир существенный элемент -- эйфорию, принцип
равного наслаждения каждым из его по определению поддельных сияний. Он хочет
быть писателем, не теряя статуса обычного сновидца (у него есть план издать
книгу своих "действительных" снов), графика, члена медгерменевтики и просто
частного человека (старый бодлеровский проект "жизни как искусства").
Написанные им "модные" тексты разлетаются под напором интерпретаций, рисунки
заговариваются, фигура речи наносится на "уникальную" и бесконечно
репродуцируемую плоскость15.
По возрасту Павел Пепперштейн мог бы быть моим сыном, но я -- и в этом
я, кажется, не одинок -- не могу представить себе его в этом качестве. В
чем-то он реализовал идеал выпадения из детства в глубокую старость, что на
поверхности выражается в странном, уникальном в моем опыте двоении. Прощаясь
с его книгой, я выразил бы этот парадокс самыми простыми словами: "До
свидания, внучек: ты -- мой дедушка".
Москва, 10-- 26 февраля 1998 года.
Примечания
1. Механизм функционирования одного из таких речевых психозов
(противопоставляемого неврозу "немецкой вины") разбирается на материале
пьесы В. Сорокина "Hochzeitsreise" в моем эссе "Борщ после устриц"("Место
печати", X, 1997, с.142--155).
2. В "Искусственном рае" Бодлер, имея в виду гашиш, связывает
невозможность рассказать о наркотической экстатике не просто с параличей
воли и с необычайной интенсивностью переживаемого опыта, делающей его
самодостаточным. Главную причину он видит в нарциссизме наслаждающейся своим
одиночеством личности, которая во всем видит лишь собственные отражения. Из
этого мира исключен любой, в том числе и поэтический труд, а вместе с ним,
как выражается поэт, "честные средства для достижения Неба".
Олдос Хаксли в "Дверях восприятия" пишет о своем опыте принятия
мескали-на как о научном эксперименте, но местами не может удержаться от
придания ему исключительно высокого статуса в порядке невербального.
Странным, но отнюдь не неожиданным приложением к его эмпиризму является
мистика. "Но человек, возвращающийся через Дверь в Стене, никогда не будет
точно таким, каким он туда вошел. Он будет... подготовлен для понимания
связи слов с вещами и систематических рассуждений с непостижимой Тайной,
которую они пытаются -- всегда тщетно -- ухватить".
Возможно, дело здесь не только в свойствах поэзии Бодлера и прозы
Хаксли, но и в том, чем гашиш отличается от мескалина. Опыт
галлюцинирования, видимо, также бесконечно дифференцирован и не подводим под
общий знаменатель.
3. Об этом в связи с философией Лейбница прекрасно написал Жиль Делез:
"Сущность монады в том, что у нее темная основа (или фон): она черпает все
именно из него, и ничто не приходит в нее извне и не выходит за ее пределы.
В этом смысле необходимость ссылаться на слишком уже современные
ситуации возникает лишь в тех случаях, если они способны разъяснить то, что
было уже барочным начинанием. Издавна наличествуют места, где то, на что
следует смотреть, находится внутри: келья, ризница, склеп, церковь, театр,
кабинет для чтения или с гравюрами. Таковы излюбленные места, создававшиеся
в эпоху барокко, его слава и мощь. И, прежде всего, в темной комнате имеется
лишь небольшое отверстие в потолке, через которое струится свет,
проецирующий полотно при помощи двух зеркал на очертания предметов, которых
не видно, так как второе зеркало должно быть наклонено сообразно положению
полотна. И затем -- стены украшаются трансформирующимися изображениями,
нарисованными небесами и всевозможными видами оптических иллюзий: в монаде
нет ни мебели, ни предметов, кроме создаваемых оптическими иллюзиями". (Ж.
Делез. Складка. Лейбниц и барокко, Москва, "Логос", 1998, с. 28.)
Пепперштейн также хотел бы создавать в качестве литературных объектов
монады, состоящие из самоотражений: в основе его писательской практики лежит
греза об освобождении вещей от субстанции. Став фоном Кранаха, фон Кранах
обретает свою сущность и теряет свое "я".
4. 3. Фрейд. Толкование сновидений, Ереван, 1991 (репринт издания 1913
года),
с. 363.
5. S. Zizek. The Sublime Object of Ideology. London-New York, Verso, p.
44--45.
6. Ibid., p.45.
7. В заключительном эссе "Искусственного рая" Бодлер противопоставляет
гашиш вину: "Вино делает добрым, общительным, гашиш влечет к уединению.
Вино, так сказать, трудолюбиво; гашиш, по существу, лентяй. К чему, в самом
деле, работать, пахать, писать, производить что бы то ни было, если можно
попасть в рай без всякого труда?.. Вино полезно, плодотворно. Гашиш
бесполезен и опасен". (Ш.Бодлер. Искусственный рай. Петербург, "XXI век",
1994, с. 181.)
8. В. Сорокин. Dostoevsky-trip (пьеса), Москва, Obscuri Viri, 1997.
9. Эта тема развивалась в инсталляции группы медгерменевтика "Труба,
или Аллея долголетия" и в беседе С. Ануфриева и П. Пепперштейна "Полет,
уход, исчезновение", давшей название одноименной выставке в Праге и Берлине.
"Речь идет, как видим, -- говорит Паша, -- об остановке рождений и смертей.
Туннель, уходящий в домашний уют потустороннего, как-то отрезает этих
застывших в долголетии стариков от этих "детей", застрявших в предрождении.
Все это моделирует своего рода "квазифедоровскую" ситуацию. Для стариков
близость к туннелю, параллельность ему является источником долголетия.
Туннель -- нечто освобождающее, освежающее. Это приводит нас к старинному
упованию на смерть, как на лекарство от болезней и, в конечном счете, от
смерти же (смертью смерть поправ...)". (Полет-Уход-Исчезновение, Московское
концептуальное искусство [каталог на русском и немецком языке.], Ostfildern,
Cantz Vferlag, 1995, р.284.)
10. Связь подписи со стремлением замаскировать, скрыть и вместе с тем
метафорически обнажить, выпятить тело автора, родство этих кажущихся
противоположностей разбирается в таких работах Жака Деррида, как "О
грамматологии", "Почтовая открытка", "La fausse Monnaie".
11. Кстати, для " Вещи и творения" Хайдеггера картина Ван Гога, можно
сказать, акцидентальна. Это текст об истоке и о том, "откуда пошел художник,
ставши тем, что он есть". А фактически о стыдливой первичности непотаенного
перед лицом сущего в его целом. И текст о лампе Мерике также не о лампе, а о
последствиях "сияния" для метафизики.
12. Хайдеггер напоминает Штайгеру, что прекрасное определяется в
эстетике Гегеля как чувственное свечение. Друг гегельянца Фишера, Мерике не
мог об этом не знать. Впрочем, и незнание определения Гегеля не освободило
бы его от участия в духе того, что делал Гегель, так как через него в то
время говорило нечто более значительное. "Но то, что прекрасно, блаженно
светит в нем самом" -- определяется как "гегелевская эстетика in mice". (М.
Хайдеггер. Работы и размышления разных лет, Москва. "Гнозис", 1993, с. 245.)
Любовь великих философов к власти/истине выражается в постоянно
возобновляемом сообщничестве с древней традицией, выражающемся в ее
решительном обновлении. В этом смысле они -- экраны, на которые проецируются
ожидания их образованных современников. Обращенность их речи столь же
фундаментальна, как и сама речь. Как только уши повернутся в другую сторону,
она исчезнет.
13. И. Кабаков, П. Пепперштейн. Игра в теннис. Pori, Porin Taidemuseo,
1996 (каталог на английском, финском и русском языках), р. 27; см. также
р.47. Интересен и самый последний вопрос, который Пепперштейн задает
Кабакову (пятый вопрос на шестнадцатом щите): "Известен старокитайский
художественный принцип "ворона на снегу" в Чаньской традиции. Ворона на
снегу рисуется столько раз, пока в сознании рисующего не остается "только
эта ворона " на "только этом снегу". Однако остается сам принцип " ворона на
снегу". Как устранить это противоречие?" Кабаков: "Противоречие в принципе
неустранимо. Мало того, в этом рассказе скрывается своеобразный парадокс.
"Ворона на снегу" -- уже готовый эстетический объект, эстетическое качество
уже гарантировано сюжетом. Но предполагается, что качество эстетического
улучшится, если произойдет "вчувствование" в изображение того и другого
(вороны и снега. -- М.Р.). Парадокс в том, что, возможно, "качество"
нарисованности вороны и снега улучшится, но само эстетическое переживание
сюжета не станет от этого сильнее". (Ibid., р.48--49.) Как вопрос, так ответ
здесь настолько интересны, что о многом говорят даже без комментария.
14. Д. Делез. Складка. Лейбниц и Барокко... с. 83.
15. См. также: С. Ануфриев, Ю. Лейдерман, П. Пепперштейн. На шести
книгах. Duesseldorf, Kunsthalle Duesseldorf, 1990 ( на русском и немецком
языках).
Кресты-пророки
Побежали по дороге,
Половина говения, тресни.
Редька с хреном убивается,
А яйцо с творогом
По двору катается.
(Костромской губернии, Нерехтского уезда.)
I
Кумирня мертвеца
-- Джим, вы видели когда-нибудь мою табакерку?
-- Неоднократно, сэр.
-- А случалось ли вам видеть, чтобы я нюхал табак?
-- Никогда, сэр.
-- В табакерке нет табака, Джим. В ней находится
отличный кусок сыра.
Р. Л. Стивенсон. "Остров сокровищ "
1
Он плакал. Сидящий рядом старичок постоянно шуршал газетой.
Старичок смущенно отложил газету и посмотрел на рыдающего гостя. Старик
не знал, что предпринять. Предложить носовой платок? Спокойно закурить? Он
вынул из кармана платок и протянул его в сторону раскрытой двери, но уронил
и забыл поднять, тем более что платок упал не возле, а опустился на лапу
спящей собаки. Она не пошевелилась, так как была сделана из стекла. Когда-то
здесь жила собака Рой, но она умерла, и тогда хозяин дома заказал это
изваяние. С тех пор стеклянная копия Роя виднеется возле камина. Вечерами
хозяин этого дома сидел у камина и часто шутил:
-- Рой, принеси мне палку!
Ну, чего же ты не несешь, Рой? Ты же всегда был такой послушный. Она
там, в углу.
Рой, а почему сквозь тебя просвечивает, а? Что скажешь? Чего же ты
молчишь, а, Рой?
И старик сам же хохотал. Его громкий смех, вырывавшийся из него
пучками, резко бился в стеклянную дверь, к которой поднималась лестница с
железными перильцами. Стекло дрожало, и это будило Вольфа.
2
Вольф был такой аккуратный!
На рабочем столе Вольфа царствовал порядок. В левом углу лежало
несколько книг, обернутых в бумагу, а справа были разложены блестящие
металлические предметы: различного рода ножи, изогнутые лезвия,
спиралеобразные сверла.
Часто он стоял посреди комнаты: атлетически сложенный, но уже слегка
располневший, и вдумчиво протирал какую-либо из этих вещиц. Время от времени
он поднимал свое тяжелое лицо и бросал взгляд в зеркало. Его крупный, лысый
череп был густо посыпан веснушками, а за толстыми стеклами очков иной раз
блестели темные, печальные глаза.
А помнишь, Рой, как он ходил с тобой гулять?
Он тщательно одевался, выбирал галстук, одевал свежую рубашку, костюм,
собственноручно чистил свои ботинки. И затем выходил в темно-синем пальто. В
аллее парка он выпускал тебя, Рой. Он шел как будто задумавшись, не поднимая
головы, и только изредка взглядывал на какую-нибудь проходящую даму, и тогда
уж можно было ручаться, что она долго не забудет этого взгляда, наполненного
беспредельной печалью. Издали его глаза казались жгуче-черными, но на самом
деле они были сливового цвета, а смуглые веки были слегка вывернуты, так что
виднелась розовая подкладка, где ручейком протекала легкая слизистая
жидкость -- несостоявшиеся слезы, которые Вольф удалял иногда уголком
батистового платка.
От него неизменно пахло фиалкой. Флаконы из-под фиалкового одеколона он
затем промывал и заполнял какими-то жидкостями разных цветов -- это, видимо,
было связано с его работой. Надев специальные резиновые перчатки, Вольф
потом перемещал эти составы в замысловатые шприцы с тончайшими иглами.
Однажды дурочка Китти спросила его, что это такое и зачем это Вольф так
возится с этими бутылочками, и Вольф терпеливо (он всегда был очень
терпелив, разговаривая с детьми) объяснил, что это чрезвычайно едкие
кислоты, способные, если их ввести с помощью шприца в человеческое тело,
образовывать болезненные и долго не заживающие язвы. Тогда бедная Китти
стала просить, чтобы Вольф и ее уколол -- "Совсем чуть-чуть, пожалуйста,
Вольфик, я тебя так прошу!" -- умоляла она.
Даже тогда, Рой, мой сын не нагрубил ей и не выгнал ее из комнаты, как
это делал Ольберт, а со спокойной серьезностью выполнил ее просьбу и капнул
ей на руку немного вещества, отчего она с вибрирующим визгом скатилась вниз
по лестнице. Был полдень, и ты, Рой, как раз спал на ковре в гостиной (в том
самом месте, где лежишь сейчас, задумчиво глядя в огонь своими стеклянными
глазами). Ты громко залаял, а потом с лаем и повизгиванием стал отступать к
дверям, ведущим на веранду, когда орущий комок упал с лестницы и, опрокинув
вазу, исчез в темном коридоре. Крик, словно шаровая молния, выкатился с
другого конца дома и исчез в сплошном писке где-то в одном из
полуразвалившихся сараев.
3
Старик отложил газету и спокойно закурил. Легкий дымок поплыл по
комнате и растворился в открытой двери.
"Кто он?" -- думал старик, глядя на незнакомца, который уже не рыдал,
но прохаживался по гостиной, время от времени ударяя концом своей тросточки
по медному тазу. На его длинном бледном лице и крупных розовых веках еще
висели блестящие капли.
Сколько призраков посещает этот дом последнее время!
Вон Ольберт озабоченно проходит через столовую, которая видна сквозь
стеклянную дверь. Слышна его одышка, потом он появляется.
Смех, да и только! Но он стоит в дверях -- слюнявый обрюзгший конунг в
поеденном молью веночке из бесцветных волосков. Он, видимо, только что вылез
из ванной, на нем влажный зеленый халат. Большое мягкое лицо сохраняет
капризное, младенческое выражение. Маленькие губки он постоянно облизывает
и, как психопат, строит рожицы, словно собираясь брызнуть слезами и слюной в
неожиданной истерике. Таким он был и при жизни, Рой, точно таким. Да что я
тебе говорю, как будто ты его не знал. Это сейчас, будучи стеклянным, ты не
узнаешь малыша Оле, нашего бутуза. А то бы ты, как бывало, встретил его
радостным лаем. Впрочем, говорят, собаки не любят тех, кто умер.
Наконец два призрака заметили друг друга и начали сближаться. Один
пофыркивая и непрестанно облизываясь, другой роняя розоватые слезы.
"А, герцог, как ваше здоровье?"
Ну да, как я не узнал его сразу -- это же герцог, старый знакомый!
4
-- Ну же, Китти, не плачь, мы выдадим тебя замуж за герцога.
Китти глухо воет и клацает зубами, забравшись в старый покосившийся
шкаф.
-- Китти, что у тебя с рукой, а? Это Вольф тебе сделал? Покажи руку,
Китти.
Китти удается укусить меня. У нее резцы не хуже, чем у тебя, Рой. Рукав
моего пиджака распорот, как саблей, а под ним, от большого пальца до самого
локтя, наливается кровью шрам.
Мерзкая Китти специально точила молочные зубы пилочкой для ногтей. "Все
равно выпадут" -- таков был ее аргумент. У меня до сих пор на руках не
зажили некоторые шрамы, Рой, которые мне оставила на память малютка Китти.
Но я не теряю терпения:
-- Китти, покажи руку. Если ты будешь послушной, то выйдешь замуж за
герцога. Если же ты не будешь слушаться своего папочку, да еще станешь
мерзко кусаться, то тебе придется ловить мышей в доме у какого-нибудь
заплесневелого адвоката. Они ведь такие скупцы! В день ты будешь получать
лишь каплю молока и какую-нибудь завалявшуюся кость. А когда ты подохнешь, с
тебя сдерут шкурку и жена адвоката сделает себе воротник. Подумай о мучениях
в темном шкафу, где тебя медленно пожирает моль. Вылезай оттуда, Китти, а то
тебе придется окончить жизнь в таком же мерзопакостном шкафу, как этот.
Китти неохотно вылезает. Она вся в пыли, одну руку держит во рту и
сосет.
-- Перестань сосать руку, Китти!
-- Все равно мне не быть женою герцога.
-- Отчего же? Ты думаешь, герцог не захочет жениться на моей дочери?
Ошибочка!
-- Да, но я не хочу за герцога. Мне больше нравится директор театра.
-- Хорошо, я выдам тебя за директора театра, если ты только вынешь изо
рта свою руку и покажешь ее мне.
Китти показывает мне свою руку. В ней небольшая круглая дыра с
коричневыми, как будто обуглившимися краями.
-- Это Вольф тебе сделал?
-- Да, это сделал гнусный Вольфганг. Теперь мне придется постоянно
носить перчатку, скрывая стигмат.
-- Она сама попросила меня об этом, -- вымолвил Вольф. Он стоял посреди
двора, в своем синем пальто, широкоплечий, с отражениями закатного света в
толстых выпуклых стеклах очков. Он собирался ехать на работу. В руках он
держал черный портфель, где, аккуратно завернутые в бумагу, лежали различные
инструменты.
-- Ты опять едешь на работу, Вольф?
-- Да, еду.
Что за работа была у бедного Вольфа, Рой! Его могли вызвать в любое
время суток, и он немедленно собирался и ехал. Часто он приезжал глубокой
ночью или даже под утро, смертельно усталый. И почему он выбрал именно эту
профессию?
5
-- Милый Ольберт, я чувствую себя неважно, -- сказал герцог, заламывая
прозрачные пальцы. -- Я тоскую.
-- Ну-ну, ваше сиятельство, бодрее! Мы все порой тоскуем, а я так
просто гнию.
Старичок в кресле начинает волноваться.
-- Отвратительно! -- бормочет он. -- Оле позволяет себе. Я всегда рад
видеть малыша, но считаю: уж если ты призрак, то будь скромнее, наконец. Не
годится игриво намекать на судьбу тела. И так ясно, что оно где-то
распадается в укромном уголке. Но Ольберт остался таким, каким был всегда.
Его с детства прозвали Tweedledoom в честь одного из близнецов Зазеркалья.
Вообще-то людям искусства многое позволено.
-- Над чем вы сейчас работаете, милый Ольберт? -- спрашивает герцог,
удержав рыдания.
-- Я вернулся к работе над ранней вещицей. Называется "Черная белочка".
Я начал ее почти ребенком. Литература, в общем-то, это сплошной переходный
период. Сейчас, через много лет, лишь редактирую свои пубертатные
откровения. Когда неумолимое половое созревание выталкивает нас за границу
детства, мы многое понимаем. В том числе и то, что нас так же бесцеремонно
вытолкнут из жизни.
-- Было бы чудесно, если бы прочли нам эту "Белочку".
-- Хорошо. Можно сегодня вечером. Я приглашу кое-кого. С удовольствием
прочту вещицу. Однако сейчас и я и мои вещицы -- мы не нужны вам. Вы ищете
Китти. Она в саду. Гоняется за бабочками. Если ей попадется птичка -- она и
птичкой не побрезгует.
Ольберт с хохотом хлопнул герцога по спине, и они разошлись. Писатель,
шлепая разношенными тапочками, отдуваясь, стал подниматься по лестнице на
второй этаж. Герцог, приложив к глазам руку, неверными шагами направился в
сад. По дороге он задел плечом стеклянную дверь, и она со звоном ударилась
об стену. Старик снова был один в гостиной.
6
Казалось бы, Вольф мог выбрать любую профессию. Перед ним были открыты
все пути. Он был такой способный! Тихий, серьезный, задумчивый мальчик.
Почти постоянно (за исключением занятий спортом) сидел в своей комнате над
учебниками. Особенно увлекался химией. Малыш Оле со слезами жаловался, что
брат пренебрегает им, не говорит с ним ни слова. Обиженный Оле забирался в
кресло и в исступлении дергал ножками.
-- Успокойся, Ольберт, -- тихо говорил Вольф.
Я хорошо помню, как он стоял в дверях гостиной, в аккуратной школьной
униформе серого цвета, и говорил, опустив голову, медленно протирая медную
пуговицу на рукаве: "Успокойся, Ольберт".
Он был угрюм больше обычного и смотрел на беснующегося Ольберта
исподлобья своими темно-синими печальными глазами. Оле удалось успокоить
только обещанием, что Вольф возьмет его с собой к учителю химии. Вольф ходил
к своему учителю химии каждую среду, и они вместе ставили опыты.
Вольф очень неохотно взял Ольберта к учителю химии.
-- Ну, Оле, что было там, у учителя химии?
-- Ах, папочка, -- Ольберт слегка зажмуривает глаза и быстро
облизывается (кажется, что у него два языка). -- Это было забавно. Мы пришли
в гнусный квартал -- грязные дома, высокие как небеса. И везде лужи, лужи:
озера, омуты темной воды. Свобода, неравенство, братство. Каждый прохожий --
проходимец. И все жадно смотрят на малыша Оле. Нищие хватают его съедобные
ножки, предлагаяя благословить.
Оле жалобно пищит. Оле поджимает свои неокрепшие коготки. Оле цепляется
за ручку своего братца Вольфика-в-гольфиках.
Неужели эльф Вольф, чистый, как больничное стекло, привел маленького
брата в места смрада и нестабильности? О, мокрые помойки нестабильности!
И вот, милый папа, перед нами огромный дом. Вавилонская башня
устыдилась бы. Железные лестницы лепятся по стене. Решетчатые ступеньки
покрыты белым мхом и скользким калом птиц. Я испуган. Я отказываюсь
балансировать на ржавых прутьях на потеху шалопаям. Однако -- "успокойся,
Ольберт" -- имеется и внутренняя лестница. Но, Боже, как она прекрасна!
Ущербные казенные ступени. Миллионы, миллиарды ступеней. Почти полная
темнота. Редко мелькнет ангельское видение: оконце. А так продвигаемся на
ощупь, держась за слизистую стену. Грязь. Грязь. Гольфики
Вольфика плачевны. Мы идем полчаса, мы идем час. О трагическая судьба
Ольберта! Он измучен. Он больше не может идти. А что же новоявленный
Менделеев? Вольф задумался. Вольф ушел в себя. Вольфу не до слюнтяя
Ольберта. Вольф стремится выше и выше... -- лицо Оле искривляется, он готов
снова разрыдаться, его кулачки истерически сжались, но рассказ все еще
наполняет его, выскакивая на маленьких губках вместе с пузырьками слюны:
Мы тащимся уже два часа. Что же ожидает нас там, наверху? Какой
искусственный рай, созданный химическим вдохновением, послужит наградой за
столь удручающие муки? Мы входим в зоны оживления. Несколько пролетов
заполнены голосами, брызжет свет, на лестницу распахнуты двери каких-то
анфилад. И слышна музыка. Вот неожиданность -- здесь музицируют. Этажом выше
-- ряд комнат, романтически освещенных свечами. Видно, тут играют в
увеселительные и, может быть, запретные игры.
Вольф не оглядывается по сторонам. Он поднимается мимо. Его ждет сам
учитель химии. Однако Ольберт уже не в силах идти. Может быть, ему надо
остаться здесь? Углубиться в какую-нибудь из анфилад, найти теплый серый
уголок? Уткнуться туда навеки, между небом и землей? Одинокий крошечный
толстячок, затерявшийся в великой и угрюмой суете мира...
Ротик малыша снова жалобно дрожит. В глазах стоят слезы. Вот его лицо
сморщивается, как мяч, который сжали пальцами. Еще мгновение, и он
запрокидывает голову, полностью отдаваясь воплю. Он уже не обращается ко
мне, но к самому Богу, приглашая Его стать свидетелем загадочного и
трогательного события. Нечасто ведь приходится наблюдать превращение пухлого
веселого существа в фонтан скорби,
7
Теплый полдень, склоняющийся к сумеркам. Старичок прохаживается по
комнате. Прислушивается. Слышен дальний стук пишущей машинки. Это Ольберт в
своем кабинете работает над тельцем "Черной белочки".
-- Вот уж не думал, что литераторы продолжают так щедро порождать текст
после своей смерти, -- смеется старик. -- Надо полагать, когда выйдет
собрание его сочинений, оно будет состоять из двух томиков: творчество
прижизненное и творчество посмертное. Белый томик, черный томик. Белый
домик, черный домик.
Когда же скончался малыш Оле? И как он скончался?
Не припомню. Отравление? Или сердце? Наверное, сердце. Наверное, после
сытного обеда он схватился за сердце и прилег на красный ковер. Скорее
всего, он состроил капризное личико.
Постарел я. Не помню, как умер Ольберт. Забыл и то, как умерли Вольф и
Китти. Да и зачем вспоминать об этом -- их призраки окружают меня. Бедняжки
меня не видят, но зато я их вижу. Раньше-то я думал, что бывает наоборот. Но
не все можно угадать заранее. Да, не все. Не все.
Старичок попытался подобрать с ковра газету, но она окончательно
рассыпалась.
-- Пойду погуляю по саду, пока еще не стемнело, Рой, -- обращается он к
стеклянному изваянию. -- Я бы взял тебя с собой, да ведь ты уже не тот, что
прежде, правда ведь?
Старик вышел в сад, понюхал воздух, насыщенный ароматами. Вернулся за
панамой и палкой и неторопливо отправился в сладкое марево. На песке видны
следы герцога. Тонкие, полупрозрачные следы. Старик наклонился над ними,
вставив в глаз монокль в виде черной трубочки.
-- Любопытные создания -- призраки, -- бормочет он. -- Казалось бы,
бесплотны, но кое-как оставляют следы. Наверное, из последних сил.
Он идет дальше, задумчиво тряся головой. Из-за цветущих кустов
доносятся голоса. Прислушивается, направляется туда. На садовой скамейке, в
тени, сидят герцог и Китти. Китти быстро вращает солнечным зонтиком.
Прозрачные тени вышитых на зонтике пчел и жирных шмелей скользят по ее лицу,
как тени карусельных лошадок по земле. Герцог держит под мышкой Киттин
сачок.
-- Так называемая "прелестница", -- поясняет герцог, рассматривая
пойманную бабочку. -- Действительно, прелестный экземпляр. Эти прожилки
позволяют ей прибегать к очаровательным уловкам: например, притворяться
цветком. Или, если дело происходит осенью, таять среди многоцветной, опавшей
листвы.
-- Хорошо бы мне растаять среди опавшей листвы, -- замечает Китти. --
Да так, чтобы вы, герцог, никогда меня не нашли.
Китти скучает, она болтает над песком дорожки своими начищенными
ботиночками.
-- Вы будете бродить по осеннему саду и тщетно, в безумной тоске,
искать свою супругу, герцогиню. Вы будете звать меня, но отвечать вам будет
только завывание ветра и шорох сухой листвы.
Впечатлительный герцог приложил к глазам платок.
-- Что это за платок у вас?! -- вскрикивает Китти. -- Откуда у вас этот
платок?
-- Не знаю, -- рассеянно отвечает герцог. -- Кажется, я нашел его
сегодня у вас в гостиной. Он лежал на лапе Роя.
-- На лапе Роя? Что вы такое болтаете? Это же папочкин платок! Неужели
вы не помните, что только у бедного папочки были такие платки -- даже не
знаю, как определить их цвет: бело-радужные, что ли...
А вот и его герб -- капля, разбивающаяся о поверхность воды!
-- Да, это мой платок, -- говорю я (я уже давно стою прямо перед ними,
опираясь на палку). -- Я сегодня предложил его герцогу, чтобы он мог
промокнуть потоки слез, детка.
-- Ну же, отвечайте! -- требует Китти, возмущенно уставившись на
герцога. -- Где вы его взяли?
На мои разъяснения она не обращает никакого внимания. Она меня вообще
не видит. То же самое -- герцог. Он смотрит прямо на меня, словно его
интересуют пуговицы на моем жилете, но при этом явно не различает ни меня,
ни пуговиц. Он молчит.
-- Признайтесь, вы его украли, -- говорит Китти и вдруг исчезает. Она
сорвалась, увидев бабочку. Вот она уже мелькнула в конце аллеи. Сачок она
забыла, но он ей не особенно нужен. Герцог плачет. "Не расстраивайтесь,
герцог", -- говорю я. Но он не слышит моих слов. К тому же он вовсе не
расстроен, он любит плакать.
-- Опять источает слезы! -- кричит Китти, возвращаясь. -- Могу вам
сообщить, что вы самый скучный и сентиментальный феодал на свете. Директор
театра уже давно рассказал бы мне что-нибудь смешное.
О да, директор театра! Воспоминания о нем никогда нас не покинут.
8
Маленький, смуглый, с шоколадными глазами. В безупречно скроенном
костюме, с бутоном на лацкане пиджака. Он появлялся в нашей гостиной и
ослеплял всех своей несколько экзотической, белозубой улыбкой. Он дарил
Китти цветы. Конечно. Ведь Китти должна была выйти за него замуж, если
только она не отдала бы предпочтение герцогу.
А помнишь, Китти, как мы навестили директора в Главном Театре? У него
был огромный кабинет, отделанный дубом. Этот кабинет находился прямо над
знаменитым театральным органом -- когда внизу исполнялись гимны, все здесь
вибрировало. В стены кабинета были вставлены овальные портреты прославленных
актеров этого театра. Их лица выступали как бы из жемчужного тумана.
Директор рассказал нам немного про каждого.
-- Вот бледная дама в пернатом шлеме Афины. Это актриса А., одна из
звезд нашего театра. Она была замужем за коммерсантом А. Он был ревнив.
Между тем мадам А. влюбилась в некоего господина Домиана и каждый вечер
приезжала к нему в своем автомобиле, который снаружи был весь черный, а
изнутри огненно-красный. Г-н А., естественно, не знал об этих визитах: его
супруга заявляла, что она участвует в спиритических сеансах в доме своей
знакомой, графини де Д. Ревнивец А., конечно, следил за ней, но всякий раз
убеждался, что элегантный автомобиль его жены останавливается у подъезда
графини. Однако ему не было известно, что затем мадам А. выбиралась из дома
своей знакомой через черный ход и, разными тусклыми коридорчиками,
застекленными переходами, висящими над грязными дворами-колодцами, проходила
к дому господина Домиана. Однако, что еще удивительнее, не только г-н А. не
знал о визитах актрисы в дом г-на Домиана, но и сам г-н Домиан не подозревал
о них. Дело в том, что г-н Домиан был глубокий старик, разбитый параличом. К
тому же слепой и почти глухой. Когда-то, много лет назад, ему случилось
написать блестящую комедию под названием "Совушка, или Приключения господина
Дориана". Рукопись этой комедии попала сюда, в Главный Театр. Одно время ее
собирались поставить, но по какой-то причине из этого ничего не вышло.
Рукопись затерялась в пыльных залежах театральной библиотеки, где ей было
суждено прозябать в полном забвении до того дня, когда ее случайно нашла
актриса А. Именно искрящийся юмор и прекрасный слог этой комедии покорили ее
сердце. А. решила во что бы то ни стало разыскать автора этого произведения.
И, действительно, вскоре она нашла его в темной, тусклой комнате, где не
было ничего, кроме огромного полуразвалившегося буфета с вставленным в него
так называемым зеркалом -- в этом отвратительном куске никогда ничего не
отражалось. Сам Домиан сидел в кресле с металлическими колесами, совершенно
лысый, закутанный в плед, в черных слепцовских очках, покрытый пылью и
окруженный мухами.
Мадам А. стала наведываться в эту комнату и с помощью большой трубы
разговаривать со стариком. Неизвестно, что она нашептывала в эту трубу,
поднося ее к уху старика, из которого торчали пучки седых волосков. Однако
окостеневший хозяин комнаты постепенно стал проявлять признаки волнения. Он
полагал, что оглох давно и полностью, поэтому голос, доносящийся до него,
казался ему пришельцем из потустороннего мира. Голос сочился как бы из
бесконечной дали, пробиваясь сквозь туманы глухоты, и в нем не было ничего
человеческого. Казалось, что он приносит с собой райские ароматы -- бедный
слепец не догадывался, что это изысканные духи мадам А.
Однако продолжалось все это не слишком долго. Вскоре коммерсант А.,
измученный подозрениями, обнаружил, куда ходит его жена. На существование
ветхого старика он не обратил никакого внимания, но у паралитика был сын,
некий господин сомнительной репутации, сердцеед, кутила и авантюрист.
Коммерсант немедленно воссоздал картину его тайных встреч с мадам А. в доме
старика. Обуреваемый гневом и ревностью, он разузнал, что господин
Домиан-младший каждый вечер имеет обыкновение бывать в карточном клубе
"Равель", откуда выходит обычно около двенадцати.
И вот, в зимнюю мрачную ночь он ожидал его у здания клуба.
Первоначально он собирался лишь переговорить с господином Домианом-млад-шим,
но когда он увидел его огромную шубу на лисьем меху, наглое лицо с
огненно-черными глазами, закрученные усы и щегольскую бородку, последние
сомнения покинули его. Он бросился на картежника с ножом.
Однако Домиан-младший был ловок, молод и резв. Потасовка длилась
минуту, затем раздался выстрел. Раб ревности умер в снегу, под горькие звуки
"Болеро", у входа в дом, где собирались рабы другого жестокого бога --
азарта. Автомобиль унес убийцу во мрак, и беснующаяся вьюга задернула за ним
свой занавес.
Господин Домиан-младший в ту же ночь уехал заграницу. Мадам А., узнав о
гибели своего мужа, надела траур, прекратила выступать в театре и
затворилась в своем загородном особняке. Ее визиты в угрюмую полупустую
комнату Домиана-старшего прекратились. Старец напрасно ожидал новых
откровений из иного мира. За это время он привык к нежным ангельским
нашептываниям и теперь очень страдал от скуки, которая раньше была ему
неведома.
Так в томлении прошло несколько лет.
Однажды, светлым майским днем, в городе снова появился Домиан-младший.
Он сбрил свои холеные усики и бородку, но его черные глаза сверкали еще
ярче, чем прежде. Выйдя из-под сводов вокзала, он увидел свежую афишу:
"Звезда театрального мира мадам А. возвращается на сцену! Сегодня премьера
спектакля "Совушка, или Приключения господина Дориана" по пьесе Д. Домиана.
Мадам А. в главной роли". Домиан-младший прошел дальше, постукивая тростью.
В тот же день этого господина можно было видеть в мрачной комнате с давно
обвалившимся буфетом, где было огромное количество паутины. Он привез своему
отцу, Домиану-старшему, слуховую трубу с огромным раструбом, которую он
купил в одной древней почитаемой аптеке в Германии. "Как поживаете, отец?"
-- спросил джентльмен в трубу. Кстати, это уже вторая труба в нашей истории.
Эти две слуховые трубы -- своего рода близнецы. Отец пожаловался на скуку.
Домиан-младший, недолго раздумывая, отправился к своему давнему другу,
директору театра (вашему покорному слуге), и получил два билета в ложу на
премьеру спектакля " Совушка, или Приключения господина Дориана".
В тот же вечер он вкатил в роскошно украшенную ложу кресло на колесах,
в котором сидел господин Домиан-старший, автор пьесы. В руке До-миан-старший
держал слуховую трубу, прислонив ее к уху и направив в сторону сцены.
Поднялся занавес. Зал был полон. Мадам А. вышла на сцену, согласно сценарию,
в белом платье, увенчанная шлемом Афины. На острие шлема была укреплена
стеклянная статуэтка белой полярной совы. При первых звуках ее голоса (ее
монолог начинался словами "Как давно, как давно я не была в этом доме...")
лицо старика необычайно оживилось. Он затряс головой, серебристые волоски в
его ушах затрепетали. Он пробормотал: "Я узнаю, узнаю..." Через несколько
минут он произнес: "Да, это оно! Снова оно, то самое..."
Еще через минуту он громко воскликнул: "Мне пора!" Не знаю почему, но в
театре началась паника. Дамы, лорнировавшие старца, стали кричать "Умер,
умер!". Старик, действительно, умер. До сих пор не понимаю, что произошло с
публикой! Должно быть, слухи о надвигающейся войне довели ее до истерики.
В суматохе Домиан-младший вынул из петлицы красную розу и бросил ее
мадам А., причем его эбеновые глаза сверкнули. Через месяц звезда
театрального мира актриса А. вышла замуж за господина Домиана-младшего.
Свидетелем на их свадьбе был ваш покорный слуга (легкий полупоклон).
Китти в восторге.
-- Однако чем кончилась история этого брака? -- осведомляюсь я.
-- Она кончилась печально. Через год Домиан-младший уехал в Карл-сбад
лечиться от желудочной язвы, но вскоре после этого от него пришла телеграмма
из Парижа, в которой он сообщал, что женился на какой-то аристократке и они
намереваются отправиться в кругосветное путешествие. Узнав об этом, мадам А.
отравилась.
(Пауза.)
Надеюсь, что не слишком огорчил вас, мадемуазель?
-- Нет, директор, мне совсем не жаль вашу мадам А. На мой взгляд, люди
вообще не заслуживают сочувствия, если их имя не длиннее одной буквы. Ведь
это, согласитесь, пустышки, а не люди. А что стало с трубами?
-- Слуховые трубы старика, эти эбонитовые близнецы, находятся в
Театральном музее. Они вложены друг в друга и навеки скреплены медным
кольцом. Это должно, видимо, означать, что все чувства человека (в том числе
и слух) обретают после смерти самодостаточность. Обнявшись, как Тристан и
Изольда, трубы лежат в музейной витрине, и о них больше нечего рассказать.
Зато я могу кое-что поведать вот об этом джентльмене в костюме Гамлета, чей
портрет я вам покажу, если вы соблаговолите вылезти из-под стола.
(Китти забралась под письменный стол и роется в мусорной корзине.)
На овальной фотографии можно было разглядеть худого мужчину с
ярко-красными губами и черными ретушированными бровями, одна из которых
криво приподнималась. Его чрезвычайно близко посаженные глаза, казалось, с
язвительным изумлением разглядывали зрителя. Эти глазки напоминали две едкие
икринки, выпавшие на скатерть из серебряного блюда, доверху наполненного
осетровой икрой. Из блюда, увенчанного снегом и лимонами.
-- Это Массо, знаменитый актер, оригинал, любопытнейший тип. Из всех
анекдотов о нем расскажу поучительную историю его гибели.
Он был донжуан и забавник. Однажды в его мозгу, среди прочих проказ,
зародилась идея свести вместе всех его любовниц. Он рассчитывал, что
вспыхнет скандальчик или образуется какое другое "неловкое положение",
которое даст ему повод исподтишка повеселиться. Такие этюды этот остряк
называл в кругу друзей "массовками". И вот он назначил женщинам "интимное
свидание", но всем -- в одном и том же месте, в одно и то же время.
Приготовив завтрак для двух персон в комнате, украшенной непомерно огромными
букетами белых роз, Массо предвкушал забаву, коротая время за пасьянсом --
он любил гадать на картах. Не знаю, что он себе нагадал, но случилось так,
что одна из его любовниц (некая дебютантка Р.) пришла первой и застрелила
проказника. Она была уверена, что никто в мире не ведает о назначенном
свидании. Обеспечив себе надежное алиби, она решилась жестоко рассчитаться с
любовником за бесчисленные измены, за унижения, за несдержанное обещание
устроить ей роль в одном из модных спектаклей. Однако не успела незадачливая
дебютантка покинуть комнату, как туда вошла следующая гостья. В панике
актриса застрелила внезапную свидетельницу. Р. уже хотела выбежать из
комнаты, но столкнулась в дверях с третьей любовницей, которую постигла та
же участь. Одержимая желанием покинуть наконец место преступления,
дебютантка снова бросилась к выходу, но увидела еще двух входящих дам.
Должно быть, не без сдавленного вопля убила их. То же самое ей пришлось
сделать и с седьмой любовницей Массо. В то же мгновение появились двое
других, которых она уложила двумя выстрелами. Десятая девушка была красавица
с золотистыми локонами, но и ее не удалось пощадить. Одиннадцатая была
совсем молода, почти ребенок -- это не спасло ее. Выстрелы все не
прекращались, как будто работал какой-то шумный, устаревший механизм. Через
какое-то время полицейские, защищенные пуленепробиваемыми щитами, ворвались
в комнату с букетами белых роз. Они обнаружили там тела Массо и его
семнадцати любовниц, а также совершенно безумную дебютантку Р., которая
сидела на софе и, продолжая заряжать пистолет, с сумасшедшим смехом
расстреливала входную дверь. Ее обезоружили и прямо из окровавленной комнаты
отправили в сумасшедший дом. До сих пор она там и все не устает бредить о
забрызганных клетчатых рубашках, о том, что белые лепестки роз надо успеть
перекрасить в красный цвет до прихода Королевы. Не знаю отчего (может быть,
пасьянс и серебряные вазы на столе сыграли свою роль), ее бред связан с
содержанием "Алисы в Стране Чудес". Больная называет себя вымышленным именем
Элси, искажая имя Элис. Она озабочена тем, чтобы карты успели перекрасить
белые розы в красные, хотя Алиса и Дама Сердец кажутся ей одним и тем же
лицом. Кровожадность Дамы Сердец она оправдывает тем, что все валеты, дамы и
короли -- двухголовые. Отрубить одну из голов не означает убить, это всего
лишь "укорачивание". Она вообще называет людей "двухголовыми" и старается
смягчить свою вину, утверждая, что убитые ею девушки -- всего лишь чьи-то
двойники. Классическая шизофрения -- ничего оригинального. На игральных
каргах персонажи кажутся "по пояс погруженными в зеркало". Элси тоже
попросила сшить себе юбку из зеркальной ткани, чтобы походить на карту. Я
иногда навещаю ее, приношу сладкое.
Директор театра, закончив рассказ, задумчиво склонил набок свою
небольшую голову. В его глазах не было ни тени смеха. Уж если бы болтунишка
Ольберт взялся рассказывать подобные побасенки, то в конце непременно бы
пустил пузыри.
Однако Китти уже давно не слушает. Она нашла где-то пыльные зеленые
леденцы и теперь сидит на шкафу и сосет. Мы слышим легкий свист и
причмокивание, как будто за резным фронтоном шкафа змея заглатывает кролика.
Директор ничуть не обескуражен.
-- Должно быть, я наскучил сеньорите глупыми приключениями из нашей
бесцветной театральной жизни, -- замечает он с небольшим полупоклоном.
Без сомнения, Китти, ты стала бы супругой самого тактичного господина
на свете, но... Не сложилось.
Это был жаркий летний день. Мы обедали. Я, Ольберт, Китти, герцог и
Вольф. Солнце обильно просеивалось сквозь заросли плюща, обвивающего решетку
веранды. Вольф недавно вернулся с работы, где он провел почти всю ночь.
Видно, он очень устал, хотя вообще-то он вынослив. Он ел суп, низко наклоняя
над тарелкой свою тяжелую лысую, густо посыпанную коричневыми веснушками
голову. Вот он доедает остатки дымящегося супа, откладывает ложку, тщательно
протирает губы салфеткой. Его глаза за толстыми стеклами очков, как всегда,
полуприкрыты, словно он погружен в какую-то глубокую задумчивость.
-- Китти, я хочу поговорить с тобой, -- начинает он (низкий, медленный
голос). -- Видишь ли, сегодня я имел возможность беседовать с одним твоим
знакомым...
Китти вопросительно поднимает брови.
-- Он, кажется, был директором театра...
Киттины брови поднимаются еще выше.
-- Был? -- вмешивается тонкий голосок Ольберта. -- Его что, уволили?
Выдворили из театра?
Вольф морщится, медленно, задумчиво потирает лоб ладонью.
-- Дело в том... Мы работали вместе...
-- Вот как? -- снова встревает несносный Ольберт. -- Вы, должно быть,
решили вместе поставить спектакль, а?
Вольф не слушает. Он думает о чем-то, напряженно отыскивает слова.
-- Китти, ты понимаешь, его поручили мне...
Глаза Китти медленно расширяются. Глупый Ольберт, все еще фыркая,
перетаскивает себе на тарелку длинный рыбий хвост.
-- Он был замешан в каком-то деле, Китти. Я работал с ним сегодня все
утро. Он ушел... Совсем ушел. Как бы это тебе сказать? Ушел врассыпную.
Понимаешь?
Ольберт перестает чавкать и переводит круглые глаза с одного лица на
другое.
Вольф неторопливо, рассеянно лезет за пазуху, роется во внутреннем
кармане. Кажется, он думает о чем-то другом.
-- Да, вот это. -- Он вынимает небольшой сверток. -- Он сказал
(морщится), что всегда хотел предложить тебе свою руку и сердце. Таково было
его желание. Он попросил меня об этом.
Вольф медленно, осторожно разворачивает сверток -- несколько слоев
плотной, непромокаемой бумаги -- и вынимает какой-то предмет. Это рука.
Небольшая, смуглая, прекрасной формы, с изумрудом на пальце. Не может быть
никакого сомнения. Эта красивая, слегка изнеженная рука могла принадлежать
только одному человеку в мире -- директору театра.
-- Это тебе, Китти, -- говорит Вольф, протягивая ей через стол
отрезанную руку. Он держит ее, как держат за спинку маленького зверька. --
На, возьми, Китти.
Китти не двигается. Вольф некоторое время держит руку на весу, наивно
ожидая, что Китти примет дар. Не дождавшись, Вольф осторожно кладет руку
директора возле Киттиного прибора. Но Китти только неподвижно смотрит на
руку, которая держит руку. Рука в руке. Маленькая, мертвая, смуглая -- в
большой, живой, бледной.
Затем он достает свой портфель, роется в нем. Извлекает из бокового
отделения тяжелый, немного влажный мешочек из грубой материи.
-- Сердце. Он просил меня передать тебе руку и сердце. Вот они. Вольф
протягивает мешочек через стол и кладет его рядом с рукой. Но Китти уже
исчезла, оставив упавший стул, опрокинутый столик,
грохнувшую стеклянную дверь. И, конечно же, крик. В таких случаях без
крика, как правило, не обходится.
9
-- Ну же, Ольберт, ты не закончил свой рассказ о том, как вы с Вольфом
ходили к учителю химии. Дай я вытру тебе слюни, и продолжай.
Ольберт продолжает. После истерики его интонации становятся иными -- он
говорит быстро, без гримас. В его лице появляется нечто суховатое и
значительное, как у человека озабоченного.
-- Ну, нечего рассусоливать. Дорасскажу коротко. Я видел учителя химии.
Наше восхождение было ненапрасным. Это замечательный человек. Как описать
мудреца? Легенда гласит, что Конфуций, после единственной встречи с Лао Цзы,
произнес одну лишь фразу: "Я видел дракона". Я тоже видел дракона. Он
скромен, очень благожелателен, вежлив. Но... Какое ощущение оставила во мне
эта встреча? Знаешь ли, только горечь. Мне самому хотелось бы быть его
учеником, но я ведь ничего не смыслю в химии. Наука, ко всему прочему,
кажется мне страшной.
В этот раз учитель говорил о химии оплодотворения, о химии размножения
у животных и растений. Мне казалось, он все время говорит обо мне. О моей
душе. Я никогда прежде не слышал речи столь телепатически проницательной. Он
подробно охарактеризовал сперматозоид. Я узнал себя. Я чувствовал себя
Нарциссом, впервые заглянувшим в воды реки. Я не смог слушать дальше. Я
уснул.
-- Как же выглядит этот дракон?
-- Никак. Обычный старик. Можно сказать, у него и нет внешности, если
не считать тех атрибутов, которыми любой настоящий старик должен обладать:
он лыс, сед, у него длинная борода, морщины... В таких случаях принято
добавлять: "Но вот глаза! В глазах!.." Но и в глазах у него не было ничего,
кроме старческого здравомыслия. Не в глазах дело. Где мой белый спиральный
хвостик, которым я, как пружинкой, оттолкнулся бы от зеленых стен, покрытых
золотым и однообразным орнаментом?
Там, наверху, очень уютно. За бедной дощатой дверью, похожей на дверь
сарая, открылась нам зала со стеклянными потолками. Когда-то здесь было
ателье одного скульптора. Мы были словно в колоссальной теплице, к тому же
по стеклам струился дождь. Чаепитие за небольшим столиком. Кресла очень
мягкие. Кроме этих кресел, мебели нет. В дальнем углу -- обитый железом
химический стол, заставленный склянками. Они же, как армии перед битвой,
тесно стоят на полу, так что приходится передвигаться на цыпочках, чтобы не
раздавить колбы с эликсирами бессмертия. В толпе химической посуды взгляд
удивленно находит стеклянного кенгуру, крупные осколки вомбатов -- то, что
осталось от скульптора. После беседы Вольф и учитель встают и направляются к
железному химическому столу. Они идут неторопливо, осторожно пробираясь
между расставленными на полу колбами и ретортами. Учитель несколько раз с
улыбкой оглядывается, приглашая меня следовать за ними. Но я не в силах
подняться. Кресло мягкое, словно вязкая каша. Я слишком устал во время
нашего восхождения, уже не могу противиться сну. Но любопытство все же не
совсем потухло -- со своего места я пытаюсь разглядеть, что делают учитель и
Вольф. Однако комната, как я уже сказал, очень просторная, и в пасмурной
полутьме их почти не видно в дальнем углу. Только шелест дождя и отблеск
огня -- наверное, зажгли горелку -- и две тени, низко нагнувшиеся над
столом. Но я уже не могу всматриваться -- я сплю.
10
-- Все же я не могу понять этого, Вольф! Ты же способный
естествоиспытатель, ты так долго занимался химией... Нет, постой, не
перебивай меня, я знаю, что ты хочешь сказать -- что, занимаясь той
профессией, которую ты себе избрал, ты, в известном смысле, останешься
естествоиспытателем. Не спорю... Пойми меня правильно: ты с детства был так
серьезен, так вдумчив, вечерами ты всегда сидел над книгами в зеленоватом
свете своей настольной лампы. Иногда я украдкой подходил к двери твоей
комнаты и смотрел на тебя сквозь узорчатое стекло. Твой выпуклый лоб почти
соприкасался с раскаленным колпаком лампы, в стеклах очков плавали сияющие
пятна, и твои вывернутые веки казались опаленными ярким солнцем, твои
сильные плечи склонялись, как будто под гнетом знаний о мире -- тех, что
некогда ускользнули от меня.
Ты любил заниматься спортом, Вольф. Ты ходил на футбольное поле в
старом сосновом лесу, где я иногда поджидал тебя на рассохшейся скамейке,
предаваясь размышлениям среди хвои, тумана и комаров. Я рассеянно мечтал о
том (должно быть, только потому, что под рукой у меня не было других, более
увлекательных грез), как ты совершишь научное открытие и наше родовое имя
будет навеки связано с каким-нибудь еще неизвестным элементом, с
неизведанным типом реакции, с закономерностью. Неужели ты утратил
способность охватывать целое, и всякая вещь в твоем взгляде распадается сама
собой, крошась на частицы?
Разговор происходил вскоре после мрачного случая с рукой и сердцем.
Вольф, после некоторой паузы, ответил мне:
-- Отец, трудно объяснить то, что слишком уж нуждается в объяснениях.
По мне -- лучше бы промолчать. Дело мое не имеет ничего общего с по-.
знанием -- я отказался от познания и от науки. Возможно, я не заслужил их.
Или они не заслужили меня. Научное познание желает влиять на будущее, я же
предпочел простую сосредоточенность на том, что не имеет продолжения, -- на
безнадежном. Я всегда был слишком застенчив, мучительно застенчив, а из
застенчивости и мук рождается застенок, где мне и место. Порою говорят:
заплечных дел мастер. Я не считаю себя мастером. Я тень, которая немного
дает о себе знать. Изнанка, лишь слегка проступающая сквозь фасад.
-- Все это, Вольф, пустые слова, -- раздраженно прервал я его.
-- Хочу сказать только, что я не жестокий, -- угрюмо промолвил Вольф.
-- О нашей работе столько легенд. Они наивны. Редко мне приходится лишать
жизни или причинять боль. Меня вызывают внезапными звонками в течение дня и
ночи только потому, что мое присутствие успокаивает. В нашей стране, как и в
других странах, власть имущие более других заслуживают сострадания: человек
пятнадцать истерзанных стариков, похожих на растоптанные куски льда. Кто,
кроме меня, способен пожалеть их? Для них было бы лучше, чтобы с ними
расправились в одночасье. Но народа нет, есть публика. И она предпочитает
исподволь издеваться над ними, потерявшими остатки чувствительности. Чтобы
продлить издевательство, бразды правления не изымают из их сморщенных,
веснушчатых рук. И только я могу изредка отомстить за стариков -- расчленить
расчле-нителя, заговорить заговорщика.
-- Честно говоря, с недоумением слушаю тебя, сынок. Сколько живу,
никогда не думал о власть имущих. Мы -- вольный род, которому нет дела до
каких-то там правителей.
-- В нашем вольном роду, как я слышал, было немало извращенцев. Вам
было бы проще думать, что я садист. Ну что ж, думайте так. Хотя я вовсе не
садист, разве только понимать под этим словом бесконечную скуку и
бесконечную ответственность. Мне вот не могут простить, что я расчленил
директора театра. Но он был преступник. Все его анекдоты о подстроенных и в
то же время случайных убийствах, которые мы принимали за светскую мифологию,
на самом деле содержали в себе скрытое зерно -- в искаженной и пошлой форме
он щеголял перед нами своими собственными преступлениями. Свои злодеяния он
переодевал и раскрашивал, придавая им вид заведомо искусственный, вид
ярмарочных паяцев. И такой человек мог стать мужем Китти! Теперь о судьбе
девчонки можно не беспокоиться -- она будет женой герцога. Герцог живет,
руководствуясь правилом: "Все существующее смывается горькими слезами".
Слезы никогда не бывают неуместными, ведь мы обитаем в Юдоли Слез. Слезы --
я мог бы рассказать об их химическом составе...
-- В другой раз. Ума не приложу, как тебе вообще пришла в голову мысль
заняться таким ремеслом. Может быть, какие-нибудь книги на тебя повлияли?
-- Конечно, я изучил целый ряд книг. "Пытки и орудия пыток от древности
идо наших дней", "Техника наказания", "Психологические аспекты смертной
казни", "Медик и священник: последний час жизни осужденного перед казнью",
"Эволюция телесных наказаний в Китае", "Допрос и дознание", "Расстрел",
"Использование психотропных препаратов при допросе", "Гении пристрастного
допроса: традиции и индивидуальность", "Безболезненные пытки", "Казнь
унизительная и казнь возвышенная", "Зрелищные аспекты публичной казни",
"Огонь и вода как средства издевательства над телом и душой", "Железный
чулок", "Дневники палача-краснодеревщика", "Колодки", "Ужас и He-Ужас",
"Крест, Петля и Яма", "Электричество против лжи", "Детектор лжи и другие
Машины поиска истины", "Завтра меня не будет", "Гильотина", "Гильотина и
Революция", "Яды", "Этика пристрастия".
-- Неужели эти теоретические работы навели тебя на мысль о выборе
профессии?
-- Я ощутил свое призвание внезапно. Если помнишь, в школе, которую я
посещал, было принято танцевать народные танцы. Иногда нас возили в
отдаленные деревни, чтобы мы обучились древним танцам, еще сохранившимся в
этих уголках. Как-то раз нас повезли особенно далеко, в настоящую глушь.
Приехали в деревню. Это был день праздника, отмечаемого только в тех местах.
Люди, одетые в яркое, танцевали на зеленом лугу. Мы, дети, тоже были одеты в
фольклорные костюмы. Я всегда чувствовал себя неловко в этих пестрых
тужурках, обшитых бахромой, в сапожках с бубенцами. После танцев, когда все
присели к костру, мы с приятелем, усталые и удрученные шумом и непривычными
скрежещущими звуками музыки, отправились на прогулку, чтобы не участвовать в
разговоре и гаданиях. Гуляя, вышли на небольшой обрыв. По пути нарвали
орехов, но они оказались совсем незрелые. Вдруг внизу появились четыре
фигуры, стремительно бегущие в нашем направлении. Впереди бежал мужчина, его
настигали три женщины. Мужчина начал карабкаться на обрыв. Когда он уже
почти добрался до нас (мы стояли неподвижно, в своих нелепых ярких одеждах),
женщины настигли его. Это были три старухи, каждая сжимала в руке кнут. Они
стали беспощадно бичевать его. Он вертелся на земле, сворачиваясь и
прикрывая себя руками. Все они молчали, никто не издал ни звука -- только
свист кнутов. Наконец, одна из старух сделала жест рукой, означающий конец
наказания. Она подошла к лежащему в пыли человеку и произнесла единственное
слово: "Xu6of|". На малоизвестном наречии тех мест это означает "выкидыш", и
там это считается тяжелейшим оскорблением. Старухи ушли. Избитый с трудом
приподнялся. Он был одет как деревенский щеголь: черная шелковая рубашка,
кожаные штаны, на запястье золотая цепочка. Лицо у него было старое,
окровавленное. Свалявшиеся, седые волосы. С того места было далеко видно.
Где-то горели костры, и остатки хороводов еще кружились на лугах.
Потом мне рассказали, что много лет назад этого человека здесь считали
отравителем. Доказать его вину не удалось.
Тогда я понял, какому делу мне придется посвятить себя. Старая Эриния,
произносящая "ксюдонь", и резкий этнографический привкус этой сцены, черные
праздничные платья старух, богато расшитые черным бисером, -- все это было
случайностью, но из разряда тех случайностей, которые служат року.
-- Ну что ж, Вольф, ты, пожалуй, романтик. Ведь мы назвали тебя в честь
серого волка, подбирающегося к детской колыбели. Ну, не знаю, не знаю...
Лично я не выношу казней.
11
Стемнело. В гостиной мерцает только огонек сигары, которую хозяин дома
по обыкновению закуривает в сумерках. Наконец зажигается лампа -- оранжевый
торшер над глубоким креслом. Старичок недавно пробудился от бездонного
послеобеденного сна. Поискал газету, но не нашел. Странно. Внезапный резкий
звонок. Ага, это гости -- почитатели Ольбертова таланта. Стук, голоса,
кто-то рассмеялся. В одно мгновение вспыхивает десяток ламп. Ого! Смеясь,
они наполняют гостиную. Рассыпались по красному ковру, уселись на спинках
кресел. Некто, похожий на посетителей ипподромов, нервно расхаживает взад и
вперед со стаканом вермута, нетерпеливо пощелкивая пальцем по щеке. Здесь
даже министр изящной словесности -- длинноволосый, неподвижный, в сером
грубом пончо. За ним скромно согнулся человек атлетического сложения, он,
как всегда, не знает, куда деть свои сильные обмороженные руки. Это старый
друг семьи -- скульптор, работающий по стеклу. А публика все прибывает! Наш
старичок уже давно покинул свое место в большом кресле, уступив его двум
девушкам, болезненно одетым во все белое, вязаное на спицах. Потом незаметно
появилась еще одна такая же девушка. Эти девушки -- тройняшки. Личики у них
бледные и почти совсем одинаковые, только кулончики на белых шейках содержат
в себе искры различных оттенков. Оседлан даже стеклянный Рой -- на нем
расположился посол Японии. Старика, как водится, никто не замечает. Наконец
появляется Ольберт. Он в новой кофте с кармашками -- вокруг жирной талии
бегут полярные олени, над их головами вышито северное сияние. Под руку с
герцогом спускается по лестнице. Все в сборе? Отсутствуют Китти и Вольф.
Китти, заплаканная, спит в своей комнате -- ей не разрешили присутствовать
на чтении по причине позднего часа. Вольф предпочитает одиночество.
Вот Ольберту подносят теплое молоко с инжиром (он якобы простужен).
Наконец, он вынимает какие-то мятые бумажки, разглаживает их, надевает очки,
обводит присутствующих изумленным взглядом и произносит:
-- То, что я вам прочту, имеет название "Черная белочка". Оно состоит
из двух частей. Я начну с первой части, которая называется УТРО.
Содержание
Михаил Рыклин
Триумф детриумфатора 2
I. Кумирня мертвеца 23
II. Холод и вещи
Пассо и детриумфация 67
Знак 77
История потерянного зеркальца 91
История потерянного крестика 108
История потерянной куклы 126
Лед в снегу 133
III. Еда
Около молока 150
Супы 158
Яйцо 161
Горячее 192
Грибы 196
Ватрушечка 204
Кекс 212
Бублик 217
Колобок 224
Каша с медом, лед с медом, холодец 267
IV. Мой путь к Белоснежному дому
День рождения Гитлера 286
Мой путь к Белоснежному дому 289
Бинокль и Монокль I 294
Комментарий 312
Бинокль и Монокль II 318
Инструкция по пользованию Биноклем и Моноклем 339
Предатель Ада 340
Философствующая группа и музей философии 357
Голос из китайского ресторана 364
Эпилог 372
Михаил Рыклин
Триумф детриумфатора
Линия и буква
В свой тридцать один год Павел Пепперштейн не просто писатель со
стажем. Я вообще не знаю, когда он начал писать. Первый из публикуемых здесь
текстов был написан еще при жизни Брежнева (в 1982 году), в эпоху, которая и
людям постарше теперь представляется почти мифологической. И хотя автору
было тогда всего шестнадцать, он утверждает, что это далеко не первый из
написанных им рассказов. Паша -- случай в истории литературы довольно редкий
-- приходит к нам со своим письмом прямо из детства. Такое невообразимо
раннее начало составляет часть его литературного проекта. Автор "Диеты
старика" решил, что вместо того, чтобы, подобно Набокову и Прусту, постоянно
обретать утраченное детство, вступая в сложные игры с Мнемозиной, лучше
вообще из него не выходить, оставаться в нем. Это можно расшифровать и так:
постоянно созревать внутри собственного детства, давать взрослеть эйдосу
детства, не расставаться с игрушками и тогда, когда рисуешь, пишешь, делаешь
инсталляцию или создаешь "тексты дискурса" (так Паша называет свои более
поздние теоретические вещи). Конечно, подобной эйдетизации поддается не
всякое детство, но такое, которое содержало в себе возможность практически
бесконечного опосредования -- и притом еще ребенок должен суметь
воспользоваться стечением обстоятельств. Уникальность случая Паши в том, что
оба эти условия совпали. Он был ребенком внутри очень важной отрасли
советского книжного производства, иллюстрирования и написания детских книг.
Мифология детства создавалась В.Пивоваровым, И. Пивоваровой (родителями П.
Пепперштейна), И.Кабаковым, Э.Булатовым, Г. Сапгиром и другими членами
концептуального крута одновременно с критической рефлексией по поводу
возможностей такой мифологии, ее законов, степени вмешательства идеологии и
т.д. Как русская литература вышла из гоголевской "Шинели", так московский
концептуализм во многом вышел из иллюстрирования детских книжек. Павел
Пепперштейн рос, можно сказать, в эпицентре этого процесса, вещи приходили к
нему вместе со своими эйдосами. Экспериментальность его детства -- в том,
что оно располагалось внутри "индустрии детства", было многократно
опосредовано; в результате непосредственно воспринимался сам акт
иллюстрирования. Ближайшим эквилентом такого детства является не состояние
взрослости, когда принцип реальности, прикрываясь щитом ответственности,
доминирует в той или иной форме , а некая былинная старость, по сравнению с
которой столетний юбилей -- это просто детская шалость. Старик в "Диете
старика" не только не отучился лепетать, но изрядно усовершенствовал это
умение и ценой длительного упражнения в лепете обрел право говорить вещи,
которые конвенция строго-настрого запрещает произносить взрослому (зрелому)
человеку. Впрочем, для прямого выпадания из детства в баснословную старость
необходимо соблюсти одно условие: жизнь в таком случае должна с самого
начала быть перемешанной со смертью, которая не имеет возраста и поэтому
может произвольно украшать себя атрибутами детскости и стариковства.
Ребенок, упорно сопротивляющийся выпадению из поддающегося опосредованию
детства, -- тот же древний старик, отказывающийся принимать пищу и тем самым
продолжающий стареть без конца. Иначе и быть не может: ведь то, что обычно
следует за детством, здесь
a priori объявляется достоянием самого детства (становящегося как бы
метадетством). Если из обычного детства выпадают во взрослость, из
метадетства не выпадают вообще: старость является точно таким же его
атрибутом, как и младенчество. Героем рассказа "Кумирня мертвеца",
открывающего книгу, является старичок, сидящий рядом с собакой по имени Рой,
точной стеклянной копией умершей собаки. Из реплик персонажей мы понимаем,
что старичок давно умер. Да и те, кто говорят о нем, сами зависли между
жизнью и смертью (куда ближе к смерти) и не умирают разве что потому, что на
них смотрит стеклянная собака, единственный "живой" герой рассказа. Своей
стеклянностью эта собака оживляет все остальное (в тексте есть намек, что он
написан скульптором, создавшим собаку). Сумей она закрыть глаза -- и все
исчезнет, потому что повествования Пепперштейна длятся благодаря мертвому
взгляду. В рассказе "История потерянного зеркальца" героем является
небольшое зеркало с изображением Кремля, которое переходит от девочки к
симпатичному матерому бандиту, знакомится с его пистолетом, оказывается
косвенной причиной его осуждения и смерти, попадает к другой девочке, дочери
раскрывшего преступление следователя, после чего возвращается к своей
первоначальной обладательнице, чтобы среди прочего запечатлеть акт ее соития
с виолончелистом по фамилии Плеве и многие другие детали. Вся проза
Пепперштейна в той или иной мере зеркальна. Даже если зеркало не становится
действующим лицом, все непрерывно отражается во всем. Невозмутимая
зеркальность позволяет избежать психологизации и так называемой "лепки
характеров", которой обычно кичатся профессиональные литераторы. Мир зримого
и мир текста в этой прозе строго разделены. Профессиональный график,
Пепперштейн, как никто другой, осознает произвольность и тщетность любого
иллюстрирования. Линию отделяет от буквы невидимая, но несводимая дистанция.
Более того, это два радикально различных смыслообразующих принципа. Зрение и
письмо значимы друг для друга в силу разделенности, которая достигает своего
апогея в тот момент, когда они, как кому-то может пригрезиться, совпадают,
исчезают друг в друге. Пожалуй, только тексты профессионального рисовальщика
могут с такой неизменной настойчивостью демонстрировать то, чем литературное
зрение отличается от простого умения видеть и является по отношению к этому
умению разновидностью самопросветляющейся слепоты. Эта невидимая
демаркационная линия непрерывно воспроизводится актами "пустотного
иллюстрирования", иначе говоря, демонстрацией простой интенции что-то
прояснить в тексте с помощью рисунка (и, конечно, наоборот). На аутизм
обречен, собственно, не рисунок, а само стремление перекодировать линию в
букву.
В текстах Пепперштейна присутствует воля не делать литературу
профессией. В этом она асимметрична рисованию. Акт рисования график
превращает в средство обмена с миром, обеспечивающее ему условия
существования. Даже не работая на заказ, он внутренне принимает в себя
взгляд Другого (на профанном языке это также называется "учитывать чужой
вкус", воспроизводить предполагаемый вектор желания). Зато в качестве
пишущего он берет реванш, отказываясь вступать в обмен. Он не вступает с
читателем в компромисс, не подстраивается под него, вынуждая его пройти весь
путь, который преодолел автор. Для читателя такая установка крайне
непривычна: ведь на бессознательном подстраивании под него и строится
литературный успех в обычном понимании слова. Писатель принимается
аудиторией с энтузиазмом потому, что до этого он с не меньшим, хотя и
стыдливо скрываемым энтузиазмом принял эту самую аудиторию в себя. В
домогающейся успеха литературе всегда уже учтен ее читатель, и она
ограничивается тем, что просто "разрабатывает" его. Только небескорыстное
простодушие журналистов заставляет их усматривать в этой встрече некий coup
de foudre, что-то неожиданное и непредсказуемое. Пепперштейн -- редкий
писатель, который действительно не знает и даже не хочет знать, каким будет
его читатель. Со стороны он вполне может сойти за Нарцисса, тем более, что
его нарраторы, как правило, не скрывают своего нарциссизма, при виде
читателя в ужасе закрывая лицо руками. Но эти тексты не нарциссичны, если
понимать под нарциссизмом любование самим собой. Это через них, напротив,
постоянно любуются чем-то совершенно иным, калейдоскопическим струением
внешнего. Автор все время хочет разглядеть, прописать нечто настолько
мелкое, что оно может представлять разве что интеллектуальный интерес.
Принимая сторону детали, он незаметно принимает в себя смерть. Местами его
письмо является уже загробным, вестью с того света. Литература для
Пепперштейна -- это мир возможного, которое, впрочем, не следует путать с
потенциальным, с тем, чему еще только предстоит реализовать себя. Напротив,
лишь возможное, не нуждаясь в воплощении, принадлежит к сфере актуального
постоянно. Герой рассказа "Предатель Ада" изобретает оружие, позволяющее
превращать смерть в перманентное, интенсивное наслаждение, делая ее
желательной и желанной. Тем самым он, подумают некоторые, выбирает сторону
Рая. Но смерти, увы! боятся как раз потому, что она несет с собой чудовищное
по интенсивности наслаждение, граничащее с ужасом и уже не нуждающееся для
самореализации в фигуре личности. Ведь только факт воплощения ограничивает
ужас его известными формами и вообще делает известное известным: за
пределами воплощения -- почему, собственно, развоплощение, несмотря на
местами хитроумные религиозные утешения, так пугает -- не возможно, а
(намеренно не извиняюсь за этот невольный каламбур) необходимо Бог знает
что. В рассказе "Грибы", где дистанция между нарратором и автором резко
сокращается, герой всеми силами пытается стряхнуть с себя галлюциноз, в
отчаянии называя его "первобытным мозгоебством". Зачем? Потому что в его
интенсивном состоянии, "на плато", максимум наслаждения обречен совпасть с
максимумом страдания, на какое-то время делая избыточной, если не излишней
саму форму личности, включая ее аффективный пласт. Плыть в таком состоянии
на автопилоте значит стать простой фигурой бреда. Счастливо избегнув крайне
дискомфортного состояния, герой "Грибов" через несколько часов
вознаграждается целым пучком удачно сцепившихся аффектов, завершающимся
сбором мухоморов (древнейших галлюциногенов).
Теперь, возможно, станет яснее парадокс, связанный с изобретением
"предателя Ада", Койна. Он изобретает невозможное: бесконечно интенсифицируя
связанное со смертью наслаждение, его оружие (о чем ученый умалчивает или,
будучи фигурой сна, не догадывается) претендует заморозить в каком-то
невидимом холодильнике страдание, как если бы это были два разных процесса.
Паша находит из этого тупика оригинальный многоступенчатый выход: во-первых,
изобретение совершается во сне героя рассказа, почти совпадающего с автором,
во-вторых, это происходит во вполне определенном сне. Он приснился потому,
что герой-автор бессознательно хотел заработать много денег, продав свой
сновидческий сценарий Голливуду, "...мною руководило смутное чувство, что
этот несуществующий фильм и эта запись когда-нибудь принесут мне деньги. Это
беспочвенное предчувствие возникло у меня уже во время "просмотра", и оно до
сих пор меня не покинуло". А так как Голливуду можно продать нечто
"массово-развлекательное", сон вполне естественно совершает непредставимое
-- интенсифицирует наслаждение, купируя боль. По сути дела, "предателем Ада"
оказывается не герой сна, а сам сон, взыскующий голливудского Рая. Хорошо
было бы увидеть еще один, симметричный данному, сон, в котором наслаждению
без боли соответствовала бы боль без наслаждения, изобретенная каким-нибудь
угрюмым диктатором в лесах Камбоджи или Туруханского края. Наградой за такой
сон могло бы быть резкое обнищание сновидца.
Если внимательно следить за хронологическим порядком текстов, можно
заметить, что для того, чтобы поддержать акции возможных миров на достаточно
высоком уровне, автору все чаще приходится: а) заставлять своих героев
прибегать к галлюциногенным препаратам и б) под видом комментария создавать
настоящие философские диссертации. Здесь он хорошо вписывается в новейшие
тенденции интеллектуальной русской прозы, которая растворяет уже
растворенный политиками принцип реальности в Реальном (фактически понимаемом
как желание Другого). Специфическая "кислотность" становится условием
письма, стремящегося за пределы социальности, на которую, впрочем, и без
того нельзя опереться, настолько рыхлой является ее ткань.- Другими словами,
препарат довершает дереализацию мира, который и сам несет на себе черты
откровенной бредовости, развиваясь по сценарию компенсированного психоза'.
Убегая от мира, бессильно претендующего воплощать в себе принцип реальности,
герой на самом деле лишь перебегает из одного бреда в другой, скорее всего
даже менее тяжелый. Эта стратегия по-разному преломляется в
"Dostoevsky-trip" В. Сорокина, "Чапаеве и Пустоте" В.Пелевина и "Бинокле и
Монокле" Пепперштейна (написанном при участии С.Ануфриева). Герой этого
текста, фон Кранах, которому пастельные тона Ренуара милее темных фонов его
однофамильца Кранаха и которому СС поручает борьбу с партизанами, пытается
узнать истину о партизанском отряде некого Яснова (Паша расшифровывает эту
фамилию как "Я-снов", но стоит подумать и над такими вариантами: "Я-снова"
-- постоянное возвращение "я" после кислотного растворения -- и "Я-с-новым"
-- возвращение этого "я" всегда новым, но при этом сохраняющим иллюзию
собственной идентичности). Пленный врач отряда Яснова, Коконов (аллюзия
более чем понятная), соглашается "рассказать все" при одном условии: если он
вколет себе и Кранаху некий препарат, кажется, первитин. Немецкий романтик
идет на это и под действием препарата узнает многое об отряде и его
командире, но "истина" оказывается настолько яркой, что он не может ее
записать. Более того, сам критерий отделения фикции от не-фикции пропадает.
"Я" Кранаха оказывается "я-снов", которое под видом партизанского командира
искало самого себя. Проблема "я-снов" в том, что оно не может стать
"я-снова": входя в сны, оно утрачивает и одновременно обретает себя.
Исчезает Кранах, носивший монокль, любивший картины Ренуара, липовый отвар и
"Войну и мир", и явственно проступает черный фон Кранаха, графическая
изнанка его пристрастий. В сны фон Кранаха вселяется некое существо (из
комментария следует, что это Дунаев -- главный герой медгерменевтического
романа "Мифогенная любовь каст") -- или, что более вероятно, сам фон Кранах
становится частью снов этого существа -- которое в дидактических целях,
чтобы отучить его от монокулярного зрения, наносит ему удар биноклем.
Впрочем, бинокулярное зрение рискует оказаться фатальным для немца: его
шансы стать "Я-с-новым", несмотря на данное ему берлинским начальством
разрешение на отдых в Альпах, невелики; отпуск вряд ли поможет ему
"отремонтировать" поврежденное "я".
Тексты Пепперштейна псевдонарративны, в них присутствует своеобразная
воля к незавершенности. Автор не подмигивает читателю из своей ниши, намекая
на то, чтобы они-де уже прошли вместе изрядный отрезок пути и скоро
благополучно придут к финишу. Пепперштейн заменяет креативную установку,
свойственную большинству пишущих, рекреативной: он превращает письмо в
отдых, соглашаясь принять его как поражение (не случайно сборник его стихов
называется: "Великое поражение и великий отдых"). Отсутствие сговора с
читателем заставляет предположить в авторе "Диеты старика" любителя (если
относить этот термин не к качеству литературы, а к установке литератора);
зато от его читателя требуется профессионализм. Паша легко переходит с прозы
на стихи, которые иногда походят на поэмы и занимают десятки страниц,
переходя в теоретические комментарии. Местами эти стихи воспринимаются как
водные преграды, преодоление которых требует обладания подводными крыльями;
в противном случае читатель рискует сразу пойти на дно. Единство книге
придают не нарративные тексты, а комментарии, написанные в основном в
последние годы. Эти "тексты дискурса" категорически не рекомендуется
пропускать: именно в них сконцентрированы самые неожиданные
интерпретационные возможности. Иногда дешифровка на первый взгляд прозрачных
нарративов оказывается крайне сложной и многозначной. Интерпретация здесь --
не менее важный акт, чем написание интерпретируемого текста. В комментариях
все чаще встречаются имена Пруста, Набокова, Кафки, Борхеса, Юнга, Фрейда,
Хайдеггера, переориентирующие ранее написанные тексты на более широкое
культурное пространство, чем то, в котором московский концептуализм
функционировал первоначально. Думаю, что публикация "Диеты старика" бросает
ретроспективный свет на речевую и инсталляционную практику Медгерменевтики,
одним из основателей которой был Пепперштейн. Эти тексты также "не создают
отношений", как и медгерменевтические, через них читатель должен поставить
диагноз самому себе. С графическими же листами их роднит то, что они
подписаны именем собственным и отчасти восстанавливают фигуру авторства.
В фильме П. Гринуэя "Контракт для рисовальщика" дочь хозяйки поместья
роняет в разговоре с художником-графиком любопытное замечание: "Если вы
действительно талантливы, акт рисования полностью поглощает вас, и вы по
определению не понимаете того, что значит видеть. Если же, рисуя, вы
умудряетесь еще и следить за смыслом того, что вы делаете, вы, во-первых,
лишены настоящего таланта, а во-вторых, опасны, так как можете не только
зарисовать, но и заметить нечто вас не касающееся". Смерть рисовальщика в
конце фильма доказывает, что это противопоставление не работает: художник
запечатлел и одновременно заметил знаки смерти другого человека (хозяина
поместья), но не смог расшифровать знаков собственной смерти. Он оказался
талантливым рисовальщиком и неплохим наблюдателем: подвели его непростые
отношения со здравым смыслом, который большинство людей несправедливо
отождествляют с умом. Своим творчеством Пепперштейн стремится избежать
дилеммы, сформулированной английской аристократкой, как это делали до него
Кабаков, Пивоваров, Монастырский и другие художники-литераторы. Линия
дискурса составляет часть его рисования, а рисование, в свою очередь,
вызывает к жизни все новые и новые дискурсивные формации. При всей
интенсивности взаимодействия эти две практики не пересекаются ни в одной
точке, хотя иногда, особенно в инсталляциях, кажется, что они соприкасаются
краями. В результате этой несводимой двойственности ограничиваются как
идеосинкратичность рисования, так и безмерность притязаний слова,
характерная для всего русскоязычного региона (как в досоветское, так и в
советское время). Другое следствие этой двойной игры -- принципиальная
неполнота каждой из задействованных практик, которую автор не только не
стремится скрыть, но и всячески подчеркивает, выдвигает на первый план. Им
отрицается сама возможность органического письма, неизбежными стигматами
которого являются психологизм и эдипизация. Детская литература прежде всего
интересует Пепперштейна в кэрролловском смысле: как литература нонсенса.
Вместо проникновения в жизнь эта литература, прикрываясь дидактическим
алиби, с неменьшим упорством проникает в смерть. В отличие от ценимого
большинством психологизма, нонсенс, сообщником которого является автор
"Диеты старика", при виде жизни постоянно закрывает глаза, стремясь
превратить ее в игру световых пятен за веками. Не случайно у Пруста за
радужной игрой переходящих друг в друга ассоциаций он обнаруживает два
физиологических акта: испражнение и онанизм. С метафорой Паша борется
потому, что все, включая дефекацию и мастурбацию, является метафоричным
изначально, до всякой профессиональной "накрутки". Люди видят сны уже внутри
сна. Поэтому записанный сон неизбежно фальсифицирует сон увиденный. Иногда
между ними возникают странные несостыковки.
В "Толковании сновидений" Фрейд приводит ясный, по его мнению, сон. Это
не собственный сон его пациентки, а рассказанный ей кем-то, т.е. вдвойне
беллетризованный сон (она "слыхала его на одной из лекций о сновидении";
"его истинный источник остался мне не известен"). Отец умершего ребенка,
смертельно устав, лег спать в соседней комнате, но оставил дверь открытой,
чтобы из спальни видеть тело покойника, окруженное зажженными свечами. Около
тела сидел старик и бормотал молитвы. "После нескольких часов сна отцу
приснилось, что ребенок подходит к его постели, берет его за руку и с
упреком ему говорит: Отец, разве ты не видишь, что я горю? Отец просыпается,
замечает яркий свет в соседней комнате, спешит туда и видит, что старик
уснул, а одежда и одна рука тела покойника успели уже обгореть от упавшей на
него зажженной свечи". Анонимный лектор дал этому сну очень простое
истолкование: на лицо спящего отца из соседней комнаты падал яркий свет, и
он вызвал у него мысль, какая возникла бы у него и в бодрственном состоянии
-- в комнате упала свеча и вспыхнул пожар. Возможно, он уже перед сном
подозревал, что старик "не может добросовестно выполнить свою миссию". Для
Фрейда это истолкование, конечно, слишком просто и рационалистично. Он
опровергает его своим обычным, "мягким"(ведь он -- ученый, врач) способом, а
именно дополняя его, снабжая разъяснениями и комментариями ("Мы тоже ничего
не можем изменить в этом толковании, -- разве только добавим..."). Следуют
добавления: содержание этого сновидения "сложно детерминировано", т.е.
далеко от простой физиологической реакции на свет в соседней комнате. Тут
явно замешан порядок речи и бессознательное: ребенок говорит не случайные
слова, а такие, которые были "действительно сказаны им при жизни и связанные
с важными для отца переживаниями. Его жалоба: я горю, -- связана с
лихорадкой, от которой он умер, -- а слова: отец, разве ты не видишь?.. -- с
каким-то нам неизвестным, но богатым аффектами эпизодом". Итак, неизвестное
начинает наполняться аффектами, как бы становясь немного менее неизвестным.
Хотя о природе аффектов мы ничего не узнаем, важно уже то, что они есть.
Фрейд идет дальше и замечает, что в этом сновидении вызывает удивление
то, что оно могло возникнуть "в условиях, требующих, казалось бы, быстрого
пробуждения". Но и здесь можно обнаружить осуществление желания, делающее
сновидение "вполне осмысленным явлением". В чем состоит это желание? Мертвый
ребенок, отвечает Фрейд, ведет себя здесь как живой, он подходит к постели
отца, говорит с ним и берет его за руку, повторяя содержание какого-то
неизвестного воспоминания, "из которого сновидение извлекло первую часть
речи ребенка" ("Отец, разве ты не видишь..."). Отец бессознательно хочет
видеть ребенка живым и, чтобы осуществить это желание, на мгновение
продлевает сон. Он смотрит сон как фильм, в котором его ребенок, по словам
Фрейда, "показан живым". В реальности же, отождествляемой с "бодрственным
мышлением", он непоправимо мертв; поэтому возвращение к ней так травматично
для отца. Заключительная ремарка Фрейда звучит так: "Если бы отец сразу
проснулся и у него появилась мысль, которая привела его в соседнюю комнату,
то он как бы укоротил жизнь ребенка на это мгновение"4.
Все аргументы лектора остаются в силе, но вносимые усложнения
отодвигают их на задний план; они становятся фоновыми для гипотетической
существенности вторичных процессов. Продолжая видеть сон, отец на мгновение
фразы ребенка -- "Отец, разве ты не видишь,, что я горю?" -- продлил ему
жизнь. Но почему только на миг? Сколько длится во сне фраза ребенка? Сколько
фраз было забыто, вытеснено и т.д.? Как вообще увиденное становится фразой?
Фрейд, как и другие великие пророки, оставляет нас наедине с этими
вопросами, побуждая вторгнуться в неизвестное со своими интерпретациями,
дополняющими его собственные, которые, в свою очередь, всего лишь дополняют
"правильное в целом" толкование лектора.
Жак Лакан в "Четырех основных понятиях психоанализа" возвращается к
истолкованию этого сна. Он уже не дополняет, а отвергает теорию лектора,
согласно которой спящий отец пробуждается оттого, что внешнее раздражение
становится слишком сильным, а до этого он лишь реагирует на то же самое, но
более слабое раздражение с помощью образов сна. Нет, утверждает Лакан,
логика пробуждения не связана с силой внешнего раздражения; она
принципиально иная. Сначала спящий действительно защищается от реальности,
от пробуждения в ней. Но потом Реальное, понимаемое как реальность желания,
начинает видеться чем-то куда более ужасным, чем реальность, и именно
поэтому отец просыпается. Он убегает в так называемую внешнюю реальность,
чтобы продолжать спать, оставаясь слепым по отношению к Реальному желания --
действительно невыносимо именно оно. Заключительная формула звучит так:
"Реальность -- это фантастическая конструкция, которая дает возможность
замаскировать Реальное нашего желания"5.
Как видим, от интерпретации лектора не остается ничего, но и
истолкование самого Фрейда переосмысливается настолько радикально, что
становится даже не вторичным, а третичным. Отец просыпается не оттого, что
уже не может продлевать во сне жизнь своего сына, но от того, что не может
вынести Реальное собственного желания, заключенное в упреке сына "Разве ты
не видишь, что я горю?" Пробуждаясь, он совершает акт эскейпизма, перебегая
в ужасную, но выносимую реальность, где спящий старик уронил свечу и его
покойный сын обгорает. Пожар можно потушить, старика разбудить, но ответить
на упрек сына нельзя, потому что его устами говорит бессознательное самого
отца; тому просто некуда от него бежать кроме реальности. Во сне отца, по
Лакану, вообще нет сына, а есть желание отца. Это меняет статус реальности.
У Фрейда он еще довольно высок, хотя несравненно ниже, чем у анонимного
лектора. Французский аналитик играет на понижение: мертвый мальчик в
соседней комнате все же более выносим, нежели "живое" Реальное сна,
принявшее форму упрекающего мальчика.
Славой Жижек распространил выявленный Лаканом механизм на идеологию
вообще. Это вовсе не мир грез, куда можно скрыться от якобы невыносимой
реальности. Она обеспечивает не бегство от реальности, а представляет саму
эту реальность как бегство от Реального. "Идеология, -- звучит формула
Жижека, обобщающая анализ сна о горящем мальчике, -- это иллюзия,
необходимая для того, чтобы бежать от Реального нашего желания" 6..
Вот как далеко завел нас этот короткий сон. А между тем мы даже не
знаем и никогда не узнаем, кому же он, собственно говоря, приснился.
Сновидец безвозвратно потерян уже для Фрейда. Возможно, кто-то рассказал его
лектору, но тот мог сам сочинить его в дидактических целях. Не исключено,
что пациентка Фрейда придумала его для того, чтобы намекнуть на какой-то
нюанс в их личных отношениях, например, на то, что ее лечение не
продвигается так быстро, как ей бы того хотелось, или что она испытывает к
нему тайное влечение. (Тогда фраза: "Отец, разве ты не видишь, что я горю"
-- естественно, приобретает иной смысл.) А что, если бы мы узнали, что
приснилось старику, нанятому читать молитвы по покойному, но не выдержавшему
ночного бдения? Число гипотез умножаемо бесконечно. Возможно, мы так много
знаем об этом сне именно потому, что мы не знаем и не узнаем, чей это сон,
кому он приснился. В результате он является как бы собственностью
интерпретаторов: лектора, пациентки (о ее истолковании мы, правда, ничего не
знаем), Фрейда, Лакана, Жижека и многих других. Их концепции так
захватывающи, что никто, как мальчик в сказке Андерсена, уже не решается
"наивно"спросить: а был ли сам сон? Или он кому-то приснился?
Предлагаемый Пепперштейном выход из этой ситуации состоит в уподоблении
сна тексту. Оба одинаково психоделичны и в равной мере воспроизводят
пустоту. Он вспоминает, как в детстве научился засыпать под "Колымские
рассказы" Шаламова, которые читались по Би-би-си после передачи "Глядя из
Лондона". Они действовали как транквилизатор, хотя -- или именно потому что?
-- их содержание было ужасным. Думаю, это происходило не потому, что
литература-де разрывает связи с реальностью, преображая ужасное в такой же
райский дискурс, как и дискурс о райском, а потому, что в сердцевине самой
реальности лежит радикальное зияние или нехватка. Жизнь не выдерживает этой
нехватки и крошится, стремясь заполнить ее своими выделениями. Паша приводит
интересное место из книги Теренса Маккенны "Истые галлюцинации":
совокупляясь со своей девушкой под грибами, автор в момент оргазма кричит:
"За Владимира!", имея в виду Владимира Набокова. По мнению наркотизованного
здравого смысла, писатель не сумел взять от жизни что-то исключительно
существенное, и он, Маккенна, делает это за него, восполняя, как ему
кажется, то главное, чего недоставало сочинителю "Лолиты". На самом деле
отдаваемого/ возвращаемого здесь недостает не Набокову, а литературе, и
русскому писателю по ошибке благородно возвращают то, что тот и так никогда
не терял. Именно нехватка, зияние на месте того, что в момент оргазма
испытывает, как ему кажется, за писателя псиллоцибиновый гигант, и
составляет притягательность набоковских текстов.
Внутрилитературные сновидения отличаются от дидактических. Я не могу до
конца поверить ни одному рассказу о сновидении, претендующему на научный
статус. Очень интересные сновидения наводят на мысль, что их автор, тот же
Фрейд, -- человек литературно одаренный, хотя до настоящего одиночества ему
еще далеко. Текст окончателен в силу того, что вымышлен до конца, а
рассказанный сон всегда приблизителен, так как, претендуя соответствовать
увиденному сну, он снимает радикальную проблематичность связи
увиденное/записанное. Текст же автономен от порядка видимого, поскольку его
видимое полностью расположено внутри него самого; он перестал заигрывать с
реальностью и полностью черешел на сторону Реального, если пользоваться
языком Лакана. Именно неполная текстуальность "Толкования сновидений"
вызывает к жизни научные притязания его автора. Пашина же способность
сочинять сны полностью лежит в области литературы и не нуждается в
авторитете внешней аналитической инстанции.
Сложной представляется и связь литературы с психоделикой. Многие виды
психоделического опыта настолько интенсивны, что записанным оказывается
нечто иное. Возможно, именно художественная стерильность (вспомним хотя бы
"Искусственный Рай" Бодлера7) основных видов галлюциноза заставляет
испытавших их видеть в этом опыте нечто особенно ценное. Подозрительна сама
беспрецедентность такого опыта на фоне исключительно высокой степени его
повторяемости: хотя переживающие эти состояния люди часто представляются
себе поэтами в высочайшей мере, в этом опыте отсутствует как раз элемент
сделанности, поэзиса. Как можно видеть из рассказа "Грибы", галлюциноз
строится по спортивному сценарию: все определяется тем, кто может лучше
выдерживать напор деперсона-лизующих сил. Я бы назвал такой опыт, на выбор,
или буддизмом спортсменов, или попсовым вариантом просветления. Конечно,
идея литературы в таблетках, прописанная Владимиром Сорокиным в пьесе
"Dostoevsky-trip"8 интересна не только своей буквальностью, но тем, что
препараты потребляются коллективно и разыгрываются по определенному
беллетризованному сценарию. Вообще галлюциноз коммунальных тел отличается
тем, что в условиях распада насильственного коллективизма он легко
отождествляется с нормой. Возникшая эйфория запросто принимается за
"аутентичную" форму существования таких тел, за новую форму социальности и
т.д.. Непонятно, впрочем, и то, к какой норме можно пробудиться из этих
состояний. В "Dostoevsky-trip" также остается неясным, отчего погибает в
конце пьесы группа сторонников поглощения литературы в таблетках: виноват ли
в таком финале еще не опробованный наркотик под названием "Достоевский", или
сыграло роль то банальное обстоятельство, что группе просто некуда
возвращаться, потому что отношение ее участников к `смерти опосредовано не
Богом, а веществом. Пепперштейн избегает такого буквализма: рецептов
потенциального у него так много, что читателю предлагается на выбор любой.
Центральным в "Диете старика" является раздел о еде, где речь идет о молоке,
ватрушечке, супах, горячем, колобке, грибах и т.д. Интересно, что все эти
продукты, кроме галлюциногенных грибов, не съедаются. Съедаемые же грибы
относятся к нетелесному порядку: их поглощение не только не насыщает тело,
но и угрожает растворить ядро личности. Отвергая остальную пищу, персонаж
"Грибов" всеми силами старается не допустить собственной дематериализации,
вступая с грибами в единоборство внутри литературы и в каком-то смысле за
литературу. Не случайно он опирается при этом на китчевую икону Божьей
Матери, кладущую предел стерильной деперсонификации. Ведь само по себе
"грибное сияние" расшифровке и переводу в форму литературы не поддается.
Впрочем, крайний дискомфорт, как выяснилось потом, оказался путем к высшему
комфорту ( утренний эпизод блаженного слияния с природой). Акт поедания
отсутствует не только в текстах, но и в снах Пепперштейна: там сколько
угодно секса, подъемов, падений и неожиданных встреч, часто со свежими,
только что синтезированными сном существами, но что-либо съесть во сне
оказывается невозможным. Только в этом плане, собственно, сон и подобен
тексту, в остальном различия преобладают. Вообще "галлюциноз" у Пепперштейна
является собирательным термином для самых разных состояний, связанных как со
сном, так и с бодрствованием. Раньше нечто подобное именовалось грезой. У
писателя нет рецепта грезы, тем более ее химической формулы. Стало быть,
литература не может быть продуктом какого-то вещества, хотя постоянное
заклинающее повторение определенных слов -- "онейроид", "кайф", "галлюциноз"
-- наводит на ложный след, заставляя предположить, что литературу, в отличие
от пищи, можно потреблять в таблетках или в каком-либо другом виде.
Несколько раз описывается даже специальный браслет, в который вставлены
капсулы с веществами, вызывающими у героев строго определенные состояния по
прейскуранту. Но на самом деле так блаженствовать способны лишь
профессионалы страдания, преследуемые фобиями в сопровождении целой свиты
прихотливых "приколов". Уже герои первого рассказа кажутся сверхживыми,
потому что это -- мертвецы, и каждое из этих "веселых пухлых существ" готово
в любой момент превратиться в "фонтан скорби". Под прикрытием галлюциноза на
поверхность и позднее выгоняются интенсивные потоки смысла. Beщи и люди
выводятся наверх вместе со своими принадлежащими загробному миру двойниками.
Конечно, на них можно смотреть и с точки зрения жизни, но она всегда
подчинена взгляду из иного мира, составляющему "правильную" перспективу.
Только загробность придает людям и вещам приписываемый смысл.
Пепперштейн эволюционирует от приватной мифологии детства через ее
"эйдетизацию" в работах медгерменевтики к работе с продуктами массовой
культуры, со стереотипами как местного, так и западного сознания. Несмотря
на неизменную рекреативную установку, его захватывает процесс
профессионализации в его основных -- галлюциногенной, компьютерной
(обсуждение "Бинокля и Монокля") и интеллектуальной (сочинение "текстов
дискурса") -- ипостасях. Последние по времени нарративы не только
концептуальны, но и занимательны. Это увлекательное чтение, удачно
обрамливаемое многослойными комментариями. У Пепперштейна появляется свой
стиль; и если обычный писатель рассматривал бы его появление как завоевание,
то автор, чье любительство принципиально, писатель, продолжающий
ориентироваться на рекреацию (отдых, otium), а не на креацию (латинский
перевод греческого поэзиса), возможно, видит в этом приобретении нечто более
двусмысленное. Уже медгерменевтическая практика превращала впечатления
детства в эйдосы, лишая их элементов становления. Теперь же мы нуждаемся в
особом метауровне для того,чтобы выделить в текстах то, что еще противится
занимательности и возможности быть поглощенным читателем. Сложность
структуры "Диеты" определяется и тем, что в ней с самого начала встречаются
позднейшие вкрапления, дописывания и переписывания, внесенные иногда через
10-12 лет после написания первоначальных текстов. И хотя райское сознание
собственной неизменности не покидает автора, оно не мешает ему изменяться.
Это видно по тому, с помощью каких приемов им создается в тот или иной
момент впечатление вечности. Его герои перестают пахнуть фиалкой, они уже
подобно статуям не "источают слезы" и не летают над адом на бутерброде,
прикрывшись ломтиком молочно-розовой колбасы. Анатомически эти существа
становятся все более достоверными, обрастают физиологическими признаками и
все новыми предметами туалета. Сам автор понимает взросление как репетицию
смерти. "Сейчас, через много лет, лишь редактируя свои пубертатные
откровения, когда неумолимое половое созревание выталкивает нас за границу
детства, мы многое понимаем. В том числе и то, что нас так же бесцеремонно
вытолкнут из жизни". То, что мы называем "Большой Смертью", лишь завершает
процесс постоянного медленного умирания, приметы которого рутинны и в
основном настолько банальны, что с ними никому даже не приходит в голову
бороться. Книга не случайно называется "Диета старика". Ее автор, едва
перешагнувший тридцатилетний рубеж, является ветераном письма, рисования,
инсталлирования, комментирования. Он понимает, что из детства ему надо,
минуя взрослость, выпасть -- или впасть? -- непосредственно в старчество (с
астрономическим числом прожитых лет)9. Но как совершить прыжок через
привычное взросление? Как избежать взросления не только автора, но и его
текстов? Как избежать наползания времени, медленного затягивания в историю (
как иногда говорят: "Ну, я попал в историю!")? Я не знаю, как это сделать.
За каждым остается святое право закрыть глаза, но изменить вектор протекания
времени, его, как выражался Гуссерль, "конститутивный стиль", неспособен,
кажется, никто. Не взрослеть фактически значит не обращать на взросление
внимания, занимаясь чем-то другим, например, что-то бесконечно обсуждая.
Впрочем, на всякого колобка довольно простоты, и хотя никого нельзя лишить
этого свойства, смысл обладания им подвержен, в свою очередь, закону
колобковости, т. е. закону изменения колобка.
Паша видит свою задачу в том, чтобы "создать памятник эйфории", а для
этого надо "не создавать отношений". Между тем большинство известных
интеллектуальных миров, как ему известно, во-первых, пронизано страданием, а
во-вторых, только и делает, что создает отношения, т.е. принимает во
внимание интересы некоего сообщества. Поэтому герой "Предателя Ада"
недолюбливает интеллектуалов и работает на военных и оборонно-промышленный
комплекс, так как только эти последние способны создать мир, освободившийся
от главного врага Койна, боли. Предаваемый им Ад синонимичен боли, агентами
которой являются, в частности, разного рода интеллектуалы, цепляющиеся за
свое право страдать. Если в "Бинокле и монокле" речь идет об обучении Запада
бинокулярному (фактически полиокулярному) зрению, понимаемому как
психоделическое и коллективное, в атмосфере "Предателя Ада" этот
коллективизм уже безнадежно архаичен и уступает место чему-то принципиально
иному: сверхсовременному оружию, замещающему боль невиданным наслаждением (
о том, что разрушение связки наслаждение / боль объясняется контекстом "сна
о больших голливудских деньгах", я уже упоминал выше). Спасение перестает
быть особым элитарным усилием, но групповой дискурс также подвергается
девальвации. Новая дилемма озвучивается так: либо все просто обречены на
спасение, либо ни у кого нет никакого шанса. Спасение в дискурсе сменяется
спасением во сне. Ликвидируются последние трещины в памятнике эйфории -- он
становится идеально гладким и одновременно безнадежно хрупким, потому что
сон о деньгах, придуманный для Голливуда, может в любой миг уступить место
низкобюджетному сну, герой которого обрекается на бесконечную боль, служащую
изнанкой наслаждения. Кроме того, в несновидческих, как им кажется, мирах,
находящихся во власти так называемой согласованной реальности, господствует
принципиально иная логика: множество таких миров, в настоящем причиняющих
своим обитателям -- при этом, что важно, причиняющих совершенно по-разному
-- интенсивную боль, в будущем претендуют на статус миров без боли. Впрочем,
не это ли упование выдает им ордер на причинение боли в бесконечно
продлеваемом настоящем? Любое обезболивание этих миров -- рискованное
предприятие, так как тогда боль уже нечем будет заклясть: ведь социальные
утопии и есть настойчивое заклинание боли. В основе замены утопии эйфорией
лежит определенная концепция вещи. Пепперштейн считает, что вещь -- это
несводимый остаток мысли, подлежащий спасению, содержащий в себе
нерастраченный потенциал наслаждения. Иногда эта вещь предстает ему в
качестве тела в состоянии перманентного галлюциноза. Текст, в свою очередь,
вынужден замещать тело, потому что это последнее "слишком кошмарно". Текст,
собственно, конституирует неданность тела, прежде всего тела его автора (это
обстоятельство маскирует имя автора, "обезболивающее" отсутствие его
тела)10. В тексте "Философствующая группа и музей философии" тщательно
описываются иногда довольно экзотические предметы, на которых выгравированы,
выбиты или каким-то другим способом записаны философские сентенции.
Содержание этих высказываний никак не связано с предметами, на которых они
записаны. Уровень предметов и уровень высказываний совершенно
самостоятельны: цель записи -- обеспечить каждому высказыванию собственную
уникальную плоскость, на которую оно наносится, и тем самым расцепить его с
другими высказываниями. Зачем производится расцепление, также ясно: это
делается для того, чтобы лишить философский дискурс изначально присущей ему
атональности, полемической заостренности одних высказываний против других.
Каждое высказывание хорошо, если записано на отдельной плоскости и не
претендует опровергать другие. Другие высказывания надо писать на других
плоскостях -- вот и все. Плоскость записи устроена так, что является
предметным эквивалентом высказывания, никак не связанным с его смыслом: в
противоположность иллюстрации, эквивалент успокаивает, "нирванизует"
философскую мысль, действует на нее как накопитель уже не диалектики, а
эйфории. Высказывания могут при случае меняться плоскостями записи -- от
этого их смысл не пострадает. Смысл выводится за пределы диалога. Если
традиционная философия определяется Пепперштейном как "опосредованное
традицией галлюцинирование в логосе", то задача поверхности записи, или
чистой предметности, -- удвоив этот галлюциноз, ликвидировать его. Но
проблема в том, как отделить предмет от субстанции, уже при рождении
сделавшей его своим агентом. Предмет в философской традиции -- и это Паша
показывает на примере Хайдеггера -- это вовсе не испускающее сияние
сокровище, а произведение определенным образом ( в конечном счете
трансцендентально) сконструированной субъективности. Именно в силу того, что
философия как метафизика представляет собой опьянение основаниями, усилие,
связанное с поддержанием мира предметов в статусе предметов, а не чего-то
другого, она не допускает в мир никаких дополнительных видений, онероидов и
других экстатических состояний. Экстатично обоснование мира, а не он сам:
вне опьяненности основаниями есть только физика, пространственные развертки
вещей. В этом смысле "галлюцинирование в логосе", даже в его
"авангардистских" -- хайдегтеровском, дерридианском или делезовском --
вариантах, дело достаточно консервативное и чуждое любой трансгрессии, кроме
трансгрессии самой традиции. Сосредоточив эксперимент в области оснований,
делают следствия из оснований предсказуемыми, не допускают безумия
следствий. Между тем Пашу интересует прежде всего многокрасочное безумие
самих следствий. Именно его он хочет лишить атональности. Скажем, Хайдеггер
постоянно работал со [сказанным-] несказанным, но [сказанным-] несказанным
не любых, а определенных древнегреческих текстов. Качество невысказанное,
естественно, также определялось традицией. Он "пытал" тексты исключительно
мягко, по определенным правилам, создавая подмеченное Пашей впечатление, что
они "сознаются" сами, без какого-либо насилия с его стороны. Тело этого
погруженного в традицию философа как бы заключено в читаемых им текстах (и
"Башмаки" Ван Гога он читает как текст, и "лес во льду", и "лампу Мерике",
если оставаться в жанре философских багателей)11. Поэтому мы и не можем
выделить из этих текстов еще одно, лучащееся оригинальностью тело. Поэтому
"Башмаки" Ван Гога необходимо образуют пару, их нельзя представить как два
разрозненных башмака (полемика Хайдеггера с Мейером Шапиро на эту тему
саркастически проанализирована в книге Деррида "Истина в живописи"); поэтому
же "videtur" и "lucet" противостоят друг другу в немецком глаголе "scheint",
который значит и "светиться", и "казаться" и еще многое другое. Философия --
это агон понятий внутри слов, желание если не ликвидировать их
многозначность, то по крайней мере создать некую иерархию смыслов. Лампа
шваба -- Мерике наделяется атрибутом свечения в ущерб кажимости швабом --
Хайдеггером с постоянной отсылкой к еще одному, не упоминаемому в Пашином
тексте швабу, Гегелю12. В любом акте "окончательного" прояснения, конечно,
заключен элемент магии, точнее, поэзиса, подмеченный Пепперштейном.
Говорение из оснований обречено приводить в экстаз даже неискушенных
слушателей, которые через полчаса после экстаза немеют и не могут передать
услышанное (этот эффект отмечается у всех "говорящих" философов, будь то
Хайдеггер, Лакан, Витгенштейн или Мамардашвили). Почему лампе Мерике
обязательно нужно светиться? Почему оба ботинка Ван Гога нельзя надеть на
одну ногу? Отчего так важно знать, на чью именно ногу, художника или
крестьянки, они надевались? Для обычного шамана эти нюансы столь
незначительны. Почему же здесь они разбухают до космических размеров? Потому
что философия даже после смерти выполняет возложеннную на нее традицией
миссию отделения ложных претендентов от истинных, хотя истина уже давно не
увязывается с присутствием божественной инстанции и принимает профанную
форму ортодоксального говорения. В философии был, есть и будет несводимый
остаток социального, вызывающий у автора "Диеты старика" попеременно
отвращение, восхищение и скуку. Ведь его собственный проект состоит даже не
в ликвидации социальности, -- это непоправимо нарушило бы рекреатавную
установку, -- а в признании ее ликвидированной изначально. Пронизывающая эти
тексты утопия утверждает незначимость того, что объединяет людей, и
стремится к ликвидации человечества по самому мягкому сценарию: называть
пищевые продукты, не поедая их; любить тела настолько нежно и бескорыстно,
чтобы воспрепятствовать их размножению. Старик прекращает есть и скоро
замечает, что все в мире стало лучше; ну, а функция продолжения рода для
него в прошлом. В этих приватных галлюцинациях есть мудрость и именно
поэтому в них нет любви к мудрости, принимающей форму агона, спора, диалога
друзей: обладание даже самой хрупкой софией заставляет дистанцироваться от
философии. У Паши это дистанцирование принимает форму очаровывающего его
притяжения: и любовь к мудрости он замышляет ликвидировать, любя. Во всяком
случае, степень интеллектуальности его галлюцинирования постоянно
возрастает. То, что еще недавно в русскоязычном регионе представлялось
всеобъемлющей литературной средой, в которой проживались миллионы жизней,
теперь стремительно капитулирует не только перед компьютером и препаратами,
но и перед мыслями. Она быстро интеллектуализуется, компьютеризуется и
наркотизуется. В результате вчерашние изгои получают шанс -- или
подвергаются опасности, в зависимости от глубины их постижения, стать
модными авторами.
Десять лет тому назад С.Ануфриев, Ю.Лейдерман и П.Пепперштейн основали
группу "Медицинская Герменевтика". Паша определил ее как "высказывающуюся
пустоту". Первоначальная греза ее участников состояла в том, чтобы
отказаться от слов в пользу терминов, создать чистый язык терминов. Слова не
устраивали медгерменевтов тем, что, так как они были придуманы не ими, срок
их жизни был им также неподконтролен. ""Условия" прочих слов, которые не
являются терминами, расплывчаты, -- поясняет Паша. -- Поэтому время,
отпущенное им, кажется вечностью. Термин же определен, он рожден
искусственно, поэтому его время -- живое и ограниченное время несовершенного
создания". Время жизни обычного слова велико, и никто не в силах его
укоротить; возможно, ничто так не ограничивает демиургическую претензию
отдельных лиц, как слова. Прием медгерменевтики состоял в том, чтобы как
можно больше слов превратить в термины, тем самым взяв срок их жизни под
контроль. Если, скажем, колобку суждена долгая жизнь, то изобретенный термин
"колобко-вость" будет жить столько времени, сколько пожелают его
изобретатели. Члены группы придумывали целые пласты терминов, становясь
хозяевами собственного мира. Часто это были аппроприированные слова
обыденного языка ("ортодоксальная избушка", "площадки обогрева", "Белая
кошка"), а иногда в термины превращались имена собственные (принцип
"Ко-нашевич"). При этом теоретический дискурс, с одной стороны, снижался,
сближаясь с обычным словоупотреблением, а с другой -- беспредельно
расширялся: ведь теоретическим могло стать буквально все. Тем самым
завершалась и одновременно доводилась до абсурда советская картина мира,
строившаяся из фрагментов произвольно скомпонованной ортодоксальной речи.
Теоретизирование медгерменевтики развивалось на фоне энергетического упадка
советской идеологии и было своеобразной формой ее приватизации. Потом
случилось неожиданное: вакуум социальности так и не был заполнен, напротив,
катастрофически расширился, и то, что еще недавно так страстно обсуждалось в
узких кругах, стало расти повсеместно, как сорняк. Проблемой стало хоть
какое-то ограничение пустотностью стремительно набухающей пустоты. Контуры
новой ситуации прихотливы и постоянно меняются; в результате никто не знает,
как не быть имманентным ей. Герметичное становится читабельным,
трансгрессивное -- модным. Что такое московская концептуальная традиция hie
et nunc, в каком отношении стоит она к тому, что претендует быть актуальным,
неясно, видимо, не только мне. Особенно эта неясность дает о себе знать в
культуре, пока еще не выработавшей механизма музеификации и пытающейся
вместо этого поддерживать акции "настоящего момента" на неимоверно высоком
уровне. Эта попытка каждодневно проваливается и возобновляется, чтобы
провалиться и возобновиться снова.
Медгерменевтика постоянно изобретала термины, стремясь наводнить ими
мир, вызвать панику на бирже понятий; за инфляцией и крахом должно было
последовать небесное спокойствие, самодостаточность свежевы-печенного и с
тех пор постоянно заново выпекаемого космоса. Что отличает индивидуальное
творчество Пепперштейна от этой групповой стратегии? Почему одни тексты он
публикует под своим именем, а другие в качестве части треугольника "старших
инспекторов"? Ясно, что эти стратегии переплетаются довольно причудливым
способом: отчуждая значительные текстуальные массы в пользу группы, каждый
из ее участников получает преимущество, избавляясь от бремени имени
собственного, обеспечивая столь необходимую богам анонимность, выражающуюся
в умножении их имен. Возвращается ли Паша к имени собственному в "Диете
старика", на титульном листе которой остается только его имя-псевдоним? В
этих текстах нарушены многие принципы обычного авторства, но для нас не
является тайной, что эти нарушения ("инновации") только усиливают авторство
как безличный механизм, как инфраструктуру. В последнем смысле его, видимо,
не дано избежать никому: ведь для создания имени здесь не нужна даже
подпись. Паша черпает свое неавторство из достаточно глубокого источника --
его изначальной чуждости самому себе. Эта чуждость породняет его со всем
иным. Во всяком случае, такова логика его ответов Илье Кабакову в каталоге
их выставки "Игра в теннис". "Кабаков: Ты уже давно выставляешься за
границей, в "чужом месте". Что значит говорить "чужим" на "чужом" языке о
"чужих" проблемах? Или слово "чужие" здесь некорректно? -- Пеппершшейн: Есть
известные слова Кафки, адресованные его другу Максу Броду: "Как я могу иметь
нечто общее со своим народом, когда у меня нет ничего общего с самим собой?"
Я бы даже радикализировал это высказывание: мы настолько чужие самим себе,
что все остальное становится для нас родным". Заметим, что Кабаков
проницательно и аккуратно берет слово "чужой" в кавычки, дистанцируясь от
его прямого смысла, лишь зондируя почву, проверяя, что оно значит для Паши
как метафора. Чужое в кавычках оказывает для него родным, но уже без
кавычек, так велика утверждаемая им степень чуждости (опять-таки, что важно,
без кавычек) самому себе, зияние в сердцевине его "я". Именно высшая степень
чуждости себе переходит в эйфорию, в отличие от последовательно-депрессивной
ориентации текстов Кафки, предполагающей чисто негативное просветление
(сошлюсь на знаменитое кафковское высказывание: "Я пишу об ужасном, чтобы
умереть довольным", проанализированное в эссе Мориса Бланшо). Позиция Паши
проективна: он обретает право "жить довольным", помещая смерть в основание
своей личности и тем самым, как он полагает, лишая трансцендентную инстанцию
возможности что-либо предрешить в его судьбе. Таким образом он вступает с
миром в непосредственно-родственные отношения. Отвечая на другой вопрос
Кабакова, Пепперштейн возвращается к своему "пункту": "...мы настолько
"чужие" самим себе, что все остальное в мире (места, люди, вещи) кажутся
родней, толпой племянников, дедушек, кузин и внучат, по сравнению с этой
изначальной чуждостью, живущей в глубине нашего собственного "я""13. Можно
ли расшифровать этот ответ так: остается только радоваться, так как
депрессия (чуждость себе) настолько изначальна, что имеет своим необходимым
последствием эйфорию. Большое искупление невозможно, зато каждая вещь,
место, человек являются орудием малого искупления; вселяясь в них, мы
бесконечно развоплощаемся, что является доступным нам эквивалентом
благодати. Это отлично прописано в финальной "сцене с четырьмя мухоморами"
из рассказа "Грибы", где "свечение" (lucet, scheint), как в эстетике Гегеля
и в фундаментальной онтологии Хайдеггера, целиком собирается на полюсе
изначального галлюциногена (ведь мухоморы -- это "сома", древнеиндийский
гриб бессмертия), и получается неплохая (при этом совершенно
бессознательная) пародия на столь раздражающий автора "Диеты" "кроткий дух
серьезности". Хотя в строгом смысле и лампа Мерике -- своеобразный
культурный мухомор, сияние которого способно опьянять и излучать власть, не
довольствующуюся простой кажимостью (выходящую за пределы scheint в смысле
Эмиля Штайгера, т.e.videtur).
Книга Пепперштейна внешне производит барочное впечатление: множество
лепнины скрывает несущие конструкции, линия фасада прихотливо изломана
пристроенными позднее башенками, балкончиками, бельведерами, вес которых все
более непосилен для Гераклов и кариатид детства. Но это впечаление ложно,
если принять определение барокко Делезом как "последней попытки восстановить
классический разум, распределяя дивергенции по соответствующему количеству
возможных миров, отделенных друг от друга границами. Возникающая в одном и
том же мире дисгармония может быть чрезмерной, -- она разрешается в
аккордах, так как единственные нередуцируемые диссонансы находятся в
промежутках между разными мирами... Это воссоздание могло оказаться разве
что временным. Пришла эпоха необарокко -- дивергентные миры наводнили один и
тот же мир, несовозможности вторглись на одну и ту же сцену -- ту, где Секст
насилует и не насилует Лукрецию, где Цезарь переходит и не переходит через
Рубикон, а Фан [имеется в виду герой рассказа Борхеса, известного по-русски
в двух переводах -- "Сад расходящихся тропок" и "Сад, где ветвятся дорожки".
-- М.Р.] убивает, делается убитым и не убивает, и не делается убитым"14.
Понятно, что идеально барочными являются для Деле-за "несовозможные" миры
лейбницевских монад, а необарокко репрезентируется Борхесом и додекафонией.
Паша вносит в этот необарочный мир существенный элемент -- эйфорию, принцип
равного наслаждения каждым из его по определению поддельных сияний. Он хочет
быть писателем, не теряя статуса обычного сновидца (у него есть план издать
книгу своих "действительных" снов), графика, члена медгерменевтики и просто
частного человека (старый бодлеровский проект "жизни как искусства").
Написанные им "модные" тексты разлетаются под напором интерпретаций, рисунки
заговариваются, фигура речи наносится на "уникальную" и бесконечно
репродуцируемую плоскость15.
По возрасту Павел Пепперштейн мог бы быть моим сыном, но я -- и в этом
я, кажется, не одинок -- не могу представить себе его в этом качестве. В
чем-то он реализовал идеал выпадения из детства в глубокую старость, что на
поверхности выражается в странном, уникальном в моем опыте двоении. Прощаясь
с его книгой, я выразил бы этот парадокс самыми простыми словами: "До
свидания, внучек: ты -- мой дедушка".
Москва, 10-- 26 февраля 1998 года.
Примечания
1. Механизм функционирования одного из таких речевых психозов
(противопоставляемого неврозу "немецкой вины") разбирается на материале
пьесы В. Сорокина "Hochzeitsreise" в моем эссе "Борщ после устриц"("Место
печати", X, 1997, с.142--155).
2. В "Искусственном рае" Бодлер, имея в виду гашиш, связывает
невозможность рассказать о наркотической экстатике не просто с параличей
воли и с необычайной интенсивностью переживаемого опыта, делающей его
самодостаточным. Главную причину он видит в нарциссизме наслаждающейся своим
одиночеством личности, которая во всем видит лишь собственные отражения. Из
этого мира исключен любой, в том числе и поэтический труд, а вместе с ним,
как выражается поэт, "честные средства для достижения Неба".
Олдос Хаксли в "Дверях восприятия" пишет о своем опыте принятия
мескали-на как о научном эксперименте, но местами не может удержаться от
придания ему исключительно высокого статуса в порядке невербального.
Странным, но отнюдь не неожиданным приложением к его эмпиризму является
мистика. "Но человек, возвращающийся через Дверь в Стене, никогда не будет
точно таким, каким он туда вошел. Он будет... подготовлен для понимания
связи слов с вещами и систематических рассуждений с непостижимой Тайной,
которую они пытаются -- всегда тщетно -- ухватить".
Возможно, дело здесь не только в свойствах поэзии Бодлера и прозы
Хаксли, но и в том, чем гашиш отличается от мескалина. Опыт
галлюцинирования, видимо, также бесконечно дифференцирован и не подводим под
общий знаменатель.
3. Об этом в связи с философией Лейбница прекрасно написал Жиль Делез:
"Сущность монады в том, что у нее темная основа (или фон): она черпает все
именно из него, и ничто не приходит в нее извне и не выходит за ее пределы.
В этом смысле необходимость ссылаться на слишком уже современные
ситуации возникает лишь в тех случаях, если они способны разъяснить то, что
было уже барочным начинанием. Издавна наличествуют места, где то, на что
следует смотреть, находится внутри: келья, ризница, склеп, церковь, театр,
кабинет для чтения или с гравюрами. Таковы излюбленные места, создававшиеся
в эпоху барокко, его слава и мощь. И, прежде всего, в темной комнате имеется
лишь небольшое отверстие в потолке, через которое струится свет,
проецирующий полотно при помощи двух зеркал на очертания предметов, которых
не видно, так как второе зеркало должно быть наклонено сообразно положению
полотна. И затем -- стены украшаются трансформирующимися изображениями,
нарисованными небесами и всевозможными видами оптических иллюзий: в монаде
нет ни мебели, ни предметов, кроме создаваемых оптическими иллюзиями". (Ж.
Делез. Складка. Лейбниц и барокко, Москва, "Логос", 1998, с. 28.)
Пепперштейн также хотел бы создавать в качестве литературных объектов
монады, состоящие из самоотражений: в основе его писательской практики лежит
греза об освобождении вещей от субстанции. Став фоном Кранаха, фон Кранах
обретает свою сущность и теряет свое "я".
4. 3. Фрейд. Толкование сновидений, Ереван, 1991 (репринт издания 1913
года),
с. 363.
5. S. Zizek. The Sublime Object of Ideology. London-New York, Verso, p.
44--45.
6. Ibid., p.45.
7. В заключительном эссе "Искусственного рая" Бодлер противопоставляет
гашиш вину: "Вино делает добрым, общительным, гашиш влечет к уединению.
Вино, так сказать, трудолюбиво; гашиш, по существу, лентяй. К чему, в самом
деле, работать, пахать, писать, производить что бы то ни было, если можно
попасть в рай без всякого труда?.. Вино полезно, плодотворно. Гашиш
бесполезен и опасен". (Ш.Бодлер. Искусственный рай. Петербург, "XXI век",
1994, с. 181.)
8. В. Сорокин. Dostoevsky-trip (пьеса), Москва, Obscuri Viri, 1997.
9. Эта тема развивалась в инсталляции группы медгерменевтика "Труба,
или Аллея долголетия" и в беседе С. Ануфриева и П. Пепперштейна "Полет,
уход, исчезновение", давшей название одноименной выставке в Праге и Берлине.
"Речь идет, как видим, -- говорит Паша, -- об остановке рождений и смертей.
Туннель, уходящий в домашний уют потустороннего, как-то отрезает этих
застывших в долголетии стариков от этих "детей", застрявших в предрождении.
Все это моделирует своего рода "квазифедоровскую" ситуацию. Для стариков
близость к туннелю, параллельность ему является источником долголетия.
Туннель -- нечто освобождающее, освежающее. Это приводит нас к старинному
упованию на смерть, как на лекарство от болезней и, в конечном счете, от
смерти же (смертью смерть поправ...)". (Полет-Уход-Исчезновение, Московское
концептуальное искусство [каталог на русском и немецком языке.], Ostfildern,
Cantz Vferlag, 1995, р.284.)
10. Связь подписи со стремлением замаскировать, скрыть и вместе с тем
метафорически обнажить, выпятить тело автора, родство этих кажущихся
противоположностей разбирается в таких работах Жака Деррида, как "О
грамматологии", "Почтовая открытка", "La fausse Monnaie".
11. Кстати, для " Вещи и творения" Хайдеггера картина Ван Гога, можно
сказать, акцидентальна. Это текст об истоке и о том, "откуда пошел художник,
ставши тем, что он есть". А фактически о стыдливой первичности непотаенного
перед лицом сущего в его целом. И текст о лампе Мерике также не о лампе, а о
последствиях "сияния" для метафизики.
12. Хайдеггер напоминает Штайгеру, что прекрасное определяется в
эстетике Гегеля как чувственное свечение. Друг гегельянца Фишера, Мерике не
мог об этом не знать. Впрочем, и незнание определения Гегеля не освободило
бы его от участия в духе того, что делал Гегель, так как через него в то
время говорило нечто более значительное. "Но то, что прекрасно, блаженно
светит в нем самом" -- определяется как "гегелевская эстетика in mice". (М.
Хайдеггер. Работы и размышления разных лет, Москва. "Гнозис", 1993, с. 245.)
Любовь великих философов к власти/истине выражается в постоянно
возобновляемом сообщничестве с древней традицией, выражающемся в ее
решительном обновлении. В этом смысле они -- экраны, на которые проецируются
ожидания их образованных современников. Обращенность их речи столь же
фундаментальна, как и сама речь. Как только уши повернутся в другую сторону,
она исчезнет.
13. И. Кабаков, П. Пепперштейн. Игра в теннис. Pori, Porin Taidemuseo,
1996 (каталог на английском, финском и русском языках), р. 27; см. также
р.47. Интересен и самый последний вопрос, который Пепперштейн задает
Кабакову (пятый вопрос на шестнадцатом щите): "Известен старокитайский
художественный принцип "ворона на снегу" в Чаньской традиции. Ворона на
снегу рисуется столько раз, пока в сознании рисующего не остается "только
эта ворона " на "только этом снегу". Однако остается сам принцип " ворона на
снегу". Как устранить это противоречие?" Кабаков: "Противоречие в принципе
неустранимо. Мало того, в этом рассказе скрывается своеобразный парадокс.
"Ворона на снегу" -- уже готовый эстетический объект, эстетическое качество
уже гарантировано сюжетом. Но предполагается, что качество эстетического
улучшится, если произойдет "вчувствование" в изображение того и другого
(вороны и снега. -- М.Р.). Парадокс в том, что, возможно, "качество"
нарисованности вороны и снега улучшится, но само эстетическое переживание
сюжета не станет от этого сильнее". (Ibid., р.48--49.) Как вопрос, так ответ
здесь настолько интересны, что о многом говорят даже без комментария.
14. Д. Делез. Складка. Лейбниц и Барокко... с. 83.
15. См. также: С. Ануфриев, Ю. Лейдерман, П. Пепперштейн. На шести
книгах. Duesseldorf, Kunsthalle Duesseldorf, 1990 ( на русском и немецком
языках).
Кресты-пророки
Побежали по дороге,
Половина говения, тресни.
Редька с хреном убивается,
А яйцо с творогом
По двору катается.
(Костромской губернии, Нерехтского уезда.)
I
Кумирня мертвеца
-- Джим, вы видели когда-нибудь мою табакерку?
-- Неоднократно, сэр.
-- А случалось ли вам видеть, чтобы я нюхал табак?
-- Никогда, сэр.
-- В табакерке нет табака, Джим. В ней находится
отличный кусок сыра.
Р. Л. Стивенсон. "Остров сокровищ "
1
Он плакал. Сидящий рядом старичок постоянно шуршал газетой.
Старичок смущенно отложил газету и посмотрел на рыдающего гостя. Старик
не знал, что предпринять. Предложить носовой платок? Спокойно закурить? Он
вынул из кармана платок и протянул его в сторону раскрытой двери, но уронил
и забыл поднять, тем более что платок упал не возле, а опустился на лапу
спящей собаки. Она не пошевелилась, так как была сделана из стекла. Когда-то
здесь жила собака Рой, но она умерла, и тогда хозяин дома заказал это
изваяние. С тех пор стеклянная копия Роя виднеется возле камина. Вечерами
хозяин этого дома сидел у камина и часто шутил:
-- Рой, принеси мне палку!
Ну, чего же ты не несешь, Рой? Ты же всегда был такой послушный. Она
там, в углу.
Рой, а почему сквозь тебя просвечивает, а? Что скажешь? Чего же ты
молчишь, а, Рой?
И старик сам же хохотал. Его громкий смех, вырывавшийся из него
пучками, резко бился в стеклянную дверь, к которой поднималась лестница с
железными перильцами. Стекло дрожало, и это будило Вольфа.
2
Вольф был такой аккуратный!
На рабочем столе Вольфа царствовал порядок. В левом углу лежало
несколько книг, обернутых в бумагу, а справа были разложены блестящие
металлические предметы: различного рода ножи, изогнутые лезвия,
спиралеобразные сверла.
Часто он стоял посреди комнаты: атлетически сложенный, но уже слегка
располневший, и вдумчиво протирал какую-либо из этих вещиц. Время от времени
он поднимал свое тяжелое лицо и бросал взгляд в зеркало. Его крупный, лысый
череп был густо посыпан веснушками, а за толстыми стеклами очков иной раз
блестели темные, печальные глаза.
А помнишь, Рой, как он ходил с тобой гулять?
Он тщательно одевался, выбирал галстук, одевал свежую рубашку, костюм,
собственноручно чистил свои ботинки. И затем выходил в темно-синем пальто. В
аллее парка он выпускал тебя, Рой. Он шел как будто задумавшись, не поднимая
головы, и только изредка взглядывал на какую-нибудь проходящую даму, и тогда
уж можно было ручаться, что она долго не забудет этого взгляда, наполненного
беспредельной печалью. Издали его глаза казались жгуче-черными, но на самом
деле они были сливового цвета, а смуглые веки были слегка вывернуты, так что
виднелась розовая подкладка, где ручейком протекала легкая слизистая
жидкость -- несостоявшиеся слезы, которые Вольф удалял иногда уголком
батистового платка.
От него неизменно пахло фиалкой. Флаконы из-под фиалкового одеколона он
затем промывал и заполнял какими-то жидкостями разных цветов -- это, видимо,
было связано с его работой. Надев специальные резиновые перчатки, Вольф
потом перемещал эти составы в замысловатые шприцы с тончайшими иглами.
Однажды дурочка Китти спросила его, что это такое и зачем это Вольф так
возится с этими бутылочками, и Вольф терпеливо (он всегда был очень
терпелив, разговаривая с детьми) объяснил, что это чрезвычайно едкие
кислоты, способные, если их ввести с помощью шприца в человеческое тело,
образовывать болезненные и долго не заживающие язвы. Тогда бедная Китти
стала просить, чтобы Вольф и ее уколол -- "Совсем чуть-чуть, пожалуйста,
Вольфик, я тебя так прошу!" -- умоляла она.
Даже тогда, Рой, мой сын не нагрубил ей и не выгнал ее из комнаты, как
это делал Ольберт, а со спокойной серьезностью выполнил ее просьбу и капнул
ей на руку немного вещества, отчего она с вибрирующим визгом скатилась вниз
по лестнице. Был полдень, и ты, Рой, как раз спал на ковре в гостиной (в том
самом месте, где лежишь сейчас, задумчиво глядя в огонь своими стеклянными
глазами). Ты громко залаял, а потом с лаем и повизгиванием стал отступать к
дверям, ведущим на веранду, когда орущий комок упал с лестницы и, опрокинув
вазу, исчез в темном коридоре. Крик, словно шаровая молния, выкатился с
другого конца дома и исчез в сплошном писке где-то в одном из
полуразвалившихся сараев.
3
Старик отложил газету и спокойно закурил. Легкий дымок поплыл по
комнате и растворился в открытой двери.
"Кто он?" -- думал старик, глядя на незнакомца, который уже не рыдал,
но прохаживался по гостиной, время от времени ударяя концом своей тросточки
по медному тазу. На его длинном бледном лице и крупных розовых веках еще
висели блестящие капли.
Сколько призраков посещает этот дом последнее время!
Вон Ольберт озабоченно проходит через столовую, которая видна сквозь
стеклянную дверь. Слышна его одышка, потом он появляется.
Смех, да и только! Но он стоит в дверях -- слюнявый обрюзгший конунг в
поеденном молью веночке из бесцветных волосков. Он, видимо, только что вылез
из ванной, на нем влажный зеленый халат. Большое мягкое лицо сохраняет
капризное, младенческое выражение. Маленькие губки он постоянно облизывает
и, как психопат, строит рожицы, словно собираясь брызнуть слезами и слюной в
неожиданной истерике. Таким он был и при жизни, Рой, точно таким. Да что я
тебе говорю, как будто ты его не знал. Это сейчас, будучи стеклянным, ты не
узнаешь малыша Оле, нашего бутуза. А то бы ты, как бывало, встретил его
радостным лаем. Впрочем, говорят, собаки не любят тех, кто умер.
Наконец два призрака заметили друг друга и начали сближаться. Один
пофыркивая и непрестанно облизываясь, другой роняя розоватые слезы.
"А, герцог, как ваше здоровье?"
Ну да, как я не узнал его сразу -- это же герцог, старый знакомый!
4
-- Ну же, Китти, не плачь, мы выдадим тебя замуж за герцога.
Китти глухо воет и клацает зубами, забравшись в старый покосившийся
шкаф.
-- Китти, что у тебя с рукой, а? Это Вольф тебе сделал? Покажи руку,
Китти.
Китти удается укусить меня. У нее резцы не хуже, чем у тебя, Рой. Рукав
моего пиджака распорот, как саблей, а под ним, от большого пальца до самого
локтя, наливается кровью шрам.
Мерзкая Китти специально точила молочные зубы пилочкой для ногтей. "Все
равно выпадут" -- таков был ее аргумент. У меня до сих пор на руках не
зажили некоторые шрамы, Рой, которые мне оставила на память малютка Китти.
Но я не теряю терпения:
-- Китти, покажи руку. Если ты будешь послушной, то выйдешь замуж за
герцога. Если же ты не будешь слушаться своего папочку, да еще станешь
мерзко кусаться, то тебе придется ловить мышей в доме у какого-нибудь
заплесневелого адвоката. Они ведь такие скупцы! В день ты будешь получать
лишь каплю молока и какую-нибудь завалявшуюся кость. А когда ты подохнешь, с
тебя сдерут шкурку и жена адвоката сделает себе воротник. Подумай о мучениях
в темном шкафу, где тебя медленно пожирает моль. Вылезай оттуда, Китти, а то
тебе придется окончить жизнь в таком же мерзопакостном шкафу, как этот.
Китти неохотно вылезает. Она вся в пыли, одну руку держит во рту и
сосет.
-- Перестань сосать руку, Китти!
-- Все равно мне не быть женою герцога.
-- Отчего же? Ты думаешь, герцог не захочет жениться на моей дочери?
Ошибочка!
-- Да, но я не хочу за герцога. Мне больше нравится директор театра.
-- Хорошо, я выдам тебя за директора театра, если ты только вынешь изо
рта свою руку и покажешь ее мне.
Китти показывает мне свою руку. В ней небольшая круглая дыра с
коричневыми, как будто обуглившимися краями.
-- Это Вольф тебе сделал?
-- Да, это сделал гнусный Вольфганг. Теперь мне придется постоянно
носить перчатку, скрывая стигмат.
-- Она сама попросила меня об этом, -- вымолвил Вольф. Он стоял посреди
двора, в своем синем пальто, широкоплечий, с отражениями закатного света в
толстых выпуклых стеклах очков. Он собирался ехать на работу. В руках он
держал черный портфель, где, аккуратно завернутые в бумагу, лежали различные
инструменты.
-- Ты опять едешь на работу, Вольф?
-- Да, еду.
Что за работа была у бедного Вольфа, Рой! Его могли вызвать в любое
время суток, и он немедленно собирался и ехал. Часто он приезжал глубокой
ночью или даже под утро, смертельно усталый. И почему он выбрал именно эту
профессию?
5
-- Милый Ольберт, я чувствую себя неважно, -- сказал герцог, заламывая
прозрачные пальцы. -- Я тоскую.
-- Ну-ну, ваше сиятельство, бодрее! Мы все порой тоскуем, а я так
просто гнию.
Старичок в кресле начинает волноваться.
-- Отвратительно! -- бормочет он. -- Оле позволяет себе. Я всегда рад
видеть малыша, но считаю: уж если ты призрак, то будь скромнее, наконец. Не
годится игриво намекать на судьбу тела. И так ясно, что оно где-то
распадается в укромном уголке. Но Ольберт остался таким, каким был всегда.
Его с детства прозвали Tweedledoom в честь одного из близнецов Зазеркалья.
Вообще-то людям искусства многое позволено.
-- Над чем вы сейчас работаете, милый Ольберт? -- спрашивает герцог,
удержав рыдания.
-- Я вернулся к работе над ранней вещицей. Называется "Черная белочка".
Я начал ее почти ребенком. Литература, в общем-то, это сплошной переходный
период. Сейчас, через много лет, лишь редактирую свои пубертатные
откровения. Когда неумолимое половое созревание выталкивает нас за границу
детства, мы многое понимаем. В том числе и то, что нас так же бесцеремонно
вытолкнут из жизни.
-- Было бы чудесно, если бы прочли нам эту "Белочку".
-- Хорошо. Можно сегодня вечером. Я приглашу кое-кого. С удовольствием
прочту вещицу. Однако сейчас и я и мои вещицы -- мы не нужны вам. Вы ищете
Китти. Она в саду. Гоняется за бабочками. Если ей попадется птичка -- она и
птичкой не побрезгует.
Ольберт с хохотом хлопнул герцога по спине, и они разошлись. Писатель,
шлепая разношенными тапочками, отдуваясь, стал подниматься по лестнице на
второй этаж. Герцог, приложив к глазам руку, неверными шагами направился в
сад. По дороге он задел плечом стеклянную дверь, и она со звоном ударилась
об стену. Старик снова был один в гостиной.
6
Казалось бы, Вольф мог выбрать любую профессию. Перед ним были открыты
все пути. Он был такой способный! Тихий, серьезный, задумчивый мальчик.
Почти постоянно (за исключением занятий спортом) сидел в своей комнате над
учебниками. Особенно увлекался химией. Малыш Оле со слезами жаловался, что
брат пренебрегает им, не говорит с ним ни слова. Обиженный Оле забирался в
кресло и в исступлении дергал ножками.
-- Успокойся, Ольберт, -- тихо говорил Вольф.
Я хорошо помню, как он стоял в дверях гостиной, в аккуратной школьной
униформе серого цвета, и говорил, опустив голову, медленно протирая медную
пуговицу на рукаве: "Успокойся, Ольберт".
Он был угрюм больше обычного и смотрел на беснующегося Ольберта
исподлобья своими темно-синими печальными глазами. Оле удалось успокоить
только обещанием, что Вольф возьмет его с собой к учителю химии. Вольф ходил
к своему учителю химии каждую среду, и они вместе ставили опыты.
Вольф очень неохотно взял Ольберта к учителю химии.
-- Ну, Оле, что было там, у учителя химии?
-- Ах, папочка, -- Ольберт слегка зажмуривает глаза и быстро
облизывается (кажется, что у него два языка). -- Это было забавно. Мы пришли
в гнусный квартал -- грязные дома, высокие как небеса. И везде лужи, лужи:
озера, омуты темной воды. Свобода, неравенство, братство. Каждый прохожий --
проходимец. И все жадно смотрят на малыша Оле. Нищие хватают его съедобные
ножки, предлагаяя благословить.
Оле жалобно пищит. Оле поджимает свои неокрепшие коготки. Оле цепляется
за ручку своего братца Вольфика-в-гольфиках.
Неужели эльф Вольф, чистый, как больничное стекло, привел маленького
брата в места смрада и нестабильности? О, мокрые помойки нестабильности!
И вот, милый папа, перед нами огромный дом. Вавилонская башня
устыдилась бы. Железные лестницы лепятся по стене. Решетчатые ступеньки
покрыты белым мхом и скользким калом птиц. Я испуган. Я отказываюсь
балансировать на ржавых прутьях на потеху шалопаям. Однако -- "успокойся,
Ольберт" -- имеется и внутренняя лестница. Но, Боже, как она прекрасна!
Ущербные казенные ступени. Миллионы, миллиарды ступеней. Почти полная
темнота. Редко мелькнет ангельское видение: оконце. А так продвигаемся на
ощупь, держась за слизистую стену. Грязь. Грязь. Гольфики
Вольфика плачевны. Мы идем полчаса, мы идем час. О трагическая судьба
Ольберта! Он измучен. Он больше не может идти. А что же новоявленный
Менделеев? Вольф задумался. Вольф ушел в себя. Вольфу не до слюнтяя
Ольберта. Вольф стремится выше и выше... -- лицо Оле искривляется, он готов
снова разрыдаться, его кулачки истерически сжались, но рассказ все еще
наполняет его, выскакивая на маленьких губках вместе с пузырьками слюны:
Мы тащимся уже два часа. Что же ожидает нас там, наверху? Какой
искусственный рай, созданный химическим вдохновением, послужит наградой за
столь удручающие муки? Мы входим в зоны оживления. Несколько пролетов
заполнены голосами, брызжет свет, на лестницу распахнуты двери каких-то
анфилад. И слышна музыка. Вот неожиданность -- здесь музицируют. Этажом выше
-- ряд комнат, романтически освещенных свечами. Видно, тут играют в
увеселительные и, может быть, запретные игры.
Вольф не оглядывается по сторонам. Он поднимается мимо. Его ждет сам
учитель химии. Однако Ольберт уже не в силах идти. Может быть, ему надо
остаться здесь? Углубиться в какую-нибудь из анфилад, найти теплый серый
уголок? Уткнуться туда навеки, между небом и землей? Одинокий крошечный
толстячок, затерявшийся в великой и угрюмой суете мира...
Ротик малыша снова жалобно дрожит. В глазах стоят слезы. Вот его лицо
сморщивается, как мяч, который сжали пальцами. Еще мгновение, и он
запрокидывает голову, полностью отдаваясь воплю. Он уже не обращается ко
мне, но к самому Богу, приглашая Его стать свидетелем загадочного и
трогательного события. Нечасто ведь приходится наблюдать превращение пухлого
веселого существа в фонтан скорби,
7
Теплый полдень, склоняющийся к сумеркам. Старичок прохаживается по
комнате. Прислушивается. Слышен дальний стук пишущей машинки. Это Ольберт в
своем кабинете работает над тельцем "Черной белочки".
-- Вот уж не думал, что литераторы продолжают так щедро порождать текст
после своей смерти, -- смеется старик. -- Надо полагать, когда выйдет
собрание его сочинений, оно будет состоять из двух томиков: творчество
прижизненное и творчество посмертное. Белый томик, черный томик. Белый
домик, черный домик.
Когда же скончался малыш Оле? И как он скончался?
Не припомню. Отравление? Или сердце? Наверное, сердце. Наверное, после
сытного обеда он схватился за сердце и прилег на красный ковер. Скорее
всего, он состроил капризное личико.
Постарел я. Не помню, как умер Ольберт. Забыл и то, как умерли Вольф и
Китти. Да и зачем вспоминать об этом -- их призраки окружают меня. Бедняжки
меня не видят, но зато я их вижу. Раньше-то я думал, что бывает наоборот. Но
не все можно угадать заранее. Да, не все. Не все.
Старичок попытался подобрать с ковра газету, но она окончательно
рассыпалась.
-- Пойду погуляю по саду, пока еще не стемнело, Рой, -- обращается он к
стеклянному изваянию. -- Я бы взял тебя с собой, да ведь ты уже не тот, что
прежде, правда ведь?
Старик вышел в сад, понюхал воздух, насыщенный ароматами. Вернулся за
панамой и палкой и неторопливо отправился в сладкое марево. На песке видны
следы герцога. Тонкие, полупрозрачные следы. Старик наклонился над ними,
вставив в глаз монокль в виде черной трубочки.
-- Любопытные создания -- призраки, -- бормочет он. -- Казалось бы,
бесплотны, но кое-как оставляют следы. Наверное, из последних сил.
Он идет дальше, задумчиво тряся головой. Из-за цветущих кустов
доносятся голоса. Прислушивается, направляется туда. На садовой скамейке, в
тени, сидят герцог и Китти. Китти быстро вращает солнечным зонтиком.
Прозрачные тени вышитых на зонтике пчел и жирных шмелей скользят по ее лицу,
как тени карусельных лошадок по земле. Герцог держит под мышкой Киттин
сачок.
-- Так называемая "прелестница", -- поясняет герцог, рассматривая
пойманную бабочку. -- Действительно, прелестный экземпляр. Эти прожилки
позволяют ей прибегать к очаровательным уловкам: например, притворяться
цветком. Или, если дело происходит осенью, таять среди многоцветной, опавшей
листвы.
-- Хорошо бы мне растаять среди опавшей листвы, -- замечает Китти. --
Да так, чтобы вы, герцог, никогда меня не нашли.
Китти скучает, она болтает над песком дорожки своими начищенными
ботиночками.
-- Вы будете бродить по осеннему саду и тщетно, в безумной тоске,
искать свою супругу, герцогиню. Вы будете звать меня, но отвечать вам будет
только завывание ветра и шорох сухой листвы.
Впечатлительный герцог приложил к глазам платок.
-- Что это за платок у вас?! -- вскрикивает Китти. -- Откуда у вас этот
платок?
-- Не знаю, -- рассеянно отвечает герцог. -- Кажется, я нашел его
сегодня у вас в гостиной. Он лежал на лапе Роя.
-- На лапе Роя? Что вы такое болтаете? Это же папочкин платок! Неужели
вы не помните, что только у бедного папочки были такие платки -- даже не
знаю, как определить их цвет: бело-радужные, что ли...
А вот и его герб -- капля, разбивающаяся о поверхность воды!
-- Да, это мой платок, -- говорю я (я уже давно стою прямо перед ними,
опираясь на палку). -- Я сегодня предложил его герцогу, чтобы он мог
промокнуть потоки слез, детка.
-- Ну же, отвечайте! -- требует Китти, возмущенно уставившись на
герцога. -- Где вы его взяли?
На мои разъяснения она не обращает никакого внимания. Она меня вообще
не видит. То же самое -- герцог. Он смотрит прямо на меня, словно его
интересуют пуговицы на моем жилете, но при этом явно не различает ни меня,
ни пуговиц. Он молчит.
-- Признайтесь, вы его украли, -- говорит Китти и вдруг исчезает. Она
сорвалась, увидев бабочку. Вот она уже мелькнула в конце аллеи. Сачок она
забыла, но он ей не особенно нужен. Герцог плачет. "Не расстраивайтесь,
герцог", -- говорю я. Но он не слышит моих слов. К тому же он вовсе не
расстроен, он любит плакать.
-- Опять источает слезы! -- кричит Китти, возвращаясь. -- Могу вам
сообщить, что вы самый скучный и сентиментальный феодал на свете. Директор
театра уже давно рассказал бы мне что-нибудь смешное.
О да, директор театра! Воспоминания о нем никогда нас не покинут.
8
Маленький, смуглый, с шоколадными глазами. В безупречно скроенном
костюме, с бутоном на лацкане пиджака. Он появлялся в нашей гостиной и
ослеплял всех своей несколько экзотической, белозубой улыбкой. Он дарил
Китти цветы. Конечно. Ведь Китти должна была выйти за него замуж, если
только она не отдала бы предпочтение герцогу.
А помнишь, Китти, как мы навестили директора в Главном Театре? У него
был огромный кабинет, отделанный дубом. Этот кабинет находился прямо над
знаменитым театральным органом -- когда внизу исполнялись гимны, все здесь
вибрировало. В стены кабинета были вставлены овальные портреты прославленных
актеров этого театра. Их лица выступали как бы из жемчужного тумана.
Директор рассказал нам немного про каждого.
-- Вот бледная дама в пернатом шлеме Афины. Это актриса А., одна из
звезд нашего театра. Она была замужем за коммерсантом А. Он был ревнив.
Между тем мадам А. влюбилась в некоего господина Домиана и каждый вечер
приезжала к нему в своем автомобиле, который снаружи был весь черный, а
изнутри огненно-красный. Г-н А., естественно, не знал об этих визитах: его
супруга заявляла, что она участвует в спиритических сеансах в доме своей
знакомой, графини де Д. Ревнивец А., конечно, следил за ней, но всякий раз
убеждался, что элегантный автомобиль его жены останавливается у подъезда
графини. Однако ему не было известно, что затем мадам А. выбиралась из дома
своей знакомой через черный ход и, разными тусклыми коридорчиками,
застекленными переходами, висящими над грязными дворами-колодцами, проходила
к дому господина Домиана. Однако, что еще удивительнее, не только г-н А. не
знал о визитах актрисы в дом г-на Домиана, но и сам г-н Домиан не подозревал
о них. Дело в том, что г-н Домиан был глубокий старик, разбитый параличом. К
тому же слепой и почти глухой. Когда-то, много лет назад, ему случилось
написать блестящую комедию под названием "Совушка, или Приключения господина
Дориана". Рукопись этой комедии попала сюда, в Главный Театр. Одно время ее
собирались поставить, но по какой-то причине из этого ничего не вышло.
Рукопись затерялась в пыльных залежах театральной библиотеки, где ей было
суждено прозябать в полном забвении до того дня, когда ее случайно нашла
актриса А. Именно искрящийся юмор и прекрасный слог этой комедии покорили ее
сердце. А. решила во что бы то ни стало разыскать автора этого произведения.
И, действительно, вскоре она нашла его в темной, тусклой комнате, где не
было ничего, кроме огромного полуразвалившегося буфета с вставленным в него
так называемым зеркалом -- в этом отвратительном куске никогда ничего не
отражалось. Сам Домиан сидел в кресле с металлическими колесами, совершенно
лысый, закутанный в плед, в черных слепцовских очках, покрытый пылью и
окруженный мухами.
Мадам А. стала наведываться в эту комнату и с помощью большой трубы
разговаривать со стариком. Неизвестно, что она нашептывала в эту трубу,
поднося ее к уху старика, из которого торчали пучки седых волосков. Однако
окостеневший хозяин комнаты постепенно стал проявлять признаки волнения. Он
полагал, что оглох давно и полностью, поэтому голос, доносящийся до него,
казался ему пришельцем из потустороннего мира. Голос сочился как бы из
бесконечной дали, пробиваясь сквозь туманы глухоты, и в нем не было ничего
человеческого. Казалось, что он приносит с собой райские ароматы -- бедный
слепец не догадывался, что это изысканные духи мадам А.
Однако продолжалось все это не слишком долго. Вскоре коммерсант А.,
измученный подозрениями, обнаружил, куда ходит его жена. На существование
ветхого старика он не обратил никакого внимания, но у паралитика был сын,
некий господин сомнительной репутации, сердцеед, кутила и авантюрист.
Коммерсант немедленно воссоздал картину его тайных встреч с мадам А. в доме
старика. Обуреваемый гневом и ревностью, он разузнал, что господин
Домиан-младший каждый вечер имеет обыкновение бывать в карточном клубе
"Равель", откуда выходит обычно около двенадцати.
И вот, в зимнюю мрачную ночь он ожидал его у здания клуба.
Первоначально он собирался лишь переговорить с господином Домианом-млад-шим,
но когда он увидел его огромную шубу на лисьем меху, наглое лицо с
огненно-черными глазами, закрученные усы и щегольскую бородку, последние
сомнения покинули его. Он бросился на картежника с ножом.
Однако Домиан-младший был ловок, молод и резв. Потасовка длилась
минуту, затем раздался выстрел. Раб ревности умер в снегу, под горькие звуки
"Болеро", у входа в дом, где собирались рабы другого жестокого бога --
азарта. Автомобиль унес убийцу во мрак, и беснующаяся вьюга задернула за ним
свой занавес.
Господин Домиан-младший в ту же ночь уехал заграницу. Мадам А., узнав о
гибели своего мужа, надела траур, прекратила выступать в театре и
затворилась в своем загородном особняке. Ее визиты в угрюмую полупустую
комнату Домиана-старшего прекратились. Старец напрасно ожидал новых
откровений из иного мира. За это время он привык к нежным ангельским
нашептываниям и теперь очень страдал от скуки, которая раньше была ему
неведома.
Так в томлении прошло несколько лет.
Однажды, светлым майским днем, в городе снова появился Домиан-младший.
Он сбрил свои холеные усики и бородку, но его черные глаза сверкали еще
ярче, чем прежде. Выйдя из-под сводов вокзала, он увидел свежую афишу:
"Звезда театрального мира мадам А. возвращается на сцену! Сегодня премьера
спектакля "Совушка, или Приключения господина Дориана" по пьесе Д. Домиана.
Мадам А. в главной роли". Домиан-младший прошел дальше, постукивая тростью.
В тот же день этого господина можно было видеть в мрачной комнате с давно
обвалившимся буфетом, где было огромное количество паутины. Он привез своему
отцу, Домиану-старшему, слуховую трубу с огромным раструбом, которую он
купил в одной древней почитаемой аптеке в Германии. "Как поживаете, отец?"
-- спросил джентльмен в трубу. Кстати, это уже вторая труба в нашей истории.
Эти две слуховые трубы -- своего рода близнецы. Отец пожаловался на скуку.
Домиан-младший, недолго раздумывая, отправился к своему давнему другу,
директору театра (вашему покорному слуге), и получил два билета в ложу на
премьеру спектакля " Совушка, или Приключения господина Дориана".
В тот же вечер он вкатил в роскошно украшенную ложу кресло на колесах,
в котором сидел господин Домиан-старший, автор пьесы. В руке До-миан-старший
держал слуховую трубу, прислонив ее к уху и направив в сторону сцены.
Поднялся занавес. Зал был полон. Мадам А. вышла на сцену, согласно сценарию,
в белом платье, увенчанная шлемом Афины. На острие шлема была укреплена
стеклянная статуэтка белой полярной совы. При первых звуках ее голоса (ее
монолог начинался словами "Как давно, как давно я не была в этом доме...")
лицо старика необычайно оживилось. Он затряс головой, серебристые волоски в
его ушах затрепетали. Он пробормотал: "Я узнаю, узнаю..." Через несколько
минут он произнес: "Да, это оно! Снова оно, то самое..."
Еще через минуту он громко воскликнул: "Мне пора!" Не знаю почему, но в
театре началась паника. Дамы, лорнировавшие старца, стали кричать "Умер,
умер!". Старик, действительно, умер. До сих пор не понимаю, что произошло с
публикой! Должно быть, слухи о надвигающейся войне довели ее до истерики.
В суматохе Домиан-младший вынул из петлицы красную розу и бросил ее
мадам А., причем его эбеновые глаза сверкнули. Через месяц звезда
театрального мира актриса А. вышла замуж за господина Домиана-младшего.
Свидетелем на их свадьбе был ваш покорный слуга (легкий полупоклон).
Китти в восторге.
-- Однако чем кончилась история этого брака? -- осведомляюсь я.
-- Она кончилась печально. Через год Домиан-младший уехал в Карл-сбад
лечиться от желудочной язвы, но вскоре после этого от него пришла телеграмма
из Парижа, в которой он сообщал, что женился на какой-то аристократке и они
намереваются отправиться в кругосветное путешествие. Узнав об этом, мадам А.
отравилась.
(Пауза.)
Надеюсь, что не слишком огорчил вас, мадемуазель?
-- Нет, директор, мне совсем не жаль вашу мадам А. На мой взгляд, люди
вообще не заслуживают сочувствия, если их имя не длиннее одной буквы. Ведь
это, согласитесь, пустышки, а не люди. А что стало с трубами?
-- Слуховые трубы старика, эти эбонитовые близнецы, находятся в
Театральном музее. Они вложены друг в друга и навеки скреплены медным
кольцом. Это должно, видимо, означать, что все чувства человека (в том числе
и слух) обретают после смерти самодостаточность. Обнявшись, как Тристан и
Изольда, трубы лежат в музейной витрине, и о них больше нечего рассказать.
Зато я могу кое-что поведать вот об этом джентльмене в костюме Гамлета, чей
портрет я вам покажу, если вы соблаговолите вылезти из-под стола.
(Китти забралась под письменный стол и роется в мусорной корзине.)
На овальной фотографии можно было разглядеть худого мужчину с
ярко-красными губами и черными ретушированными бровями, одна из которых
криво приподнималась. Его чрезвычайно близко посаженные глаза, казалось, с
язвительным изумлением разглядывали зрителя. Эти глазки напоминали две едкие
икринки, выпавшие на скатерть из серебряного блюда, доверху наполненного
осетровой икрой. Из блюда, увенчанного снегом и лимонами.
-- Это Массо, знаменитый актер, оригинал, любопытнейший тип. Из всех
анекдотов о нем расскажу поучительную историю его гибели.
Он был донжуан и забавник. Однажды в его мозгу, среди прочих проказ,
зародилась идея свести вместе всех его любовниц. Он рассчитывал, что
вспыхнет скандальчик или образуется какое другое "неловкое положение",
которое даст ему повод исподтишка повеселиться. Такие этюды этот остряк
называл в кругу друзей "массовками". И вот он назначил женщинам "интимное
свидание", но всем -- в одном и том же месте, в одно и то же время.
Приготовив завтрак для двух персон в комнате, украшенной непомерно огромными
букетами белых роз, Массо предвкушал забаву, коротая время за пасьянсом --
он любил гадать на картах. Не знаю, что он себе нагадал, но случилось так,
что одна из его любовниц (некая дебютантка Р.) пришла первой и застрелила
проказника. Она была уверена, что никто в мире не ведает о назначенном
свидании. Обеспечив себе надежное алиби, она решилась жестоко рассчитаться с
любовником за бесчисленные измены, за унижения, за несдержанное обещание
устроить ей роль в одном из модных спектаклей. Однако не успела незадачливая
дебютантка покинуть комнату, как туда вошла следующая гостья. В панике
актриса застрелила внезапную свидетельницу. Р. уже хотела выбежать из
комнаты, но столкнулась в дверях с третьей любовницей, которую постигла та
же участь. Одержимая желанием покинуть наконец место преступления,
дебютантка снова бросилась к выходу, но увидела еще двух входящих дам.
Должно быть, не без сдавленного вопля убила их. То же самое ей пришлось
сделать и с седьмой любовницей Массо. В то же мгновение появились двое
других, которых она уложила двумя выстрелами. Десятая девушка была красавица
с золотистыми локонами, но и ее не удалось пощадить. Одиннадцатая была
совсем молода, почти ребенок -- это не спасло ее. Выстрелы все не
прекращались, как будто работал какой-то шумный, устаревший механизм. Через
какое-то время полицейские, защищенные пуленепробиваемыми щитами, ворвались
в комнату с букетами белых роз. Они обнаружили там тела Массо и его
семнадцати любовниц, а также совершенно безумную дебютантку Р., которая
сидела на софе и, продолжая заряжать пистолет, с сумасшедшим смехом
расстреливала входную дверь. Ее обезоружили и прямо из окровавленной комнаты
отправили в сумасшедший дом. До сих пор она там и все не устает бредить о
забрызганных клетчатых рубашках, о том, что белые лепестки роз надо успеть
перекрасить в красный цвет до прихода Королевы. Не знаю отчего (может быть,
пасьянс и серебряные вазы на столе сыграли свою роль), ее бред связан с
содержанием "Алисы в Стране Чудес". Больная называет себя вымышленным именем
Элси, искажая имя Элис. Она озабочена тем, чтобы карты успели перекрасить
белые розы в красные, хотя Алиса и Дама Сердец кажутся ей одним и тем же
лицом. Кровожадность Дамы Сердец она оправдывает тем, что все валеты, дамы и
короли -- двухголовые. Отрубить одну из голов не означает убить, это всего
лишь "укорачивание". Она вообще называет людей "двухголовыми" и старается
смягчить свою вину, утверждая, что убитые ею девушки -- всего лишь чьи-то
двойники. Классическая шизофрения -- ничего оригинального. На игральных
каргах персонажи кажутся "по пояс погруженными в зеркало". Элси тоже
попросила сшить себе юбку из зеркальной ткани, чтобы походить на карту. Я
иногда навещаю ее, приношу сладкое.
Директор театра, закончив рассказ, задумчиво склонил набок свою
небольшую голову. В его глазах не было ни тени смеха. Уж если бы болтунишка
Ольберт взялся рассказывать подобные побасенки, то в конце непременно бы
пустил пузыри.
Однако Китти уже давно не слушает. Она нашла где-то пыльные зеленые
леденцы и теперь сидит на шкафу и сосет. Мы слышим легкий свист и
причмокивание, как будто за резным фронтоном шкафа змея заглатывает кролика.
Директор ничуть не обескуражен.
-- Должно быть, я наскучил сеньорите глупыми приключениями из нашей
бесцветной театральной жизни, -- замечает он с небольшим полупоклоном.
Без сомнения, Китти, ты стала бы супругой самого тактичного господина
на свете, но... Не сложилось.
Это был жаркий летний день. Мы обедали. Я, Ольберт, Китти, герцог и
Вольф. Солнце обильно просеивалось сквозь заросли плюща, обвивающего решетку
веранды. Вольф недавно вернулся с работы, где он провел почти всю ночь.
Видно, он очень устал, хотя вообще-то он вынослив. Он ел суп, низко наклоняя
над тарелкой свою тяжелую лысую, густо посыпанную коричневыми веснушками
голову. Вот он доедает остатки дымящегося супа, откладывает ложку, тщательно
протирает губы салфеткой. Его глаза за толстыми стеклами очков, как всегда,
полуприкрыты, словно он погружен в какую-то глубокую задумчивость.
-- Китти, я хочу поговорить с тобой, -- начинает он (низкий, медленный
голос). -- Видишь ли, сегодня я имел возможность беседовать с одним твоим
знакомым...
Китти вопросительно поднимает брови.
-- Он, кажется, был директором театра...
Киттины брови поднимаются еще выше.
-- Был? -- вмешивается тонкий голосок Ольберта. -- Его что, уволили?
Выдворили из театра?
Вольф морщится, медленно, задумчиво потирает лоб ладонью.
-- Дело в том... Мы работали вместе...
-- Вот как? -- снова встревает несносный Ольберт. -- Вы, должно быть,
решили вместе поставить спектакль, а?
Вольф не слушает. Он думает о чем-то, напряженно отыскивает слова.
-- Китти, ты понимаешь, его поручили мне...
Глаза Китти медленно расширяются. Глупый Ольберт, все еще фыркая,
перетаскивает себе на тарелку длинный рыбий хвост.
-- Он был замешан в каком-то деле, Китти. Я работал с ним сегодня все
утро. Он ушел... Совсем ушел. Как бы это тебе сказать? Ушел врассыпную.
Понимаешь?
Ольберт перестает чавкать и переводит круглые глаза с одного лица на
другое.
Вольф неторопливо, рассеянно лезет за пазуху, роется во внутреннем
кармане. Кажется, он думает о чем-то другом.
-- Да, вот это. -- Он вынимает небольшой сверток. -- Он сказал
(морщится), что всегда хотел предложить тебе свою руку и сердце. Таково было
его желание. Он попросил меня об этом.
Вольф медленно, осторожно разворачивает сверток -- несколько слоев
плотной, непромокаемой бумаги -- и вынимает какой-то предмет. Это рука.
Небольшая, смуглая, прекрасной формы, с изумрудом на пальце. Не может быть
никакого сомнения. Эта красивая, слегка изнеженная рука могла принадлежать
только одному человеку в мире -- директору театра.
-- Это тебе, Китти, -- говорит Вольф, протягивая ей через стол
отрезанную руку. Он держит ее, как держат за спинку маленького зверька. --
На, возьми, Китти.
Китти не двигается. Вольф некоторое время держит руку на весу, наивно
ожидая, что Китти примет дар. Не дождавшись, Вольф осторожно кладет руку
директора возле Киттиного прибора. Но Китти только неподвижно смотрит на
руку, которая держит руку. Рука в руке. Маленькая, мертвая, смуглая -- в
большой, живой, бледной.
Затем он достает свой портфель, роется в нем. Извлекает из бокового
отделения тяжелый, немного влажный мешочек из грубой материи.
-- Сердце. Он просил меня передать тебе руку и сердце. Вот они. Вольф
протягивает мешочек через стол и кладет его рядом с рукой. Но Китти уже
исчезла, оставив упавший стул, опрокинутый столик,
грохнувшую стеклянную дверь. И, конечно же, крик. В таких случаях без
крика, как правило, не обходится.
9
-- Ну же, Ольберт, ты не закончил свой рассказ о том, как вы с Вольфом
ходили к учителю химии. Дай я вытру тебе слюни, и продолжай.
Ольберт продолжает. После истерики его интонации становятся иными -- он
говорит быстро, без гримас. В его лице появляется нечто суховатое и
значительное, как у человека озабоченного.
-- Ну, нечего рассусоливать. Дорасскажу коротко. Я видел учителя химии.
Наше восхождение было ненапрасным. Это замечательный человек. Как описать
мудреца? Легенда гласит, что Конфуций, после единственной встречи с Лао Цзы,
произнес одну лишь фразу: "Я видел дракона". Я тоже видел дракона. Он
скромен, очень благожелателен, вежлив. Но... Какое ощущение оставила во мне
эта встреча? Знаешь ли, только горечь. Мне самому хотелось бы быть его
учеником, но я ведь ничего не смыслю в химии. Наука, ко всему прочему,
кажется мне страшной.
В этот раз учитель говорил о химии оплодотворения, о химии размножения
у животных и растений. Мне казалось, он все время говорит обо мне. О моей
душе. Я никогда прежде не слышал речи столь телепатически проницательной. Он
подробно охарактеризовал сперматозоид. Я узнал себя. Я чувствовал себя
Нарциссом, впервые заглянувшим в воды реки. Я не смог слушать дальше. Я
уснул.
-- Как же выглядит этот дракон?
-- Никак. Обычный старик. Можно сказать, у него и нет внешности, если
не считать тех атрибутов, которыми любой настоящий старик должен обладать:
он лыс, сед, у него длинная борода, морщины... В таких случаях принято
добавлять: "Но вот глаза! В глазах!.." Но и в глазах у него не было ничего,
кроме старческого здравомыслия. Не в глазах дело. Где мой белый спиральный
хвостик, которым я, как пружинкой, оттолкнулся бы от зеленых стен, покрытых
золотым и однообразным орнаментом?
Там, наверху, очень уютно. За бедной дощатой дверью, похожей на дверь
сарая, открылась нам зала со стеклянными потолками. Когда-то здесь было
ателье одного скульптора. Мы были словно в колоссальной теплице, к тому же
по стеклам струился дождь. Чаепитие за небольшим столиком. Кресла очень
мягкие. Кроме этих кресел, мебели нет. В дальнем углу -- обитый железом
химический стол, заставленный склянками. Они же, как армии перед битвой,
тесно стоят на полу, так что приходится передвигаться на цыпочках, чтобы не
раздавить колбы с эликсирами бессмертия. В толпе химической посуды взгляд
удивленно находит стеклянного кенгуру, крупные осколки вомбатов -- то, что
осталось от скульптора. После беседы Вольф и учитель встают и направляются к
железному химическому столу. Они идут неторопливо, осторожно пробираясь
между расставленными на полу колбами и ретортами. Учитель несколько раз с
улыбкой оглядывается, приглашая меня следовать за ними. Но я не в силах
подняться. Кресло мягкое, словно вязкая каша. Я слишком устал во время
нашего восхождения, уже не могу противиться сну. Но любопытство все же не
совсем потухло -- со своего места я пытаюсь разглядеть, что делают учитель и
Вольф. Однако комната, как я уже сказал, очень просторная, и в пасмурной
полутьме их почти не видно в дальнем углу. Только шелест дождя и отблеск
огня -- наверное, зажгли горелку -- и две тени, низко нагнувшиеся над
столом. Но я уже не могу всматриваться -- я сплю.
10
-- Все же я не могу понять этого, Вольф! Ты же способный
естествоиспытатель, ты так долго занимался химией... Нет, постой, не
перебивай меня, я знаю, что ты хочешь сказать -- что, занимаясь той
профессией, которую ты себе избрал, ты, в известном смысле, останешься
естествоиспытателем. Не спорю... Пойми меня правильно: ты с детства был так
серьезен, так вдумчив, вечерами ты всегда сидел над книгами в зеленоватом
свете своей настольной лампы. Иногда я украдкой подходил к двери твоей
комнаты и смотрел на тебя сквозь узорчатое стекло. Твой выпуклый лоб почти
соприкасался с раскаленным колпаком лампы, в стеклах очков плавали сияющие
пятна, и твои вывернутые веки казались опаленными ярким солнцем, твои
сильные плечи склонялись, как будто под гнетом знаний о мире -- тех, что
некогда ускользнули от меня.
Ты любил заниматься спортом, Вольф. Ты ходил на футбольное поле в
старом сосновом лесу, где я иногда поджидал тебя на рассохшейся скамейке,
предаваясь размышлениям среди хвои, тумана и комаров. Я рассеянно мечтал о
том (должно быть, только потому, что под рукой у меня не было других, более
увлекательных грез), как ты совершишь научное открытие и наше родовое имя
будет навеки связано с каким-нибудь еще неизвестным элементом, с
неизведанным типом реакции, с закономерностью. Неужели ты утратил
способность охватывать целое, и всякая вещь в твоем взгляде распадается сама
собой, крошась на частицы?
Разговор происходил вскоре после мрачного случая с рукой и сердцем.
Вольф, после некоторой паузы, ответил мне:
-- Отец, трудно объяснить то, что слишком уж нуждается в объяснениях.
По мне -- лучше бы промолчать. Дело мое не имеет ничего общего с по-.
знанием -- я отказался от познания и от науки. Возможно, я не заслужил их.
Или они не заслужили меня. Научное познание желает влиять на будущее, я же
предпочел простую сосредоточенность на том, что не имеет продолжения, -- на
безнадежном. Я всегда был слишком застенчив, мучительно застенчив, а из
застенчивости и мук рождается застенок, где мне и место. Порою говорят:
заплечных дел мастер. Я не считаю себя мастером. Я тень, которая немного
дает о себе знать. Изнанка, лишь слегка проступающая сквозь фасад.
-- Все это, Вольф, пустые слова, -- раздраженно прервал я его.
-- Хочу сказать только, что я не жестокий, -- угрюмо промолвил Вольф.
-- О нашей работе столько легенд. Они наивны. Редко мне приходится лишать
жизни или причинять боль. Меня вызывают внезапными звонками в течение дня и
ночи только потому, что мое присутствие успокаивает. В нашей стране, как и в
других странах, власть имущие более других заслуживают сострадания: человек
пятнадцать истерзанных стариков, похожих на растоптанные куски льда. Кто,
кроме меня, способен пожалеть их? Для них было бы лучше, чтобы с ними
расправились в одночасье. Но народа нет, есть публика. И она предпочитает
исподволь издеваться над ними, потерявшими остатки чувствительности. Чтобы
продлить издевательство, бразды правления не изымают из их сморщенных,
веснушчатых рук. И только я могу изредка отомстить за стариков -- расчленить
расчле-нителя, заговорить заговорщика.
-- Честно говоря, с недоумением слушаю тебя, сынок. Сколько живу,
никогда не думал о власть имущих. Мы -- вольный род, которому нет дела до
каких-то там правителей.
-- В нашем вольном роду, как я слышал, было немало извращенцев. Вам
было бы проще думать, что я садист. Ну что ж, думайте так. Хотя я вовсе не
садист, разве только понимать под этим словом бесконечную скуку и
бесконечную ответственность. Мне вот не могут простить, что я расчленил
директора театра. Но он был преступник. Все его анекдоты о подстроенных и в
то же время случайных убийствах, которые мы принимали за светскую мифологию,
на самом деле содержали в себе скрытое зерно -- в искаженной и пошлой форме
он щеголял перед нами своими собственными преступлениями. Свои злодеяния он
переодевал и раскрашивал, придавая им вид заведомо искусственный, вид
ярмарочных паяцев. И такой человек мог стать мужем Китти! Теперь о судьбе
девчонки можно не беспокоиться -- она будет женой герцога. Герцог живет,
руководствуясь правилом: "Все существующее смывается горькими слезами".
Слезы никогда не бывают неуместными, ведь мы обитаем в Юдоли Слез. Слезы --
я мог бы рассказать об их химическом составе...
-- В другой раз. Ума не приложу, как тебе вообще пришла в голову мысль
заняться таким ремеслом. Может быть, какие-нибудь книги на тебя повлияли?
-- Конечно, я изучил целый ряд книг. "Пытки и орудия пыток от древности
идо наших дней", "Техника наказания", "Психологические аспекты смертной
казни", "Медик и священник: последний час жизни осужденного перед казнью",
"Эволюция телесных наказаний в Китае", "Допрос и дознание", "Расстрел",
"Использование психотропных препаратов при допросе", "Гении пристрастного
допроса: традиции и индивидуальность", "Безболезненные пытки", "Казнь
унизительная и казнь возвышенная", "Зрелищные аспекты публичной казни",
"Огонь и вода как средства издевательства над телом и душой", "Железный
чулок", "Дневники палача-краснодеревщика", "Колодки", "Ужас и He-Ужас",
"Крест, Петля и Яма", "Электричество против лжи", "Детектор лжи и другие
Машины поиска истины", "Завтра меня не будет", "Гильотина", "Гильотина и
Революция", "Яды", "Этика пристрастия".
-- Неужели эти теоретические работы навели тебя на мысль о выборе
профессии?
-- Я ощутил свое призвание внезапно. Если помнишь, в школе, которую я
посещал, было принято танцевать народные танцы. Иногда нас возили в
отдаленные деревни, чтобы мы обучились древним танцам, еще сохранившимся в
этих уголках. Как-то раз нас повезли особенно далеко, в настоящую глушь.
Приехали в деревню. Это был день праздника, отмечаемого только в тех местах.
Люди, одетые в яркое, танцевали на зеленом лугу. Мы, дети, тоже были одеты в
фольклорные костюмы. Я всегда чувствовал себя неловко в этих пестрых
тужурках, обшитых бахромой, в сапожках с бубенцами. После танцев, когда все
присели к костру, мы с приятелем, усталые и удрученные шумом и непривычными
скрежещущими звуками музыки, отправились на прогулку, чтобы не участвовать в
разговоре и гаданиях. Гуляя, вышли на небольшой обрыв. По пути нарвали
орехов, но они оказались совсем незрелые. Вдруг внизу появились четыре
фигуры, стремительно бегущие в нашем направлении. Впереди бежал мужчина, его
настигали три женщины. Мужчина начал карабкаться на обрыв. Когда он уже
почти добрался до нас (мы стояли неподвижно, в своих нелепых ярких одеждах),
женщины настигли его. Это были три старухи, каждая сжимала в руке кнут. Они
стали беспощадно бичевать его. Он вертелся на земле, сворачиваясь и
прикрывая себя руками. Все они молчали, никто не издал ни звука -- только
свист кнутов. Наконец, одна из старух сделала жест рукой, означающий конец
наказания. Она подошла к лежащему в пыли человеку и произнесла единственное
слово: "Xu6of|". На малоизвестном наречии тех мест это означает "выкидыш", и
там это считается тяжелейшим оскорблением. Старухи ушли. Избитый с трудом
приподнялся. Он был одет как деревенский щеголь: черная шелковая рубашка,
кожаные штаны, на запястье золотая цепочка. Лицо у него было старое,
окровавленное. Свалявшиеся, седые волосы. С того места было далеко видно.
Где-то горели костры, и остатки хороводов еще кружились на лугах.
Потом мне рассказали, что много лет назад этого человека здесь считали
отравителем. Доказать его вину не удалось.
Тогда я понял, какому делу мне придется посвятить себя. Старая Эриния,
произносящая "ксюдонь", и резкий этнографический привкус этой сцены, черные
праздничные платья старух, богато расшитые черным бисером, -- все это было
случайностью, но из разряда тех случайностей, которые служат року.
-- Ну что ж, Вольф, ты, пожалуй, романтик. Ведь мы назвали тебя в честь
серого волка, подбирающегося к детской колыбели. Ну, не знаю, не знаю...
Лично я не выношу казней.
11
Стемнело. В гостиной мерцает только огонек сигары, которую хозяин дома
по обыкновению закуривает в сумерках. Наконец зажигается лампа -- оранжевый
торшер над глубоким креслом. Старичок недавно пробудился от бездонного
послеобеденного сна. Поискал газету, но не нашел. Странно. Внезапный резкий
звонок. Ага, это гости -- почитатели Ольбертова таланта. Стук, голоса,
кто-то рассмеялся. В одно мгновение вспыхивает десяток ламп. Ого! Смеясь,
они наполняют гостиную. Рассыпались по красному ковру, уселись на спинках
кресел. Некто, похожий на посетителей ипподромов, нервно расхаживает взад и
вперед со стаканом вермута, нетерпеливо пощелкивая пальцем по щеке. Здесь
даже министр изящной словесности -- длинноволосый, неподвижный, в сером
грубом пончо. За ним скромно согнулся человек атлетического сложения, он,
как всегда, не знает, куда деть свои сильные обмороженные руки. Это старый
друг семьи -- скульптор, работающий по стеклу. А публика все прибывает! Наш
старичок уже давно покинул свое место в большом кресле, уступив его двум
девушкам, болезненно одетым во все белое, вязаное на спицах. Потом незаметно
появилась еще одна такая же девушка. Эти девушки -- тройняшки. Личики у них
бледные и почти совсем одинаковые, только кулончики на белых шейках содержат
в себе искры различных оттенков. Оседлан даже стеклянный Рой -- на нем
расположился посол Японии. Старика, как водится, никто не замечает. Наконец
появляется Ольберт. Он в новой кофте с кармашками -- вокруг жирной талии
бегут полярные олени, над их головами вышито северное сияние. Под руку с
герцогом спускается по лестнице. Все в сборе? Отсутствуют Китти и Вольф.
Китти, заплаканная, спит в своей комнате -- ей не разрешили присутствовать
на чтении по причине позднего часа. Вольф предпочитает одиночество.
Вот Ольберту подносят теплое молоко с инжиром (он якобы простужен).
Наконец, он вынимает какие-то мятые бумажки, разглаживает их, надевает очки,
обводит присутствующих изумленным взглядом и произносит:
-- То, что я вам прочту, имеет название "Черная белочка". Оно состоит
из двух частей. Я начну с первой части, которая называется УТРО.